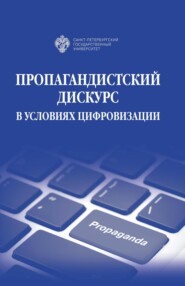
Полная версия:
Пропагандистский дискурс в условиях цифровизации
Алармистское понимание пропагандистского воздействия как хаотичного, самовоспроизводящегося, самостоятельно развивающегося феномена, вероятно, получило распространение и по причине осложненности идентификации субъектов, ключевых акторов, инициаторов этого процесса. Тем не менее в современном мире укрепляется понимание информационно-коммуникационных процессов как наиболее важных для любого взаимодействия, развития и, что особенно значимо в условиях возрастающей турбулентности и непредсказуемости развития событий, – для обеспечения безопасности государства и общества.
Так, информационно-пропагандистская деятельность государств в условиях кризиса современного мирового порядка, который характеризуется переходом от однополярной модели к полицентрической системе международных отношений, представляется одним из главных инструментов геополитической борьбы[193]. При этом, как отмечают многие эксперты, информационное противоборство России и условного коллективного Запада продолжает строиться в русле холодной войны и инициируется коммуникаторами всех сторон конфликта[194]. Однако сегодня, когда некоторые инструменты гибридных и информационных войн, концепций реализации так называемых цветных революций, благодаря их освещению в СМИ, а также сами факты существования подобных технологий стали известны массовой аудитории, в сознании общественности закрепляется представление, что каналами пропагандистского воздействия могут быть не только СМИ, политические лидеры и лидеры общественного мнения, но и новые каналы, которые в массовом сознании не связаны с политикой и пропагандой. Так, в 2018 г. в газете Teh Times была опубликована статья[195] о пропагандистской составляющей популярного во многих странах мира российского мультсериала «Маша и Медведь».
Вместе с тем инструментарий профессиональных пропагандистов всегда был достаточно широк. Еще в Отчетном докладе ЦК XXIV съезду КПСС отмечалось: «Мы живем в условиях неутихающей идеологической войны, которую ведет против нашей страны, против мира социализма империалистическая пропаганда, используя самые изощренные приемы и мощные технические средства. Все инструменты воздействия на умы, находящиеся в руках буржуазии, – печать, кино, радио – мобилизованы на то, чтобы вводить в заблуждение людей, внушать им представления о чуть ли не райской жизни при капитализме, клеветать на социализм. Эфир буквально насыщен всевозможными измышлениями о жизни нашей страны, братских стран социализма»[196]. Тем не менее современные процессы значительно усложнились, ускорилась передача информация, исчезло однозначное понимание некоторых коммуникационных процессов как выстроенных исключительно в рамках ассиметричной модели коммуникации, доступ к информации и ее генерации появился буквально у каждого. Термин «пропаганда» приобрел исключительно негативную коннотацию[197], а исследовательское поле постепенно расширяется благодаря изучению новых информационно-коммуникационных феноменов, таких как информационные, психологические, гибридные, когнитивные войны[198], стратегические коммуникации, «мягкой силы» и т. п.
Тем не менее, как отмечает Ю. М. Колосов, «распространение массовой информации среди населения иностранных государств – объективная реальность, порожденная как сотрудничеством, так и борьбой между государствами. Однако характер ее практического использования зависит от целей, которые преследуются на международной арене тем или иным правительством. Можно полагать, что в процессе дальнейшего упрочения и развития принципа мирного сосуществования государств с различными общественно-политическими системами возобладает трезвая политика ограничения использования средств массовой информации и запрещения пропаганды, чреватой обострением в международных отношениях»[199]. Поэтому пропагандистские процессы, разворачивающиеся в международном пространстве, остаются одними из перманентных и латентных явлений, характерных для различных исторических этапов.
В контексте обсуждения проблемы идентификации акторов пропаганды необходимо отметить, что формат противоборства на определенном этапе предусматривает появление и контрпропагандистов. Их постоянное противоборство особенно отчетливо проявляется в новой сфере – в современном цифровом пространстве, которое наглядно демонстрирует возможность субъекту пропаганды выступать как источником, так и получателем сообщения[200]. С точки зрения теории коммуникации эта возможность подтверждается и принятым в современной науке подходом к коммуникации как к субъект-субъектному взаимодействию, опосредованному информацией, имеющей смысл для обоих субъектов[201]. Современные средства коммуникации и онлайн-технологии позволяют каждому пользователю мировой цифровой паутины не только получать и анализировать, но и продуцировать, дополнять, распространять различные виды контента. Такая доступность и открытость породила представление об Интернете как о площадке, позволяющей в полной мере реализовать демократические права человека и идею о некоем всеобщем равенстве, а о коммуникации – как о доступном, открытом процессе, все участники которого равнозначны. В новой системе так называемой демократической коммуникации основой становится убеждение, а потребитель информации перемещается с пассивных на активные позиции[202].
Тем не менее сегодня подобное отношение к цифровой среде кажется чересчур идеализированным: влияние новых медиа на политические, социальные, общественные и экономические процессы оказалось настолько велико, что поставило под вопрос обеспечение национальной безопасности ряда государств; помимо этого, развитие искусственного интеллекта и формирование больших баз данных (big data) накладывает определенные ограничения на права и свободы человека[203] и т. д.
Американский военный аналитик Тимоти Томас суммировал набор угроз[204], вытекающих из развития информационных технологий, отметив, что эти технологии представляют опасность для всех стран, при этом отсутствуют легальные механизмы противодействия, одобренные всем международным сообществом. Кроме того, к новым угрозам относится возникновение новых методов манипуляции восприятием, эмоциями, интересами и выбором, а также доступность больших массивов информации для всех (включая террористов). Современные реалии подтверждают эти тезисы.
Платформы социальных сетей обеспечивают каналы эффективной пропаганды в цифровой среде, где можно легко обойти функцию контроля и проверки фактов, предоставив аудитории прямой доступ к материалу. При этом, вовлекаясь в процесс взаимодействия, идентифицируя и изучая те или иные сообщения, идеи, установки, пользователи могут также начать продуцировать собственный контент, дополнять существующий, таким образом являясь и получателем, и отправителем информации, а также выполняя собственно функции канала коммуникации[205]. Развитие подобного сложного и многосоставного взаимодействия в новой информационной среде говорит и о появлении нового вида пропаганды, получившего в научной литературе такие определения, как компьютерная пропаганда[206], цифровая или диджитал-пропаганда[207], киберпропаганда[208].
Несмотря на кажущуюся прозрачность и персонифицированность коммуникации в Интернете, идентификация субъектов компьютерной пропаганды не всегда можно признать простой задачей, учитывая, что в данной технологии каналами передачи информации, помимо самих пользователей, выступают так называемые боты – роботы, симулирующие действия реального человека, имеющего свой цифровой профиль в социальных сетях[209].
Доминирующими игроками на поле компьютерной пропаганды выступают акторы, обладающие глобальным доступом к сетевой информационно-коммуникационной инфраструктуре и достаточными ресурсами для использования масштабных компьютерных технологий при осуществлении информационного воздействия: крупные корпорации, политические партии, правительственные структуры, медиагиганты и т. п., чье особое положение в новой цифровой среде говорит об их возможном влиянии на пропагандистский интернет-дискурс.
Исследователь Л. Манович в связи с тесным взаимопроникновением в коммуникации цифровых технологий выделяет новые так называемые дата-классы: непосредственных пользователей, не обладающих компетенциями работы с big data; акторов, обладающих возможностями и компетенциями сбора цифровых данных; акторов, обладающих возможностями и компетенциями анализа big data; владельцев алгоритмов по обработке, анализу и интерпретации данных, способных конструировать на этой основе программы убеждающей коммуникации и пропаганды[210].
Для субъектов компьютерной пропаганды, как и для субъектов традиционной, существующей в офлайн-среде, характерны также два уровня субъектности: уровень профессионалов-специалистов и уровень представителей социальных элит, которые обнаруживают тенденцию сращивания традиционных политических и бизнес-элит с элитой технологической[211].
Особенности реализации пропагандистского воздействия в цифровой среде позволяют также говорить о том, что коммуникативные процессы в сети Интернет ведутся сразу на двух уровнях: коммуникативном и метакоммуникативном. О концепции коммуникации Грегори Бейтсона, согласно которой метакоммуникативный уровень задает модус передаваемого сообщения, подробно пишет в своем исследовании Ф. Гуддеми[212]. Метакоммуникативные процессы должны соотноситься с теми или иными жанрами, с теми или иными типами дискурсов, а человек, владеющий речью, – одновременно владеть набором принятых в данной структуре типов дискурсов, поскольку в каждом из них существует свой вариант коммуникативного поведения и восприятия[213]. Использование различных форм воздействия в рамках пропагандистских процессов говорит о необходимости понимания содержания такого метакоммуникативного уровня субъектами пропаганды, которые пытаются внести изменение поведение адресата. Коммуникатор, являясь субъектом пропаганды, передает не просто сообщение, а зашифрованный импульс к новой программе действия. При этом самодостаточные коммуникативные субъекты, включенные в схему пропагандистского воздействия, могут усиливать этот импульс, заложенный бенефициаром пропаганды: лидеры общественного мнения, с которыми в первую очередь выстраивают свое взаимодействие пропагандисты, оказывают огромное влияние на массовую аудиторию[214]. Поэтому в пропагандистском воздействии важным является не столько передача информации, сколько влияние субъектов, включенных – заведомо или естественным путем – в эту многоступенчатую схему взаимодействия. Этот тезис ярко иллюстрирует концепция привратника[215], которая вскрыла процесс фильтрации информационного пространства средствами массовой информации и журналистами непосредственно.
Г. Г. Почепцов, пытаясь охарактеризовать особенности субъектов пропагандистского дискурса, приводит доводы У. Эко, который считал, что пропаганда как вид прикладных коммуникаций действует в ситуации «патерналистской педагогики», где нет планирования, исходящего от самого субъекта коммуникации: он не отвечает ни за свое прошлое, ни за будущее, ему просто предлагают результаты уже созданных проектов, которые соответствуют его желаниям[216]. То есть функция формирования этого проекта отведена ключевому актору пропаганды, так называемому бенефициару, о котором мы говорили выше. Идентификация этого актора является одной из наиболее сложных исследовательских задач, учитывая многоступенчатость, многогранность процесса и фактическую невозможность обозначить точные хронологические периоды тех или иных пропагандистских кампаний, которые, сконцентрировавшись в руках крупнейших геополитических акторов, вероятно, плавно переходят из одной в другую, с поправкой на уточняющиеся стратегические цели, изменение характера медиапотребления аудитории и появления новых информационно-коммуникационных технологий.
Однако, рассматривая пропаганду как один из специфических видов прикладных коммуникаций, можно предположить, что по аналогии с анализом PR-коммуникаций[217] для пропагандистского воздействия характерно наличие базисного и технологического субъектов. Под базисным субъектом в зависимости от степени изученности конкретных фактов пропагандистских кампаний можно понимать бенефициара, коммуникатора, субъекта пропагандистского дискурса, актора пропагандистского воздействия. При этом многоступенчатый характер и масштаб пропагандистской кампании предусматривают выполнение ими и функций технологического субъекта. Учитывая высокий уровень концентрации современного информационно-коммуникационного пространства, доступность инструментов и каналов коммуникации для каждого пользователя, увеличение количества социальных взаимосвязей и общую непредсказуемость мировых процессов, пропаганда является одним из неотъемлемых и подвижных с точки зрения функциональности субъектов современных коммуникационных процессов, которые по сей день остаются в центре внимания отечественных и зарубежных ученых.
3.2. Маркеры пропагандистских посланий. Разнообразие объяснительных схем
Проблема идентификации пропагандистских сообщений на сегодняшний день становится для исследователей актуальной по ряду причин. Во-первых, обнаружилось, что в цифровом обществе пропагандистская деятельность переживает своеобразный ренессанс, более того, она охватывает практически все сферы – от политики до экономики и культуры. Во-вторых, эта деятельность часто носит камуфлированный характер: чрезвычайно непросто распознать фейковую информацию (наиболее радикальную форму пропагандистского воздействия) в силу слабой верифицируемости ее содержания – в современном мире слишком много источников разнонаправленной информации, и вместо того, чтобы прояснять ее содержание, многочисленные попытки интерпретации этой информации вводят в заблуждение реципиента. В-третьих, как отмечалось выше, если в индустриальную эпоху источником пропагандистского воздействия почти исключительно выступало государство, то в условиях информационного общества любой интернет-пользователь может выступить в качестве пропагандиста.
Поэтому представители различных наук и научных направлений стремятся решить проблему фиксации пропагандистских посланий. При этом анализ содержания различных дискурсивных площадок находится в центре внимания как отдельных исследователей, так и целых коллективов, разрабатывающих эффективный инструментарий по выявлению методов и эффектов пропагандистских воздействий.
В этом отношении следует отметить работы Национального института США по междисциплинарным исследованиям в сфере киберпространства (Army Cyber Institute), который вовлек в свою деятельность Министерство обороны и армейские подразделения США, правительства разных стран, академические и промышленные киберсообщества. Исследования пропагандистских коммуникаций зиждутся на нескольких базовых принципах, выработанных институтом: проверка фактов из статей и постов через сайты Snoops, Politfacts и другие[218], контент-анализ с использованием компьютерной лингвистики. Для проведения контент-анализа сотрудники института выделяют такие критерии, как оценочность заголовка, наличие описательных слов в тексте статьи или поста, оценка тона и наличие повторений. По мнению Ч. Сэмпла, К. Джастиса и Э. Даррей, именно эти факторы помогают выявлять как пропаганду, так и фейковые новости в сети[219].
Исследователи из Университета Южной Флориды используют методы корпусной лингвистики для анализа, основываясь не только на ключевых словах, но и на последовательности лексических единиц, особое внимание уделяя просодическим ассоциациям, когда исследуются особенности тона, ударения и соотношения фраз и слов в устной речи для выявления специфических особенностей. Для этого ученые, например, проверяют, какие прилагательные чаще всего встречаются с существительными «обидчик», «лжец». Как и их коллеги из Национального института США по междисциплинарным исследованиям в сфере киберпространства, сотрудники университета уделяют особое внимание наличию повторений: так, по мнению ученых, использование слова «плод» вместо слова «нерожденный» – это сильный маркер политической позиции автора в отношении абортов. Вместе с тем исследователи учитывают общий корпус слов и отдельно ищут слова, выражающие эмоциональную составляющую передаваемых сообщений – с точки зрения специалистов, именно анализ эмоций в тексте является ключом к пониманию пропаганды[220].
Некоторые исследовательские организации изучают уровень цифрового влияния с помощью алгоритмов самих платформ, измерения уровня авторитарности страны – источника контента и пытаются отследить монетизацию пропагандистского контента. Например, подобные методы используют американские Институт национальной стратегической безопасности (Institute for National Strategic Security) и Университет национальной обороны (National Defense University) при публикации своих отчетов о цифровом влиянии[221]. В частности, кейс с освещением новостей о COVID-19 в разных странах эти структуры исследовали именно таким образом.
В то же время часть ученых полагает, что только количественные показатели и использование экспериментов могут продемонстрировать реальный уровень воздействия пропаганды на читателей. Ряд исследователей специализируются на вычислительной пропаганде и анализе нежелательных новостей. В этом отношении хорошо известен Оксфордский институт Интернета (Oxford Internet Institute), который изучает компьютерную пропаганду с 2012 г., фокусируя внимание на эффективности ее воздействия. В основном данные таких исследований касаются социальных сетей, так как в них можно отследить реакцию пользователей, основываясь на таких количественных показателях, как лайки, репосты, комментарии. Например, С. Крейг, Д. Л. Федер, А. Цветкова и О. Белфорд составили список ключевых слов, касающихся выборов (и прежде всего спорных тем, связанных с выборами), а затем запросили такой же список в программе мониторинга СМИ (Buzzsumo)[222]. Эта программа достаточно популярна среди маркетологов и экспертов, так как она способна выявлять рейтинг влиятельных фигур в том или ином сообществе, успешные посты и статьи по заданной теме, определять тренды на основе проведенного анализа. Алгоритм действий позволил ученым составить список ключевых слов самостоятельно, а затем сверить его со списком, предложенным Buzzsumo.
Главным критерием ранжирования стал параметр публикаций, получивших наибольшее вовлечение пользователей. Затем ученые исследовали аномальную активность читателей, пытаясь вычислить, на какой платформе размещается эффективный пропагандистский контент, а в каком случае активность формируется искусственно для привлечения внимания к той или иной публикации, и для создания такого внимания используются боты. Очевидно, что деятельность ботов по стимулированию активности пользователей за счет специальных алгоритмов и программ выступает осложняющим фактором, который мешает увидеть целостную картину, поэтому все более востребованной становится комбинация количественных и качественных методов для исследования феномена пропаганды.
Еще одна группа ученых – это специалисты, которые переносят методы сбора данных, построения социальных графов и отбора ключевых слов, применяемые обычно для отслеживания терроризма в социальных сетях, на исследование пропаганды. Выявить пропаганду, по их мнению, можно только вручную, так как именно конкретный пользователь может оценить, какое воздействие на него оказала та или иная публикация, в то время как любая работа с большими данными может иметь искажение в понимании результата и погрешности в статистических данных. Однако и эти ученые вынуждены прибегать к количественным методам. А. Амарасингем, Л. Доусон, Д. Парек и Д. Рутс, специалисты «Инициативы по исследованиям терроризма» (Terrorism Research Initiative), одного из крупнейших исследовательских консорциумов в области исследований терроризма, самым простым способом для работы с постами и отслеживанием их принадлежности к терроризму или пропаганде считают построение социальных графов[223].
Одним из главных критериев, необходимых для выявления пропаганды, является авторитетность, в определенном смысле популярность, источника посланий, которую как раз и выделяют с помощью социального графа. Авторитетность в социальном графе можно анализировать разными способами. Самый простой способ предполагает сортировку участников по количеству входящих «ребер». Если их достаточно много (десять и более), то это свидетельствует об авторитетности источника информации. Другой используемый способ – это RageRank, то есть упоминание сообщения или его автора на других страницах и сайтах. Правда, этот метод универсален и используется не только для отслеживания пропаганды, но и во многих других сферах исследований.
Таким образом, мы видим, что среди специалистов зарубежных исследовательских институтов существует широкий диапазон мнений о том, как выявлять пропаганду. Пропаганда исследуется с помощью методов политической лингвистики, эмпирической социологии, математики, а иногда применяется даже включенное наблюдение.
Аналогично международные организации готовят доклады по проблематике исследований пропаганды. Например, в 2015 г. ОБСЕ представила доклад «Пропаганда и свобода массовой информации»[224]. Важнейшей проблемой для организации в этот период стало выделение маркеров пропаганды, для чтобы дать четкую оценку материалам журналистов и СМИ. К сожалению, попытка оказалась не слишком успешной: ОБСЕ не сумела создать универсальную схему критериев для выявления пропагандистского контента. Эксперты ограничились лишь общими рекомендациями для правительств, сотрудников сферы медиаобразования и политиков стран, входящих в эту организацию.
В последнее десятилетие активно работают в этом направлении и отечественные исследователи[225]. Выходит много обобщающих работ, описывающих тенденции развития и эволюцию приемов пропаганды, а также анализирующих методы ее исследования[226].
Кроме того, ряд независимых исследовательских групп косвенно касаются темы пропаганды в своих проектах. Так, в последней работе «Группы Белонавского» оценивается влияние пропаганды на политический настрой аполитичных людей. Эксперты группы вычленяют ассоциируемые с пропагандой выражения респондентов, полученные во время опроса[227].
Пропаганда становится предметом интереса и международных медиагрупп, работающих в России. Например, медиагруппа «Россия сегодня» подготовила доклад «Осьминог 2.0. Коронавирус в России»[228]. По мнению экспертов, изучающих социальные последствия COVID-19, западные СМИ используют этот кейс как еще один информационный повод для антироссийской пропаганды.
Отдавая дань апробированным практикам по идентификации пропагандистских методов, следует вместе с тем отметить: проблема выявления универсалий, лежащих в основе пропагандистского дискурса, продолжает оставаться в научном знании остро востребованной. Действительно, исследования политологического, лингвистического, психологического и иного характера, связанные с изучением содержания и форм пропагандистских посланий, позволили выявить и детально описать целый комплекс способов и приемов, эффективно воздействующих на массовое сознание[229].
В то же время в России отсутствуют исследовательские центры, которые бы целенаправленно занимались изучением способов, методов и приемов распространения пропаганды. Опубликованы лишь единичные работы сотрудников разных университетов.
В то же время вопрос о структурных составляющих пропагандистской информации, своего рода «скрепах» таких посланий, продолжает оставаться нерешенным. Между тем решение данной проблемы является основой для возможности идентификации разного рода пропагандистских материалов.
Вопросы выделения матричных оснований пропаганды заставляют обратиться к теоретико-методологическому положению, зафиксированному в формулировках представителей различных наук: знания о мире состоят из структурных ячеек, то есть складываются из неких сценариев с определенным набором стереотипных ситуаций – фреймов[230]. Фрейм помогает ответить на вопрос, что именно происходит в той или иной конкретной ситуации. Как отмечает американский исследователь Ш. Айенгар, ценность фрейминга состоит в том, что он позволяет понять причины и выбор решений основных политических проблем[231].
Вместе с тем во избежание терминологической путаницы необходимо уточнить соотношение понятий «фрейм», «сценарий», «схема», «скрипт», «прототип» и «идеализированная когнитивная модель». Как пишет один из исследователей фрейма, Ч. Филлмор, многозначность трактовки приведенных и подобных понятий связана с тем, что их очень трудно разграничить, поскольку они представляют собой различные уровни фреймового знания: если у М. Минского это однозначно фреймы, то Дж. Лакофф говорит о «когнитивной модели», Р. Лангакер как эквивалент использует термин «основания» и т. д.[232]
Фрейм при этом предстает как емкая категория, каркас, строение которого культурологически обусловлено и который заполняется объектами, образами, схемами и т. д., то есть концептами – структурами более мелкого порядка. По мнению Минского, фрейм – это «своего рода скелет, чем-то похожий на бланк заявления с большим количеством пробелов или щелей, которые нужно заполнить»[233]. Ряд исследователей подразделяют фреймы на фреймы-структуры, фреймы-операции, фреймы-ситуации, фреймы-сценарии, фреймы-роли[234]. Отсюда фрейм-анализ предполагает реконструкцию и детализацию искомых фреймов-структур, фреймов-сценариев, фреймов-ситуаций и т. д. на материале текстов разного рода.



