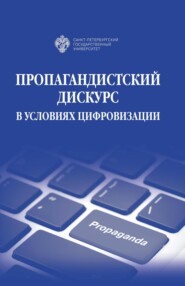
Полная версия:
Пропагандистский дискурс в условиях цифровизации
Следует признать, что данная модель, по крайней мере в своем первоначальном виде, только частично корректировала существовавшие ранее представления о механизмах агитационно-пропагандистского воздействия на аудиторию: это проявлялось в том, что она признавала наличие устойчивых социальных связей, оказывающих заметное опосредующее воздействие на распространение информационного потока на его пути к конечным адресатам. В остальном же эта модель фактически воспроизводила базовые положения предшествующей теоретической схемы: аудитория, как и прежде, рассматривалась в качестве достаточно пассивной массы, по сути, так же ожидающей информационной «волшебной пули», с той лишь разницей, что «выстрел» не столько передавался по каналам массовой коммуникации, сколько исходил от лидеров мнений. При этом, абсолютизируя опосредующую роль вертикальных социальных связей, данная модель не уделяла должного внимания фактору горизонтального информационного обмена как между различными малыми сообществами и их лидерами мнений, так и в рамках самих таких сообществ, а также тому очевидному обстоятельству, что каждый индивид в большинстве случаев оказывался «включенным» в различные микрогруппы (семья, друзья, соседи, коллеги и т. д.) и в результате подвергался влиянию сразу нескольких лидеров мнений, тем самым оказываясь в конкурентной коммуникационной среде, предоставляющей ему возможность выбора источников информации и отбора распространяемых сообщений в зависимости от собственных предпочтений и идейных установок.
Тем не менее логически вытекавшее из «теории волшебной пули» предположение о том, что массовая пропаганда якобы сама по себе определяет собственную аудиторию и существенным образом воздействует на ее настроения, не нашло эмпирического подтверждения. Безусловно, коммуникаторы всегда стремятся к достижению максимального результата, однако выбор со стороны адресатов в пользу того или иного источника информации, а также содержания материалов оказывается определяющим не в меньшей степени. Указанное обстоятельство явилось базовой посылкой для формирования «теории полезности и удовлетворения потребностей» (uses and gratifications theory), которая акцентирует внимание на том, какими именно чувствами, ценностными ориентациями и предпочтениями руководствуются индивиды при выборе того или иного источника информации, и благодаря этому стремится оценить характер и степень эффективности воздействия средств коммуникации на аудиторию. Данная концепция получила развитие в работах Э. Каца, ученика и последователя Лазарсфельда, считавшего, в частности, что исследователи должны уделять больше внимания не тому, «что средства коммуникации делают с людьми», а тому, «что люди делают со средствами коммуникации»[89].
С точки зрения «теории полезности и удовлетворения потребностей» аудитория осуществляет активный отбор информации, уделяя внимание только тем материалам, которые в той или иной мере окажутся полезными, и если затраты времени и усилий на это представляются оправданными. В данном контексте польза может носить не только эмоциональный или интеллектуальный, но и материальный характер. Указанное обстоятельство, в частности, предопределяет сетевую активность современных производителей товаров и услуг по созданию служб заботы о клиентах, которые действуют в режиме онлайн, поскольку «удовлетворение потребностей и ожиданий потребителя посредством поддержки в социальных сетях может монетизироваться»[90].
Примечательно, что положения данной теории в известной мере подтверждаются эмпирическими данными, полученными в 1970-е годы в СССР в ходе знаменитого «таганрогского исследования», выполненного группой московских социологов под руководством Б. А. Грушина. Результаты этого исследования, которое осуществлялось в неконкурентной коммуникационной среде, но в условиях социально-политической стабильности, наглядно свидетельствовали как о широком диапазоне интересов аудитории того времени, так и об активном ее обращении к СМИ в плане поиска и отбора соответствующих материалов. Внимание читателей центральных газет больше всего привлекали сюжеты, связанные с международной жизнью (78 % респондентов), информация о происходящем в стране (27 %), публикации о спорте (24 %), литературе и искусстве (23 %); аудиторию областных и городских газет интересовали в первую очередь справочные материалы (43 %), информация о происходящем в городе (28 %), события международной жизни (21 %); радиослушатели отдавали предпочтение легкой музыке и развлекательным программам (63 %), последним известиям (59 %), литературно-драматическим передачам (36 %); телезрители – художественным фильмам (65 %), легкой музыке и развлекательным программам (65 %), «Клубу кинопутешественников» (42 %), спортивным передачам (38 %). При этом весьма показательно, что официальная пропаганда большей частью игнорировалась, не вызывая у массовой аудитории какого-либо заметного отклика: вопросами деятельности руководящих органов страны интересовались только 4–5 % читателей центральных и местных газет и 1 % радиослушателей, теорией марксизма-ленинизма – 2 % телезрителей, по 1 % читателей центральных газет и радиослушателей и 0,4 % читателей местных газет[91].
В целом «теория полезности и удовлетворения потребностей» показывает, что возможности пропагандистского воздействия на аудиторию ограничиваются устоявшимися интересами индивидов, которые, в частности, проявляются в их предпочтениях, связанных с обращением к тем или иным средствам массовой коммуникации и дальнейшим отбором распространяемых сообщений. Вместе с тем она оставляет открытым вопрос о способах формирования определенной системы потребностей и установок, обусловливающих действия людей в их повседневной жизни в результате выбора и принятия конкретных норм и правил поведения, соответствующих тем или иным общественным ценностям и приоритетам.
Более поздние концепции, объясняющие возможности осуществления эффективного пропагандистского воздействия, акцентировали внимание на конструировании особой «медиареальности», при взаимодействии с которой в сознании индивидов складывается символический образ действительности, наполненный стереотипными формами «надлежащего» поведения и «мнением большинства». Эти концепции восходят к идеям У. Липпмана, который еще в начале 1920-х годов первым указал на существование подобной «псевдосреды», во многом предопределяющей действия людей в окружающем мире: «Поведение человека является реакцией именно на эту псевдосреду. Последствия этой реакции, собственно действия человека, происходят уже в реальной среде»[92].
Формирование и изменение социально значимых установок личности как результат неоднократного, распределенного во времени воздействия распространяемых сообщений на сознание индивидов находится в центре внимания исследовательской традиции «культивационного анализа», получившей свое развитие в трудах Дж. Гербнера и его коллег по Анненбергской школе коммуникационных исследований Пенсильванского университета. Данная традиция делает акцент на том, что заметные результаты информационного воздействия могут быть достигнуты лишь в тех случаях, когда сообщения будут постоянно направляться на подкрепление конкретной точки зрения. Подобное подкрепление может быть как прямым, так и косвенным, причем именно последнему в данном случае отводится наиболее существенная роль.
Анализируя механизмы социализирующего воздействия телепрограмм, исследователи Анненбергской школы исходили из двух основных предположений: «Во-первых, коммерческое телевидение, в отличие от других средств массовой информации, представляет органически сконструированный тотальный мир взаимосвязанных историй (как драматических, так и новостных), соответствующий определенному набору рыночных требований. Во-вторых, телезрители (в отличие от аудитории других средств массовой информации) обращаются к телеэкрану в значительной степени неизбирательно и скорее в определенное время, а не в соответствии с программой. Телевизионный просмотр – это ритуал, почти такой же, как религиозный, за исключением того, что к нему обращаются более регулярно»[93].
На наш взгляд, данные предположения можно трактовать и более широко, применительно ко всей системе современных средств массовой коммуникации, включающей в себя сегодня и Интернет. В самом деле, нынешняя массовая аудитория с учетом ее же собственных потребительских запросов оказывается погруженной в некую устойчивую, практически тотальную символическую среду, которая представляет собой насыщенную стереотипами, отчасти упрощенную и искаженную модель действительности, задающую определенные нормы и правила поведения и тем самым мотивирующую действия людей в реальной жизни. Поскольку не все элементы данной модели имеют четкие эмпирические референты, ее вполне можно определить, если воспользоваться известным постмодернистским термином Ж. Бодрийяра, как «симуляцию».
Кроме того, такая «ритуально-потребительская» интерпретация коммуникационного процесса предполагает, что пропагандистское воздействие распространяемых «симуляций» носит преимущественно латентный характер. Оно основывается не столько на информировании, сколько на своевременном удовлетворении тех или иных «ритуальных» потребностей аудитории. В результате пропагандистский эффект достигается благодаря тому, что индивиды, формально будучи свободными в выборе между каналами массовой коммуникации, на деле ограничиваются в структуре выбора теми идейными установками, ценностями, образцами и стереотипами поведения, которые в явном или неявном виде задаются «симуляциями». Конечно же, формируемая модель социальной действительности далека от бодрийяровского «чистого симулякра», некоей «копии без оригинала», существующей без всякого соотношения с реальным миром. Тем не менее она фактически является неотъемлемой частью особым образом сконструированной гиперреальной среды, в которой какие-либо события и процессы становятся «реальными» только в том случае, если они будут надлежащим образом «симулированы».
Своеобразный прагматический синтез идеи конструирования реальности с представлениями об одновременном сосредоточении внимания аудитории на строго определенном круге проблем был положен в основу гипотезы «установления повестки дня» (agenda-setting). Эта теоретическая концепция, получившая свое логическое оформление в работах М. Маккомбса и Д. Шоу[94], стала одной из доминирующих исследовательских парадигм в современной коммуникативистике. Ключевая идея «установления повестки дня» состоит в том, что средства массовой коммуникации воздействуют на общественное мнение, акцентируя внимание аудитории на каких-либо фактах, событиях, явлениях путем недостаточного освещения или простого игнорирования других проблем. На практике это предполагает, что коммуникаторы осуществляют не только целенаправленный отбор освещаемых событий, но также искусственно ранжируют распространяемые сообщения по степени их значимости. При этом аудитория, как полагают авторы концепции, обращаясь к коммуникационным каналам как в развлекательных, так и познавательных целях, будет не просто сосредоточиваться на элементах демонстрируемого событийного ряда, но и воспринимать предлагаемую коммуникатором систему приоритетных оценок, соответствующим образом определяя для себя главное, второстепенное и несущественное.
Дальнейшее развитие данной концепции связано с представлениями о «повестке дня второго уровня», называемой также «атрибутивной», которая выстраивается уже не применительно к определенной совокупности проблем, а по отношению к некоторому конкретному событию или общественному деятелю посредством концентрации внимания аудитории на наиболее значимых чертах или характеристиках соответствующего предмета сообщения[95]. По существу, конструируя «повестку дня первого уровня», коммуникаторы воздействуют на то, что именно люди будут воспринимать в качестве наиболее значимого, а формируя «атрибутивную повестку», они предопределяют, как именно аудитория будет оценивать то или иное явление[96].
Результатом формирования «атрибутивной повестки» выступает создание трансформированного образа действительности, который, по сути, представляет собой фрейм, обусловливающий своей формой подачи материала его дальнейшее восприятие аудиторией. Тем не менее для возникновения эффекта фрейминга данный образ «должен быть соотнесен с одним или несколькими фреймами, уже зафиксированными в памяти адресата сообщения и представляющими собой ситуативные шаблоны или сценарии действий, наличие которых обусловлено приобретенными данным адресатом знаниями и практическим опытом»; при этом «выбор шаблона, в наибольшей степени соответствующего новой ситуации, очевидно, предполагает иерархизацию, ранжирование адресатом хранящихся в его памяти фреймов, во многом сопоставимое с процедурами установления повестки дня как на первом, так и на втором уровне»[97]. По существу, речь идет о третьем уровне установления повестки дня. Однако применительно к каждому уровню остается открытым и пока не нашедшим своего теоретического разрешения вопрос о том, в какой мере на установление коммуникаторами «повестки дня» влияют действительные потребности, интересы и запросы аудитории.
Как отмечал в свое время И. Лакатос, «оценка любой научной теории должна относиться не только к ней самой… Что особенно важно, следует рассматривать эту теорию вместе со всеми ее предшественницами так, чтобы было видно, какие изменения были внесены именно ею»[98]. На наш взгляд, «теория волшебной пули», двухступенчатая концепция коммуникации, теория «полезности и удовлетворения потребностей», традиция культивационного анализа и гипотеза «установления повестки дня» в своей совокупности образуют, если воспользоваться терминологией Лакатоса, «теоретически прогрессивную последовательность», поскольку каждая новая концепция в действительности не опровергала предшествующую, а скорее вносила в существовавшие представления о возможностях и пределах социализирующего воздействия коммуникационных технологий дополнительное эмпирическое содержание.
Глава 2. Современные подходы к определению пропаганды: концепции и практические разработки
2.1. Подходы к определению понятия «пропаганда»
В предыдущей главе были рассмотрены ставшие уже классическими подходы к определению пропаганды. Однако исследования пропаганды приобретают особую актуальность именно сейчас, когда мы переживаем период открытого информационного противоборства между Россией и Западом в совершенно новом контексте.
В данной главе мы представим обзор основных современных подходов, а также существующих исследовательских проектов и инициатив в области пропаганды и стратегических коммуникаций.
В качестве базового мы будем рассматривать так называемый коммуникационный подход, представленный в книге Г. Джоута и В. О’Доннел «Пропаганда и внушение». Согласно дефиниции указанных авторов, пропаганда представляет собой «целенаправленное, систематическое стремление формировать восприятие, манипулировать знаниями и направлять поведение для достижения реакции, способствующей реализации желаемой пропагандистом цели»[99]. Работа Г. Джоута и В. О’Доннел остается долгое время актуальной во многом потому, что авторы подробно описывают возможности десятиступенчатого анализа содержания пропаганды, а также предлагают собственную модель функционирования пропаганды в современном обществе. Коммуникационный подход позволяет выделить коммуникационные переменные (коммуникатор, послание, канал, аудитория, обратная связь и результаты послания) с целью определения связи послания с контекстом, анализа реакций аудитории и прослеживания развития пропагандистской коммуникации как процесса[100]. Важно также утверждение Г. Джоута и В. О’Доннел о том, что пропаганда почти всегда представляет собой в той или иной форме «активизированную идеологию», иногда пропаганда служит средством возбуждения общественного мнения в поддержку определенных целей, а часто выполняет интеграционные функции, делая публику пассивной и отвлекая ее от любых форм несогласия с существующей системой. По мнению американских авторов, пропаганда может строиться как на правдивых сообщениях, так и на откровенной лжи. Цели ее всегда заранее определены в пользу пропагандиста[101].
В «Оксфордском словаре английского языка» пропаганда определяется как «систематическое распространение информации, особенно в предвзятом или вводящим в заблуждение способом, с тем чтобы продвигать политические идеи или точку зрения»[102]. Однако такое определение относится скорее к политической пропаганде, так что более широким нам представляется определение Г. Джоута и В. О’Доннел.
В настоящее время термин «пропаганда» часто используется взаимозаменяемо с терминами «дезинформация» и «фейк-ньюз» (англ. fake news – фейковые новости, фальшивые новости)[103]. Уточним соотношение данных терминов. Если пропаганда – это целенаправленное распространение информации и идей, то дезинформация – систематический и преднамеренный обман. Именно такое различие прослеживается в ряде проанализированных нами европейских исследований. Высказывается также мнение, что английское слово «disinformation» происходит от русского слова «дезинформация» и впервые было использовано в 1949 г.[104]
В межведомственной терминологической базе данных Европейского союза (Inter-Active Terminology for Europe, IATE) специально отмечается, что дезинформацию нельзя путать с неправильной, некорректной информацией (misinformation), определяемой в базе как «информация, которая неверна или вводит в заблуждение, но не преднамеренно»[105]. В той же базе данных дается определение «цифровой дезинформации» – «использование цифровых информационных и коммуникационных технологий для распространения фальшивых новостей, чтобы манипулировать восприятием, управлять знаниями и влиять на поведение»[106].
Австралийский словарь Macquarie (Teh Australian Macquarie Dictionary), который признал «фальшивые новости» словом года – 2016, определяет фейк-ньюз как «дезинформацию и мистификации, опубликованные на веб-сайтах в политических целях или для управления веб-трафиком»[107]. Таким образом, если фейк-ньюз предназначены для обмана пользователей в политических целях, то они подпадают под определение «дезинформации», а «фальшивые новости», распространяемые в социальных медиа, можно определить как «цифровую дезинформацию».
Растущая популярность понятия фейк-ньюз вызывает беспокойство со стороны международных наблюдателей за свободой СМИ. Так, в марте 2017 г. специальный представитель ООН по вопросам свободы мнений и их выражения, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации и другие международные наблюдатели года выпустили специальное Совместное заявление о свободе мнений, фейк-ньюз, дезинформации и пропаганде[108]. Ранее, в 2015 г., специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ подготовил памятную записку под названием «Пропаганда и свобода массовой информации», в которой указывается, что необходимо различать два вида пропаганды в СМИ. Первый – это пропаганда войны, а также национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющие собой подстрекательство к дискриминации или насилию, как определено в международном и национальном праве. Это противозаконный вид пропаганды. Второй тип включает в себя все остальные виды пропаганды[109]. При этом представитель считает, что пропаганда, исходящая от СМИ, принадлежащих государству, управляемых государством или его представителями, особенно опасна[110].
Современные европейские исследователи четко выделяют методы, используемые в пропаганде и позволяющие судам отличать ее от других форм выражения мнения: это «оказание умышленного целевого воздействия на людей по различным каналам коммуникации для распространения прежде всего неверных или упрощенных оценочных суждений, которые по своему накалу по меньшей мере сопоставимы с провокацией, возбуждением или подстрекательством»[111].
Итак, существуют различия между пропагандой как противозаконными высказываниями и пропагандой, которая может быть неуважительной, но является предметом других, не юридических инструментов контроля.
Напомним, что пропаганда не всегда рассматривается как отрицательное явление. Негативный оттенок пропаганда приобрела в связи со всеобщим неприятием деятельности геббельсовского министерства пропаганды и образования, а также в контексте явления, известного как «советская пропаганда». Тем не менее широко известно, что классик американского PR Э. Бернейз еще в 1928 г. дал подробное описание плюсов пропаганды для общественной пользы и определение пропаганды как «последовательных, неослабных усилий по созданию или формированию событий с целью оказания воздействия на отношение общества к той или иной инициативе, идее или группе»[112]. При таком подходе к пропаганде можно отнести и разные виды рекламы, и выступления общественных деятелей, то есть все, что транслируется по модели односторонней ассиметричной коммуникации и представляет собой процесс влияния на принятие чужого решения. Существует и ряд случаев, когда пропаганда вообще является единственной формой информирования общественности и считается вполне оправданной – например, пропаганда противопожарной безопасности или пропаганда правил дорожного движения.
Таким образом, пропаганда может использоваться различными субъектами, в различных контекстах и в разных целях. Как отмечал Ж. Эллюль еще в 1965 г.[113], пропаганда является фактом жизни не только в тоталитарных, но и во всех демократических обществах. Источником пропаганды в демократическом обществе выступает практически любое учреждение, стремящееся повлиять на общественное мнение. В изданной в 2018 г. Пенсильванским университетом книге Дж. Оддо «Дискурс пропаганды»[114] наглядно демонстрируется, что пропаганда распространяется не только политиками и СМИ, но также группами интересов, аналитическими центрами, информационными агентствами, компаниями по связям с общественностью, корпорациями и обычными гражданами, которые сознательно или невольно поддерживают пропаганду. Пропаганда в данной работе рассматривается в ракурсе критической теории дискурса. Центральным в теории Дж. Оддо является указание на то, что пропаганда включает в себя межтекстовый процесс, который позволяет ему распространяться по всему обществу. Книга дает ценную информацию о механизмах пропаганды, позволяя разрабатывать способы защиты демократического дискурса от манипулятивной риторики, и можно даже сказать, что данное исследование претендует на создание «теории пропаганды».
И все же термин «пропаганда», по выражению Г. Почепцова, был в основном «скомпрометирован» тоталитарными государствами, и поэтому, как он считает, в настоящее время появились новые термины: теперь те же функции возложили на «стратегические коммуникации» и «операции влияния»[115]. Согласимся с утверждением ученого в том, что указанные термины не носят того негативного оттенка, который присущ пропаганде.
Представляется необходимым выделить три различных подхода к определению понятия «стратегические коммуникации»: американский, европейский и российский. Начнем с американского подхода, поскольку термин «стратегические коммуникации» получил распространение прежде всего в США.
Американский подход. Термин «стратегические коммуникации» впервые использовал в 2001 г. Винсент Витто, глава Оперативной группы по научным исследованиям распространения управляемой информации[116]. Он констатировал, что стратегические коммуникации являются жизненно важными для американской политики безопасности. В течение следующих десяти лет в США появилось множество докладов, статей, сообщений, комментариев, сообщений, касающихся стратегических коммуникаций[117]. В 2009 г. социолог К. Паул собрал и сравнил выводы из 36 таких докладов[118], а в 2011 г. предложил свое определение, предлагая трактовать стратегические коммуникации как «скоординированные действия, сообщения, изображения и другие формы сигналов или вовлечения, направленные на информирование, влияние или убеждение избранных аудиторий в поддержку национальных целей»[119]. Необходимо добавить, что К. Паул делает различие между «влиянием» и «манипуляцией». С его точки зрения, «стратегические коммуникации должны быть синонимичны виртуозному убеждению, но должны быть полностью свободны от лжи, частичной правды и спина»[120].
Постепенно, по мнению ряда ученых, в среде американского экспертного сообщества концепция «стратегической коммуникации» стала доминировать над идеями «мягкой силы» Дж. Ная, заменив прежнюю стратегию вовлечения и партнерства в рамках публичной дипломатии на диалоговую пропаганду[121].
Удачной, с нашей точки зрения, теоретической находкой последних лет в области стратегических коммуникаций в США стало обращение к проблеме нарратива как к способу организации вербальной информации. С. Р. Корман определяет нарративы как систему рассказов, которые продвигают определенные темы и архетипы[122]. Принципиальные возможности стратегических нарративов заключаются в том, что они «могут конструировать, влиять и формировать ожидания»[123]. Немаловажная часть существования нарратива – контекст ситуации или дискурс, в котором он воплощается и наполняется индивидуальным содержанием.



