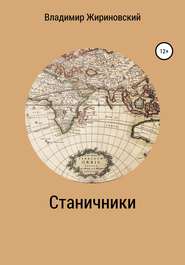 Полная версия
Полная версияСтаничники
Впрочем, тут надо учитывать, что критерии оценки «бездельного» и «важного» у Татищева и казаков были разными. Например, угнать табун у кочевников для казаков не было преступлением, поскольку и соседи поступали так же. А вот украсть рубль у товарища было отнюдь не мелочью.
Оренбургское войско создавалось из разнородных частей и единых войсковых органов управления не имело, подчинялось оренбургскому губернатору, а отдельные общины – комендантам крепостей. Но каждая община проводила свои круги, выбирала атаманов. Не имели единого войскового управления и сибирские казаки. Их власти подразделяли на полки и сотни.
Подавляющее большинство здешних казаков было из служилых, но и они переняли традицию природных казаков проводить в общинах крепостей круги и выбирать атаманов. Эти атаманы утверждались царской администрацией, но с 1738 года выборы были запрещены, и атаманов в общины стали назначать, часто из армейских офицеров.
В гребенском войске, как и в яицком, удерживалось полное самоуправление. Астраханский губернатор в 1744 году доносил, что «оные гребенские, хотя и могут из всех казаков за лучших воинов почитаться, только от того, что атаманов погодно переменяют и старших против прочих не имеют, в великом беспорядке находятся».
С инспекцией на Терек был послан бригадир Кольцов. Его ужаснуло, что «атаману никакого почтения и страха казаки не имеют». И указом Елизаветы в 1745 году терское казачество было реформировано. Гребенское войско сливалось с терско-семейным, которое уже отвыкло своевольничать и было подконтрольно властям. Им предписывалось избирать общего атамана, его утверждала Военная коллегия, и он получал очень большие полномочия «под страхом за противные поступки жестокого наказания».
Но ничего не получилось. Два войска были слишком разными по составу, происхождению, даже по вере: гребен- цы – старообрядцы, а терско-семейное придерживалось нового обряда. Пошло соперничество, склоки за атаманство.
Кончилось тем, что правительство поставило в 1752 году наказным атаманом гребенца Ивана Иванова, а в 1754 году разделило войска, вернув прежние порядки. Но хотя атаман у гребенцов снова стал выборным, у них тоже установилась «династия» – от Иванова к сыну, от него к внуку.
В казачьей служебной иерархии в XVIII веке произошли изменения, появились новые звания – «войсковой старшина», «хорунжий». Но государственным военным званиям они еще не соответствовали. Армейские чины давались за какие-то заслуги и, например, казачий полковник мог быть поручиком или вообще не иметь армейского офицерства.
И сами звания у казаков разных войск имели не одинаковое значение.
Например, у запорожцев «войсковой старшина» означал члена правления всего коша – войскового писаря, судью, есаула, обозного. И это было выше полковника – в полках существовали полковые старшины (полковой писарь, полковой есаул и т.п.).
На Дону же постоянных полков не было. И полковников тоже. А войсковыми старшинами называли тех, кто раньше командовал полками или занимал другие важные руководящие посты.
Когда требовалось сформировать полк, войсковая канцелярия определяла полковника из числа войсковых старшин. Он получал соответствующий документ, знамя, полковничий пернач, сам собирал казаков по городкам. А вернувшись из похода, сдавал в канцелярию знаки своей власти и из полковника снова становился войсковым старшиной.
Со временем менялся и быт казаков. Яркий пример тому – Войско Донское. Если в XVII веке земледелия на Дону не было, то в первой половине XVIII века здешние казаки стали усердными землепашцами.
Причём стимул был весьма прозаическим – при Екатерине I, Петре II, Анне Иоанновне жалованья не получали даже генералы. Денег у правительства всегда не хватало, платили лишь тем, кто находился в действующей армии, там уж никуда не денешься. Да и при Елизавете жалованье шло крайне нерегулярно.
Вот и приходилось выкручиваться, пользоваться тем, что есть. В связи с развитием земледелия казаки стали жить большими семьями – отец, женатые сыновья, их дети. Это требовалось для полевых работ.
Впрочем, и в других отношениях казаки привыкли полагаться не на правительство, а на себя. Отобрал Пётр Бах- мутские соляные месторождения – донцы нашли другие, на Манычском озере, и выжили степняков из его окрестностей.
Появились и казачьи помещики. Таких масштабных сысков беглых, как при Петре, больше не проводилось, а старшина стала наследственной, с представителями царских властей научилась ладить, и контролировать ее было некому.
Те же Фроловы, Ефремовы, Краснощёковы привлекали беглых крестьян различными льготами, укрывали, организовывали на пустующих землях хутора. Богатея, стали и прикупать крепостных.
Правда, по указу Елизаветы 1746 года право владения крепостными оставлялось только за дворянами, но казачья старшина уже имела армейские офицерские чины, что автоматически давало дворянство.
Из походов казаки пригоняли трофейный скот и коней, и ширилось скотоводство, коневодство. Каждый городок имел свой станичный табун. А казачьи помещики заводили крупные конские заводы. Скупали из добычи рядовых лучших жеребцов и кобылиц разных пород, вели целенаправленную селекцию, и была выведена знаменитая донская порода.
Но и старые промыслы донцы не забывали – в первую очередь рыболовство. Рыбы было много, когда по Дону шла на нерест тарань, «весло в воде стоймя стояло». Ловили в огромных количествах. Украинские чумаки, приезжая на Дон, покупали тарань не на вес, не поштучно, а возами – 10-15 копеек за воз, на глазок нагруженный сушёной рыбой.
А вот в яицком войске рыболовство оставалось главным промыслом – здесь земля представляла выжженную целинную степь, обрабатывать её было тяжело. Рыбные ловли были разные: малое и большое багренье, весенняя и осенняя плавни, рыболовство неводами, аханное, курхай- ский лов, лов крючками.
Заботясь о сохранности природных богатств, для каждого лова были разработаны подробнейшие правила, войсковой канцелярией определялись места и сроки, для руководства назначались особые атаманы, а нарушителей строго штрафовали. Яицкое войско поставляло рыбу и икру к императорскому двору. Хлеб же казаки покупали привозной на деньги, вырученные от продажи рыбы.
А при создании оренбургского войска, чтобы не зависеть от привозных продуктов, казаков заставляли заниматься земледелием. Приказы начальства требовали в обязательном порядке вспахать и засеять хотя бы 2 десятины на семью, а если возделано больше, казаков премировали.
На Тереке правительство тоже пыталось сделать казаков землепашцами, однако это не удавалось. Каждому гребенцу выделялось 30 десятин, но ещё и в 1772 году из войсковых 44 333 десятин обрабатывалось 2035, потому что хорошая земля осталась на правобережье Терека, стала «чужой». А на левобережье плодородной была узкая полоса, дальше начиналась сухая степь. К тому же здешние казаки были постоянно задействованы на службе, и жалованье им всё же платили.
А развивались в основном виноградарство, огородничество, бахчеводство. Это были более выгодные отрасли, и работы могли осуществляться силами женщин.
Важную роль у терцев в хозяйстве играли рыболовство и охота. Выходили на Каспий, ловили в реке, рыбу и икру меняли у чеченцев и кумыков на хлеб. Одной из обязанностей гребенцов по указу сената 1738 года было пополнять «дворцовую межанерию фазанами, журавлями, оленями, штейнбоками, кабанами и козами».
А при поездках в Петербург за жалованьем казаки везли на продажу лошадей, волчьи и лисьи шкуры, бочонки с рыбой. Вывоз рыбы принял такие размеры, что в 1746 году был ограничен: на одного казака 50 спинок рыбы и 4 куля икры.
Но все равно ежегодно вывозилось более 50 тысяч спинок. Продавали и контрабандой. Кизлярский комендант доносил, что горцы «ходят с хлебом для мены не по настоящим дорогам, а по прибрежным, через казачьи огороды».
Однако в первую очередь казаки, конечно, были воинами. Как это ни парадоксально, но даже своё хозяйство они развивали главным образом для того, чтобы иметь возможность служить!
Они, как и раньше, осознавали себя воинами Христовыми, и пахали, сеяли, выращивали виноград, рыбачили, чтобы справить оружие, коней, одежду для службы.
Казачонка в 3 года сажали на коня, в 5 лет доверяли ездить самостоятельно, с 7 лет учили стрелять, с 10 – владеть холодным оружием. С 14 лет (позже с 17) юноша считался «малолетком», то есть почти уже полноценным казаком, но младшего возраста, выполнял поручения станичного атамана, служебные обязанности внутри войска. Женились рано, лет в 17, чтобы успеть произвести потомство, пока муж не уйдёт на службу.
И, естественно, в полной мере действовало казачье братство. Бедным подготовить «справу» для службы помогала община – в складчину или за счёт станичных сумм. А сирот, чьи отцы погибли в походах, называли «атаманскими детьми», о них заботилась и воспитывала вся станица.
СИБИРСКИЕ ГЕОЛОГИ
Первыми сибирскими геологами были казаки-землепроходцы.
В XVII веке ими были открыты залежи слюды в Западной Сибири, Енисейске, Прибайкалье, «цветное узорочное каменье» в Верхотурском, Тобольском, Якутском уездах, медь под Невьянском, железная руда на Туре, Тоболе, Исети, в Якутии, Прибайкалье, селитра на Олёкме, свинец на Аргуни, нерчинское серебро.
Возникали первые заводы, домницы. На некоторых месторождениях делались ещё только пробные шурфы и плавки, но они уже были открыты, хотя позже заслугу себе приписали другие.
Казаки оставались и прекрасными дипломатами, устанавливая дружеские отношения с местными племенами. И если в Западной Сибири этому во многом способствовала калмыцкая угроза, то в Забайкалье сказался другой фактор.
По соседству усилились маньчжуры. Они сокрушили китайскую империю Мин, в 1644 году взяли Пекин, и возникла могущественная и агрессивная империя Цин, которая стала разворачивать экспансию на север. Подчинила часть монголов, обложила данью приамурских дауров и дючеров. В таких условиях буряты и тунгусы предпочли переходить под власть царя.
Ерофей Хабаров был устюжским крестьянином. Но такая судьба его не удовлетворяла. Его кипучая натура, сочетая в себе и талант бизнесмена, и смелость первопроходца, требовала достойного поля деятельности.
В 1628 году Хабаров поехал в Сибирь в надежде разбогатеть на пушном промысле. Не получилось. Но Хабаров обнаружил, что в Сибири можно нажить состояние и другими способами – там очень дорого стоили хлеб, промышленные товары.
Ерофей ушёл за Урал, став «слободчиком», то есть одним из деловых людей, которые сами основывали деревни и управляли ими. Это разрешалось, требовалось только согласовать с уездным воеводой и платить налоги. Хабаров обосновался у устья Киренги, нанял работников, в 1640-х годах у него уже было 26 десятин пашни, собственные кузницы, мельницы, соляные варницы, он занялся торговлей, извозом, ростовщичеством.
А в 1650 году Хабаров обратился к якутскому воеводе Дмитрию Францбекову (Ференцбаху) с проектом освоения Приамурья. Сформировал отряд из 70 казаков и крестьян, поднялся по Лене, заложив город Олекминск. Затем достиг Амура, где основал Даурский городок. И начал совершать плавания по реке, приводя в подданство местных жителей. Мужик он был крутой, силу применял без раздумий. Когда взбунтовалась и попыталась бежать группа казаков, с ними тоже расправился сурово.
В 1651 году по следам Хабарова пошли из Якутска 27 казаков во главе с Иваном Нагибой. Но с хабаровцами они каким-то образом разминулись. Построили судно и прошли по всему Амуру, причём с непрерывными боями. Вышли в море, но судно было раздавлено льдами у Шантар- ских островов. Экспедиции удалось спастись, и она сухим путём вернулась в Якутск, собрав большой ясак. Современники считали чудом, что отряд во всех передрягах не потерял ни одного человека.
Однако другие отряды к Хабарову добирались, его силы росли. Пекин же воспринял выдвижение землепроходцев к своим границам крайне враждебно. Император категорически запретил подданным контакты с русскими. Подчинённых ему монгольских князей направил в набеги на Забайкалье, чтобы покорить здешние племена. А на Амур в 1652 году отправил корпус из тысячи солдат с ружьями и легкими пушками. У Хабарова к этому моменту собралось до 200 служилых и «охочих людей». Но, как писали китайцы, в лице казаков они встретили бойцов «храбрых, как тигры, и искусных в стрельбе». Корпус был разгромлен наголову.
В 1653 году Хабарова сменил на Амуре отряд Онуфрия Степанова, а Ерофей Павлович вернулся в Якутск, составив «чертёж реке Амуру». Царь высоко оценил его успехи и пожаловал в дети боярские. А в Забайкалье предпринял поход Пётр Бекетов – тот самый, который 20 лет назад строил Якутск. Теперь он заложил Иргенский и Нерчинский остроги. И их основание в 1655 году принято за отсчёт старшинства Забайкальского казачьего войска. Впрочем, одновременно возникла и другая казачья община, вольная.
Служилые закреплялись в Прибайкалье и Забайкалье – были основаны Балаганский, Телембинский, Се- ленгинский, Удинский остроги. Буряты и тунгусы приветствовали строительство, помогали, поскольку и для них крепости обеспечивали защиту от вылазок маньчжуров.
Продолжались исследовательские экспедиции и в других направлениях. В 1651 году Иван Баранов с группой «охочих людей» прошел с Колымы на Гижигу, к Охотскому морю.
Примерно в это же время Василий Власьев и Кирилл Колкин предприняли плавание на Чукотку, установили контакты с «чухоцкими мужиками».
Сотник Курбат Иванов, сменивший в Анадырском крае Дежнёва, тоже построил кочи и ходил морем на Чукотку. Открыл залив Креста, бухту Провидения. Десятник Иван Меркурьев Рубец совершил поход на Камчатку.
Потом туда же отправился енисейский казак Иван Камчатый. Открыл реку, названную его именем. На обратном пути Камчатый был убит юкагирами, но название реки «Камчатка» впоследствии перенеслось на весь полуостров.
В 1680-х годах иезуит Авриль, беседуя в Москве с окольничим Мусиным-Пушкиным, вытянул из него информацию об Америке и её жителях. Стало быть, казаки уже и туда забирались.
КАЗАКИ ПИШУТ СУЛТАНУ
В 2008 году в Краснодаре на пересечении улиц Горького и Красной был установлен памятник «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (скульптор Валерий Пче- лин).
Это напоминание о тех, кто первым принял удар новой волны экспансии на Русскую землю – её топтали сапоги янычар Османской империи…
В XVII веке главной угрозой для казаков стали турки. На каждого из казаков приходилось по два-три десятка вооружённых до зубов осман, которым к тому же помогали кочевники-мусульмане (особенно из племён, когда-то входивших в Орду) и отряды из вассальных государств.
Но казаки не дрогнули. Гибли, но туркам спуска не давали. Яркое впечатление о боевом настрое казаков производит письмо, о котором говорилось в начале главы.
Письмо казакам султана Мехмеда IV:
«Я, султан и владыка Блистательной Порты, сын Ибрагима I, брат Солнца и Луны, внук и наместник Бога на земле, властелин царств Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властитель над властелинами, несравненный рыцарь, никем не победимый воин, владетель древа жизни, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого Бога, надежда и утешитель мусульман, устраши- тель и великий защитник христиан, повелеваю вам, запорожские казаки, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашими нападениями не заставлять беспокоиться».
Ответ запорожцев:
«Запорожские казаки турецкому султану!
Ты, султан, чёрт турецкий, и проклятого чёрта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь. Какой ты, к чёрту, рыцарь, когда голой задницей даже ёжика не убьёшь?! Черт высирает, а твоё войско пожирает. Не будешь ты, сукин ты сын, чью мать мы все имели, сынов христианских нагибать! Твоего войска мы не боимся, на земле и на воде будем биться с тобой!
Вавилонский ты повар, Македонский колесник, Иерусалимский пивовар, Александрийский козолуп, Большого и Малого Египта свинопас, Армянский ворюга, Татарский сагайдак, Каменецкий палач, всего света и подсвета дурак, самого аспида внук и нашего хрена конец. Свиная ты морда, кобылиная срака, мясницкая собака, некрещёный лоб, мать твою, суку!
Вот так тебе запорожцы ответили, плюгавому. Не будешь ты даже свиней у христиан пасти. Этим кончаем, поскольку числа не знаем и календаря не имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, какой и у вас, за это поцелуй нас в задницу!
Подписали: Кошевой атаман Иван Сирко со всем лагерем Запорожским»
В 1676 году на трон взошёл царь Фёдор Алексеевич Романов. Он при участии сестры Софьи начал реформы по европеизации России. Внедрялись европейские моды, обычаи, роскошь. Это требовало денег. А налоги с доходов промышленников были невелики, ибо экономика России развивалась медленно.
Тогда царь, чтобы увеличить количество дешёвой рабочей силы для промышленности, повёл борьбу с нищими, повелев их насильно «определять в работы». Царь Фёдор даже отменил указ своего отца о невыдаче беглых, записавшихся в ратную службу.
И экономика начала оживать. В 1682 году Фёдор Алексеевич умер. Скорее всего, был отравлен, поскольку бояре стремились свергнуть его и даже пустили слух, что царь абсолютно безумен.
Европейские реформы брата продолжила и углубила Софья. Канцлером стал её фаворит Василий Голицын, хотевший использовать идеи и технологии Запада для модернизации России. И усилия канцлера не пропали даром. Росси было предложено вступить в «Священную лигу» – союз Австрии, Польши, Венеции и Рима, которые вели войну против Турции. Такой союз дал бы России возможность выбить татар с Крыма и освободить от «поганых» священный для христиан город Константинополь.
И всё-таки купленные турками бояре и туповатый патриарх Иоаким выступили против нарушения «выгодного мира» с османами. Об этом молил Софью и запорожский гетман Самойлович.
Однако Голицын добился своего. Был заключён анти- турецкий союз. Россия формально вступила в войну, а понукаемые союзниками поляки перед всей Европой признали право России на Смоленщину, Киев и Левобережную Украину. Отныне такая конфигурация стала присутствовать на всех европейских картах.
А затем Голицын сделал ошибку. Вместо того чтобы формально отнестись к обязанностям по договору и потратить 2-3 года на реформирование армии (стрелецкие рати к этому времени почти полностью утратили боеспособность), он с согласия Софьи в 1687 году двинул русскую армию на Крым.
Формально должна была собраться огромная армия в 113 тысяч бойцов. Но собралось лишь 60 тысяч. Да из тех боеспособными были только казаки.
Они успешно провели все свои операции. Атаман Минаев с донцами ходил под Перекоп, побил татар под Овечьими водами, а в Запорожье был послан Касогов с солдатами, он вместе с казаками потрепал врагов в низовьях Днепра.
Увы, стрелецкие полки и боярские ополченцы еле передвигались по зною через безводные степи. А когда до Перекопа осталось 100 верст, татары подожгли степь. И измученному войску пришлось повернуть назад, иначе стрельцы взбунтовались бы (прецедентов имелось достаточно). Без всяких боёв армия потеряла 24 тысячи человек.
Голицына в народе проклинали, а Софье припомнили все её заигрывания с католическими державами. Всё больше говорили о том, что пора венчать на царство царевича Петра, несмотря на его малолетство.
Свою неудачу Голицын свалил на Самойловича, обвинил в измене и сослал его в Сибирь (хапнув при этом в собственный карман украинскую войсковую казну). А гетманом без всякой рады поставил выжигу и плута Ивана Мазепу. Мелкий шляхтич, за свои плутни был вынужден бежать к врагам Польши – в Запорожье. Выдвинулся у предателя Дорошенко, стал его генеральным писарем. Был послан в Стамбул, чтобы заключить союз с турками. Но его перехватили казаки-патриоты атамана Сирко и выдали Москве. Там его перевербовали (вернее, думали, что перевербовали), и Мазепа стал работать на русских. У Самойловича был генеральным есаулом и помог Голицыну, состряпав на гетмана донос. Словом, предатель был прирождённый, «со стажем».
В 1689 году состоялся второй поход Голицына. По спискам армия достигала 118 тысяч плюс 40 тысяч казаков Мазепы (сколько собралось в действительности – неизвестно). Чтобы успеть до зноя, канцлер приказал выступить 1 февраля. Но завязли в весенней распутице, замучились с переправами через разлившиеся речки. Выдержали несколько сражений с татарами, и к Перекопу
подошли 20 мая. Обнаружили, что перешеек сильно укреплён, о чём можно было узнать и раньше – если бы Голицын удосужился почитать донесения разведки. Вести осаду укреплений без воды, фуража и хлеба значило погибнуть. И 21 мая армия отступила назад. Потеряла 20 тысяч убитыми и умершими, 15 тыс. пропавшими без вести, бросила при отступлении 90 орудий.
И только казаки оказались на высоте три тысячи донцов вышли в море, вместе с запорожцами захватили несколько вражеских кораблей, разорили Тамань.
Софье вторая крымская катастрофа стоила престола. Под знаменем передачи его царевичу Петру группировка бояр во главе с патриархом Иоакимом низложила правительницу. Были расторгнуты выгодные России торговые и политические договоры, заключённые Голицыным.
КАЗАКИ – ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
Поначалу новый царь продолжил вслед за Голицы- ном единственно верную для России стратегию броска на юг. Увы, после первых же побед над турками, давшимися большой кровью, новый русский царь забыл об этом броске на юг, и дал старт трёхвековому наступлению на запад, что в конце концов привело Российскую империю к краху.
Русско-шведская война Петра Первого за Балтику очень дорого обошлась России, но так и не сделала её хозяйкой Балтийского моря.
События этой войны сильно искажены лизоблюдами, отрабатывавшими придворный заказ. Шведы отнюдь не «научили русских воевать». Мы наших северных соседей всегда успешно били.
А вот то, что ресурсы, которые могли бы пойти на укрепление российских баз в Причерноморье, а также на превращение России в мост между потоками товаров из Европы в Азию, были брошены на ослабление шведов, которые сдерживали ненавидящих Россию поляков и немцев.
Но был в такой войне и плюс для России. После разгрома русской армии под Нарвой Пётр I вспомнил о казаках. В 1701 году на Дону был сформирован первый конный полк, до этого у донцов полковых структур не существовало. Полк насчитывал 430 казаков, возглавил его Максим Фролов, сын атамана Фрола Минаева.
Впрочем, донские полки оставались временными, они создавались только на время походов и назывались по фамилиям командиров.
Полк Фролова, а потом и другие казачьи части были направлены в Лифляндию, в армию Шереметева, состоявшую из «худших» войск: дворянской конницы, татар, калмыков. И именно «худшие», в том числе казаки, одержали главные победы в войне, разгромив корпус Шлиппенбаха при Эресфере и Гуммельсгофе.
Но не менее важные события происходили в тылу. С прежними правами и привилегиями казаков царь Пётр абсолютно не считался. В 1700 году он отменил на верном короне Дону общий войсковой круг. Отныне на него собирались только станичные атаманы и по два выборных от каждого городка.
Донские и малороссийское казаки были лишены права беспошлинной торговли. Затем последовал запрет ловить рыбу «по реке Дону и до реки Донца, также и на море и по запольным речкам». Рыбные ловы, основной промысел донцов, передавались «азовским жителям». Добавились запреты на рубку леса, на сношения с соседними степными народами – все связи предписывалось вести только через азовского воеводу.
Для усмирения недовольства такими реформами среди казаков в 1707 году царь прислал на Дон карательную экспедицию князя Юрия Долгорукого с тысячей драгун. То была невеликая сила, но казаки заволновались.
И, как оказалось, не зря. Начался полный беспредел. «Беглыми» объявляли всех, кто родился не на Дону, – хотя при прежних царях переселение не возбранялось. Например, в Обливенском городке лишь 6 казаков были признаны «старожилыми», а все остальные – «беглыми». Вела себя экспедиция, как в завоеванной стране. Пороли, пытали, вынуждая признаться «беглыми».
За попытки сопротивления казнили на месте. Грабили, жгли дома «беглых», насиловали женщин. Офицеры, привыкшие обращаться с крепостными девками, по-хозяйски требовали вести приглянувшихся казачек к себе «на постелю».
Терпение казаков лопнуло. Атаман Булавин с небольшим отрядом ночью вырезал царских карателей. Но Булавин не захотел остановиться на совершённом. Он принялся раздувать настоящее восстание.
Тут уж пришлось принимать меры атаману Максимову. Он собрал казаков, выступил на Булавина. А на следующий день, как доносил атаман, мятежников разгромили, наказали, ста человекам резали носы, около десяти повесили за ноги, «а иных постреляли».

