
Полная версия:
Секреты Средиземья. Как появилась культовая вселенная Властелина колец

Ролан Леук, Лоик Манжен, Жан-Себастьян Штейер
Секреты Средиземья. Как появилась культовая вселенная Властелина колец

TOLKIEN ET LES SCIENCES
Roland Lehoucq, Loic Mangin & Jean-Sebastien Steyer
© Tolkien et les sciences © Belin/Humensis, 2019
Published by arrangement with Lester Literary Agency & Associates
В оформлении обложки использованы элементы дизайна:
© Andrey_Kuzmin, nnattalli / Shutterstock / FOTODOM
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM
Во внутреннем оформлении использованы иллюстрации:
© Alex_Bond, Acri, Nabitbitcom, artdock, antonpix, Mahmoud Hassan, Antikwar / Shutterstock /
FOTODOM
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

© Шалаева Д., перевод с французского, 2023
© ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Под редакцией:
Жана-Себастьяна Штейера Лоика Манжена и Ролана Леука
Иллюстрации Арно Рафаэляна
Перевод цитат по Рахмановой Н. (Хоббит), Григорьевой Н. и Грушецкому В. (Властелин колец), Эстель Н. (Сильмариллион).
Толкин, Властелин наук
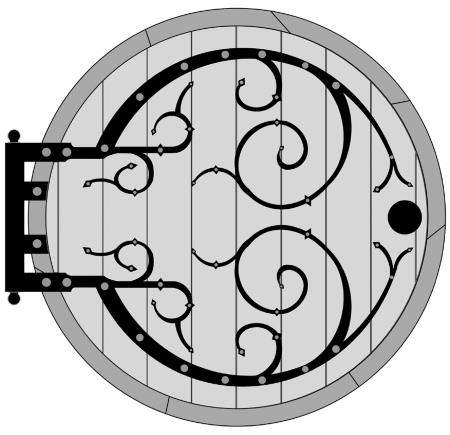
Какое отношение имеет эльфийский язык к древнеанглийскому? Что собой представляет геология Средиземья? Каким образом летает дракон Смауг? Чтобы ответить на эти вопросы, не нужно быть ученым или специалистом по Толкину. Просто откройте эту книгу.
В 1937 году Джон Рональд Руэл Толкин навсегда вошел в историю фэнтези с книгой «Хоббит, или Туда и Обратно» (далее по тексту «Хоббит»), изначально написанной для собственных детей. Разносторонний автор – одновременно профессор Оксфордского университета, филолог и поэт – продолжил сочинять. Наиболее известные его произведения: «Властелин Колец» (1954–1955) и «Сильмариллион» (опубликован в 1977 году, посмертно). Любитель мифологии и языков, в том числе и создавший несколько языков лично, Толкин оставил после себя целый легендариум: воображаемый мир, настолько богатый, сконструированный и развитый, что он вполне соответствует известному утверждению – наукой надо заниматься с удовольствием!
Цель нашей работы – использовать вселенную Толкина, ее историю, языки, географию, ее чудовищ и других персонажей, чтобы поговорить о гуманитарных, физических или даже естественных науках. Мы прекрасно понимаем, что тем много и вопросы разнообразны, но, не ставя перед собой задачу исчерпывающе осветить их все, мы хотим в легкой для восприятия форме представить информацию широкой аудитории. Наша цель не в разрушении ореола этих фантастических произведений, не говоря уже о критике Толкина, – мы хотим показать, как наука способна обогатить мир.
Добро пожаловать в «Научное Средиземье», трансдисциплинарное – а порой недисциплинированное – путешествие по стране Толкина… «Вернувшись, вы уже никогда не будете прежними!»[1]
Ролан Леук, Лоик Манжен и Жан-Себастьен Штайер
Толкин и наука: разносторонние отношения Изабель Пантен,
историк из Высшей школы
Толкин считал себя прежде всего поэтом – создателем мифов, сплетенных из слов, но, безусловно, был и ученым, если придерживаться фундаментального (и, следовательно, вневременного) определения науки как сознательно предпринимаемых усилий к рациональному познанию и пониманию природной реальности, от устройства космоса до человеческой деятельности и производственных процессов. С другой стороны, если ограничить определение стандартным (карикатурным) образом современной западной науки, где доминируют модели, созданные физиками и математиками для их собственных нужд, и которая придерживается завоевательного подхода, основанного на технологиях, анализ должен стать гораздо более детальным. Вот почему эти два подхода следует рассматривать отдельно.
Толкин обладал научным складом ума в самом широком смысле, но не в понимании Гастона Башляра[2] и всех тех, кто отрицал способность к «объективному знанию» вплоть до рубежа современности. Скорее, он был мыслителем уровня Платона, Аристотеля или Роджера Бэкона, ненасытного в своей жажде знаний «удивительного доктора», тоже занимавшего кафедру в Оксфорде (правда, другую и на семь веков раньше).
Толкина интересовала реальность – она казалась ему весьма любопытной. Кроме того, одаренный острым критическим умом, Толкин искренне ненавидел любые проявления вычурности и претенциозности, имитирующие доступ к знаниям, а на деле ставившие иллюзорные непрозрачные завесы на пути к ним.
Отказ от заигрывания с реальностью
Из-под пера Толкина нередко выходило слово фальшивый, подчеркивая его отвращение к притворству и бессмысленной приверженности фактам, часто связанной с обманом и самозванством. Он использует это слово, например, в письме 1968 года в Time-Life International (Lettres, № 302), отказываясь от предложения сделать серию фотографий, изображавших его за работой. Его представления о «естественности», подчеркивает Толкин в этом письме, явно не совпадают с мнением агентства: он не позволяет фотографировать себя, когда пишет или беседует с коллегами, потому что снимок, сделанный «якобы за работой, будет вопиющей фальшивкой»[3]. Понятие «фальшивый» Толкин относил и к писательской практике, и к различным наукам.
Например, в исследовании «Калевалы» он отмечает, что этот сборник древних финских легенд, составленный на основе устных источников и самым серьезным образом отредактированный в XIX веке врачом и лингвистом Элиасом Лённротом, никоим образом не затронут теми искусственными и фальшивыми архаизмами, коими пестрит произведение Оссиана (мифического гэльского поэта III века) благодаря усилиям его предполагаемого переводчика Джеймса Макферсона[4][5]. Это определение он использует и для стигматизации недобросовестных авторов исторических романов, персонажи которых говорят языком ложнодревним, псевдоблагородным и, мягко говоря, нелепым (Lettres, № 171). То же относится и к квазинаучному арсеналу посредственной научной фантастики с ее грубыми псевдотехническими терминами – нологемами: абракадабра в фиктивной «наукообразной» форме[6].
Синдром фальшивости также может поражать и тех, кто придерживается научного пуризма в ботанической (к примеру) терминологии. Стоит упомянуть хотя бы педантичных корректоров «Властелина Колец», заменивших подлинное английское название индийского кресс-салата нартустиан на настурцию (латинское название кресс-салата). В письме от июля 1954 года Толкин приводит в свою поддержку свидетельства садовника из Мертон-колледжа и отвергает настурцию как продукт фальшивой ботаники и «ложной эрудиции».
Ошибки на самом деле гораздо серьезнее затрагивают некоторых сторонников индоевропейской теории и ее тенденциозного применения к изучению мифологии. Выдающегося исследователя скандинавских мифов Джорджа Дейсента (1817–1896), выражавшего в своих работах абсолютную убежденность в превосходстве нордической расы (к которой, по его мнению, относились англичане), Толкин в эссе «О волшебных сказках» обвиняет в том, что он забыл о функции сказок, слепо увлекшись теоретической чепухой, «мешаниной из ошибочных предположений ранней сравнительной филологии, выдаваемых за некую “предысторию”», а хуже всего – «совершенно пагубной и ненаучной расовой доктриной», которую проповедовали нацисты. Эту доктрину сам Толкин осуждает в письме от 25 июля 1938 года своему издателю Стэнли Анвину, передавшему ему требования немецкого издательства, желавшего опубликовать перевод «Хоббита».
Учитывая фундаментальный характер отказа от извращения реальности, различие, часто проводимое между ученым Толкином – признанным филологом, гражданином Толкином – любителем читать газеты, чтобы узнавать о настоящем мире, и Толкином-творцом, позволявшим сознанию убежать в пространства Средиземья, лишено всякого смысла: абсурдно разделять, а тем более противопоставлять уровень свободной творческой фантазии и уровень, где происходит конфронтация реальных вещей. Вот почему Толкин вместе со своим другом и коллегой по Оксфорду К. С. Льюисом (1898–1963) упорно боролся против предрассудков, утверждающих противоположность так называемой серьезной литературы, якобы выступающей верным и ответственным свидетелем текущих проблем «в контакте с миром», и так называемой эскапистской литературы – легкого способа отвлечься от проблем благодаря вымыслу, максимально удаленному от скучной повседневности.
Миф и научная истина
В заключительном разделе эссе «О волшебных сказках» перед эпилогом Толкин касается цели повествований, которые намеренно отклоняются от «обычного» реализма, чтобы через миф и создание воображаемых миров достигнуть высшей формы реализма – приблизиться к реальному на более глубоком и фундаментальном уровне. Тем самым он опровергает критику «эскапистской» литературы. Благодаря доверию к воображению аудитории, утверждает автор, сказки, как ни парадоксально, служат источником более многостороннего знания. Они проясняют видение, избавляя нас от серости привычек и иллюзий. Реалии бытия станут нашими настолько, что мы освободимся от необходимости обращать на них внимание.
Я не говорю: «видения вещей такими, каковы они на самом деле», – не желая, таким образом, связываться с философами, хотя мог бы осмелиться произнести: «способность видеть вещи такими, какими нам надо (или надо было) их видеть», – т. е. отделить вещи от нас. […] Банальность – бич собственности. Банальные вещи – или (в плохом смысле) знакомые, – это те, которые мы присвоили себе, законно или мысленно. Мы говорим, что мы их знаем. А они напоминают предметы, некогда привлекавшие нас блеском, цветом или формой, которые мы захватили, заперли в кладовой, присвоили, а присвоив, перестали на них смотреть[7].
Лучшие фэнтезийные рассказчики в первую очередь стремятся к простым и фундаментальным вещам.
…Сказочник, позволяющий себе «вольности» по отношению к Природе, может ее любить, но не должен быть ее рабом. Именно в сказках я впервые понял силу слов и чудо простых вещей, таких как камень, дерево и железо; трава и дерево; дом и очаг[8].
Нет причин презирать «побег от реальности», обеспечиваемый «волшебством». Зачем презирать заключенного, который пытается сбежать?
В том же разделе лекции об «эскапизме», прочитанной в 1939 году и пересмотренной для публикации после войны, Толкин использует радикальную аналогию: можно ли назвать побег из Третьего рейха или любой другой диктатуры дезертирством или изменой? Основная функция сказок – удовлетворять фундаментальные желания людей, в наибольшей степени раскрывающие их природу: раздвинуть границы собственного опыта, плавая с рыбами, летая с птицами, разговаривая с другими живыми существами, и, как кульминация воображаемого освобождения, – пересечь границу смерти.
Поэтому любовь к мифам никак не противоречит рациональному подходу, не уменьшает «аппетит к научной истине» и не мешает ее восприятию. Напротив, ценность воображаемых миров зависит от научной подготовки их создателей, от их способности распознавать вещи в реальном мире такими, какие они есть, и от их тщательной работы по приведению своих выдумок в соответствие с реальностью. Ибо эти творцы должны воссоздать космос, упорядоченный системой законов природы («О волшебных сказках», раздел «Дети»).

Эльфийская армия Ривенделла
Вспоминая, какие книги он читал в детстве, Толкин подчеркивает, что его никак нельзя было назвать исключительным и безоговорочным любителем сказок (вкус к ним развился позже, особенно с изучением языков). Больше всего он хотел «знать». И он удовлетворял эту потребность, читая истории, переносившие его в другой мир. Там он находил то, что его привлекало, например драконов, но даже чаще открывая для себя историю, ботанику, грамматику или этимологию. В одной из заметок упоминается раннее увлечение зоологией и палеонтологией. Однако живой интерес к науке не мог заставить Толкина полностью перейти на ее сторону в угоду предрассудкам взрослых.
Я очень хотел изучать Природу, даже сильнее хотел, чем читать сказки, но я не хотел, чтобы меня обманом заманивали в Науку и выманивали из Волшебной Страны люди, по-видимому решившие, что по какой-то врожденной греховности я должен предпочитать сказки, а в соответствии с новой религией меня надо вынудить любить науку[9].
Позднее Толкину довелось убедиться в обоснованности своего инстинктивного сопротивления: нет необходимости приносить художественный вымысел в жертву науке. Обмен мнениями между ними происходит постоянно – вымысел одалживает науке гипотезы, заимствуя содержание и логику ее изобретений. Оба они, каждый по-своему, воспринимают и реагируют на реальный мир. Только художественная литература создается через вторичное творение воображаемого мира, кажущегося автономным и управляемым по собственным законам, но состоящего из элементов, взятых из первичного мира.
Во второй половине жизни Толкин много времени отдавал переписке, отвечая на письма читателей, настолько очарованных Средиземьем, что они не сомневались в его существовании и постоянно просили автора уточнить какие-то детали или объяснить то или иное явление. Не принимая их наивность близко к сердцу, писатель все же старался удовлетворить аудиторию, признавая, что также вовлечен в игру своего творения. Для него это была не просто бумажная вселенная.
Было бы ошибочно усматривать в таком отношении опасный дрейф творческого человека, попавшего в ловушку соблазнов воображения. Описание Средиземья служило Толкину способом в полной мере воспринять свою планету, острее пережить восхищение этой планетой и ответить поэтическим творчеством, отличающимся, но дополняющим работу ученых. Он очень просто сформулировал это в марте 1966 года во время телефонного интервью с Генри Резником, готовившим статью о нем. Она вышла 2 июля 1966 года в Saturday Evening Post под заголовком «Созданный хоббитами мир Дж. Р. Р. Толкина». Вот что сказал Толкин: «Если вы действительно хотите знать, на чем основано Средиземье, то оно основано на моем восхищении и преклонении перед землей в ее естественном состоянии, в особенности природой». Это удивление и радость в нем, по собственному признанию, впервые пробудились после того, как в возрасте трех или четырех лет будущий выдающийся писатель открыл для себя сельскую местность вокруг Бирмингема.
Эта цитата подтверждает, что творчество Толкина уходит корнями в реальный опыт. Он не содержит особых размышлений о науке, но напоминает рассуждения Аристотеля в «Метафизике» о зарождении философии и поиске знаний о природе, где утверждается и важная роль удивления или любопытства (thauma), и родство между любовью к мифам (т. е. вымышленным историям) и науке.
Ибо и теперь, и прежде удивление побуждает людей философствовать, причем вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало недоумение, а затем, мало-помалу продвигаясь таким образом далее, они задавались вопросом о более значительном, например о смене положения Луны, Солнца и звезд, а также о происхождении Вселенной. Но недоумевающий и удивляющийся считает себя незнающим (поэтому и тот, кто любит мифы, есть в некотором смысле философ, ибо миф создается на основе удивительного)[10].
Далее Аристотель подчеркивает, что пионеры от науки, которые часто выражали свои вопросы и предположения с помощью вымысла, искали знания как такового, а не в утилитарных целях. Это также является идеей, близкой Толкину, но об этом пойдет речь дальше.
Научная ценность подхода Толкина неоспорима, и ее спонтанно признали многие его читатели, в частности астрономы, физики, биологи и палеонтологи, которых не отпугивал архаичный и причудливый характер Средиземья. Наоборот, они с симпатией отнеслись к тому, как его создатель стремился придать целостность элементам своей вселенной и заставил ее жить и развиваться, а не просто построил макет декораций. На протяжении всего творческого процесса он, кажется, постоянно и терпеливо задавался вопросами – о расположении берегов и рек, флоре, фауне, приспособленности существ к окружающей среде и многих других явлениях, прежде чем дать ответы на них. От ученых не ускользнуло и качество наблюдений Толкина в области естествознания.
Генри Джи – британский палеонтолог по образованию, хорошо выразил это признание в своей книге «Наука Средиземья». Он начинает с аналогии между методами академической дисциплины Толкина (филологии) и методами кладистики[11], позволяющими устанавливать родственные древа между биологическими видами, которые, по его мнению, наиболее продвинули познание эволюции видов. Установление родственных связей между рукописями, языками или живыми организмами – это всегда вопрос установления принадлежности к определенной классификационной ветви.
Далее Джи распространяет исследование на другие области, устанавливая связи и взаимные заимствования.
Система названий в Средиземье – точная, продуманная, уважающая языковые законы и тщательно адаптированная к тому, что она обозначает, – вызывает не только восхищение, но и подражание. Энтомологи, палеонтологи, геологи и астрономы используют этот подход, называя тот или иной недавно обнаруженный объект – насекомое, окаменелость или астероид, который кажется родственным или аналогичным объектам или персонажам Толкина, пусть даже очень косвенно. Кристина Ларсен, профессор физики и астрономии, подвела итоги этих заимствований.
Отрицание научного материализма
Однако подобный образ идеальной гармонии между творчеством Толкина и миром науки не отражает более сложную картину. Он не должен заставить нас забыть многочисленные и решительные осуждения писателем того, что он называл «научным материализмом» и в чем видел бич современного мира. Этот «научный материализм» в его дьявольской форме, сочетающий в себе собственно научные исследования с технологической эскалацией и финансовым и политическим манипулированием со стороны великих держав, упоминается во «Властелине Колец» в виде империи Мордор и ее сателлита Изенгарда Сарумана: ясно, что речь идет о тоталитаризме. Толкин подтверждает это в письме своему сыну Кристоферу от 30 января 1945 года, где выражает надежду на своего рода тысячелетие – земное царствование «святых», кто не уступил силам зла именно «в современном, хотя и не универсальном представлении: технике, “научному” материализму, социализму в любой из его ныне воюющих промеж себя фракций».
В этом отрывке «научный» взято в кавычки, что демонстрирует глубокую и стойкую враждебность Толкина по отношению к мягким и коварным «материалистическим» тенденциям, которые, как ему казалось, проникли в сферу науки гораздо раньше, в том числе и в ее, казалось бы, наиболее добродетельные провинции вроде факультетов Оксфордского университета.
В этом отношении весьма показательно процитированное выше замечание о «ребяческом» отказе Толкина поступить на службу «науке», расставшись с «волшебством». Оно полностью согласуется с теми суждениями, которые писатель охотно высказывал об эволюции организации обучения.
Несмотря на трагедии и ужасы начала двадцатого столетия – времени молодости Толкина, – он считал, что ему чрезвычайно повезло жить тогда, когда можно было свободно найти собственный путь и углубить знания. Иными словам – стать самим собой, Дж. Р. Р. Толкином, признанным педагогом и создателем Средиземья. В те благословенные времена у каждого была возможность посвятить себя областям, соответствующим призванию, не рискуя поставить под угрозу всякую надежду на академическую карьеру. Чтобы получить должность, не требовалась докторская степень – достаточно было предоставить доказательства профессиональной состоятельности.
Эта тема подчеркивается в прощальной речи, которую Толкин произнес 5 июня 1959 года при выходе на пенсию, – ее можно найти в книге «Чудовища и критики и другие статьи». Он представил иронический портрет родного университета таким, каким тот стал: место не столько для обучения, сколько для приобщения к исследованиям. Наиболее одаренные студенты твердо ориентируются на докторантуру и занимаются строго определенными в соответствии с политикой их факультетов темами, а факультеты стремятся подготовить как можно больше диссертаций, регулярно калибруя их подобно продукции колбасной фабрики. Именно здесь материализм проникает в науку, играя как на законных амбициях студентов, так и на стремлении академических институтов к власти. И еще… в 1959 году выпускники Оксфорда не были так востребованы в сфере международных финансов, как сегодня, а мировые рейтинги не разжигали конкуренции между университетскими центрами.
В письме от 1966 года своему внуку Майклу Джорджу, который был уже близок к поступлению в аспирантуру Оксфорда и обдумывал тему исследовательского проекта, Толкин снова выразил скептицизм и горечь:
Сам я и теперь, и всегда скептически относился к любым «исследованиям» как части занятий или обучения юношества на языковых и литературоведческих отделениях. Ведь сперва необходимо столько всего выучить. Исследовательскую работу частенько навязывают студентам-выпускникам, желающим примазаться к триумфальному шествию Науки, забраться в ее громадный фургон с оркестром (или хотя бы в прицепчик) и урвать себе немножечко престижа – и денег, что «Начальства, Власти, мироправители» {Аллюзия на строки из Послания к Ефесянам: «…Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего…» (Еф. 6: 12).} изливают на Священную Корову (как выразился один писатель и ученый) и ее служителей[12].
Чтобы лучше понять отношение Толкина к науке, необходимо вернуться к основам его позиции, начиная с религиозных убеждений. Его христианская вера и острое чувство различия между духом (или Христом) и плотью, выражаясь словами святого Павла, объясняет глубину его этических требований и силу неприятия всех «материалистических» аспектов науки.
От них зависело и его представление о природе и способах ее познания. Толкин отнюдь не был фундаменталистом, и его открытый и пытливый ум откликался на новые научные достижения того времени. Однако он оставался верным идее, что «небеса возвещают славу Божию» (псалом 19-й) и что ученый, исследующий природу, так же как и автор «вторичного мира», сотрудничают, чтобы пролить свет на красоту Творения, на удивительную сложность его организации и эволюцию во времени.
Эти настроения прослеживаются в письме от ноября 1969 года, где Толкин благодарит Эми Рональд за подаренную книгу о дикой флоре Капской провинции, которая, по его словам, открывает значительные перспективы в области палеоботаники. Он проводит сравнение с цветами ранних эпох своего Средиземья, эланором и нифредилью, и признается в увлечении книгами, где описаны растения, «и не столько редкие, необычные или вовсе чужеродные экземпляры, сколько вариации и изменения в цветах, которые со всей очевидностью родственны тем, что я знаю, – но не те же самые. Они пробуждают во мне видения родства и происхождения из глубины веков, а также и мысли о таинстве узора/замысла как чего-то, отличного от его индивидуального воплощения и все-таки узнаваемого».
Фэнтези, магия, научная фантастика
Образование Толкина – в основном литературное, как это было принято в его время, – также имело значение. В его школьных воспоминаниях всегда присутствовали латынь, греческий или другие языки и литература. Что касается естественно-научной культуры, она приобреталась в основном из научно-популярных трудов: представления Толкина были далеки от процесса изучения математических знаков и формул. Знание природы для него могло быть выражено теми же языками, что и прочий человеческий опыт.
Возможно, это одна из причин, почему, по мнению Толкина, научный подход к объекту никоим образом не подразумевал использования моделей, вдохновленных так называемыми трудными дисциплинами, или отказа от субъективности. Ему было больно наблюдать необратимое превращение знаний о языках, литературе и мифах в «гуманитарные науки» с их подчинением категориям структурализма ради получения сертификата строгости и объективности. В эссе «О волшебных сказках» он посвящает целый раздел («Истоки») отмежеванию от фольклористов и антропологов, стремящихся основать науку о сказках, давая им следующую характеристику: «Люди, использующие сказки не по назначению, а как источник информации, из которого они черпают сведения об интересующих их вещах»[13]. Эти исследователи извлекают из повествовательного материала мифемы, «мотивы», между которыми обнаруживают сходства и противоположности; они используют нарратив как карьер, руду из которого затем безупречно классифицируют, промаркируют и используют для различных подлинно научных целей. Толкин признает, что «само по себе такое занятие вполне оправдано, но невежественность и забывание о природе сказки как таковой подчас приводили исследователей к странным выводам»[14] – они не осознавали, что имеют дело с литературными текстами, каждый из которых уникален и должен оцениваться как единое целое с учетом всех его элементов.

