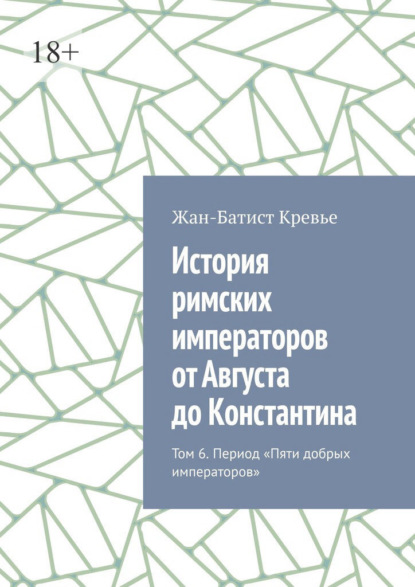
Полная версия:
История римских императоров от Августа до Константина. Том 6. Период «Пяти добрых императоров»
Надо признать, что замыслы, которые он задумал и осуществил после взятия Ктесифона, лишь усиливают это подозрение. Кажется, что успехи вскружили ему голову и вызвали своего рода опьянение даже в этом сильном и твердом уме. Он стяжал достаточно славы, чтобы удовлетворить честолюбие – если бы честолюбие умело довольствоваться. Парфяне, до него часто побеждавшие и чью державу римляне так и не смогли поколебать завоеваниями, были его оружием приведены к невероятному ослаблению. Он отнял у них три великие провинции: Армению, Месопотамию и Ассирию. Благоразумие, несомненно, требовало, чтобы он занялся важной задачей – упрочить завоевания, которые легче сделать, чем удержать, и приучить к римскому владычеству народы, никогда его не знавшие и по своим странно отличавшимся от новых господ нравам готовые к мятежу при первом удобном случае. Вместо этого разумного и осмотрительного плана Траян поддался искушению куда более тщеславной, чем блистательной, идее – дойти до Великого моря.
Он спустился по Тигру и без труда подчинил остров Месену, образованный двумя рукавами реки при впадении в море. Однако сразу же буря, стремительное течение и морской прилив поставили его в крайнюю опасность. Но этого урока оказалось недостаточно, чтобы остановить его: он пересек весь Персидский залив, миновал остров Ормуз и достиг Великого Океана. Там, увидев корабль, отправлявшийся в Индию, он сказал: «Будь я моложе, я непременно перенес бы войну к индийцам». Вместо этого он ограничился Счастливой Аравией, чьи берега были опустошены его флотом, захватившим город, известный в древности под именем Арабия (ныне знаменитый Аден, расположенный к востоку от Баб-эль-Мандебского пролива [12]). Вероятно, именно эту экспедицию имел в виду Евтропий, говоря о флоте, посланном Траяном разорять берега Индии. Этот малоосведомленный сократитель, видимо, спутал индийцев и арабов.
Траян не обманывался. Он завидовал удаче и славе Александра, дошедшего до Индии, но, утешаясь своими подвигами в Счастливой Аравии – куда Александр так и не проник, – гордился, что превзошел пределы столь прославленного завоевателя. В таком тоне он писал сенату, перечисляя в своих письмах множество покоренных им варварских и дотоле неизвестных народов. Сенаторы, оглушенные этими странными и незнакомыми именами, которые они едва могли выговорить, не знали, что делать, кроме как бесконечно умножать приветствия, почетные титулы, триумфальные арки и готовить великолепную встречу победителю по возвращении в Рим. Но провидение распорядилось иначе.
Удовлетворив тщеславие путешествием к Океану, Траян вернулся к устью Тигра и поднялся вверх по реке. Затем он перешел на Евфрат, чтобы посетить знаменитый город Вавилон – некогда царицу Востока. Он нашел его в состоянии запустения, предсказанном пророками еще в дни его величайшей славы. Перед ним были лишь руины и печальные следы былого величия. Его благоговение перед Александром побудило его почтить память героя жертвоприношениями в самом доме, где тот умер. Но пока он предавался этим суетным заботам, до него дошла весть о пагубных последствиях его неосмотрительного отсутствия и путешествия, продиктованного тщеславием.
Все его завоевания пошатнулись и сбросили ярмо. Войска, оставленные для их охраны, были либо изгнаны, либо перебиты, и Траяну пришлось начинать войну заново. Он отправил против мятежников Лузия с одной стороны и Максима – с другой. Последний, тот самый, что оказал Траяну большие услуги в войне с даками, здесь не добился успеха: он был разбит и убит в сражении. Лузию повезло больше, или он оказался искуснее: он отбил Нисибис, взял штурмом Эдессу, которую разрушил и сжег. Селевкия была возвращена к покорности Эруцием Кларом и Юлием Александром.
Эти успехи восстановили римское господство в недавно покоренных странах. Однако Траян, предупрежденный опасностью потерять все свои завоевания, счел необходимым ограничить масштабные планы, которые строил. Похоже, его изначальным намерением было уничтожить Парфянскую империю и подчинить ее народы непосредственно своим законам. От этой идеи он отказался, решив удовлетвориться назначением им царя по своему выбору.
Хосрой все еще был жив, вероятно, скитаясь в изгнании. Траян счел невыгодным возвращать его на трон, так как тот вряд ли признал бы власть Рима, считая престол наследственным достоянием предков. Взгляд императора пал на Партамаспата, чья личность иначе неизвестна. Церемония возведения нового царя прошла с большой помпой. Траян прибыл в Ктесифон, собрал римлян и парфян города и округи, взошел на высокий помост и после речи о величии своих деяний провозгласил Партамаспата царем парфян, возложив на него диадему.
Город Атра [13], населенный арабами и расположенный недалеко от верхнего течения Тигра, между рекой и Нисибисом, продолжал сопротивляться. Траян решил подавить мятеж и лично возглавил осаду. Но здесь его ждал позор, и последняя кампания жизни оказалась самой неудачной.
Атра, не будучи ни крупной, ни богатой, защищалась своим положением в пустыне, где не хватало воды (к тому же плохого качества), не было ни дерева, ни фуража. Палящее солнце усугубляло тяготы армии, служа дополнительной защитой осажденным. Несмотря на трудности, мастерство Траяна и доблесть победоносных войск сначала добились успеха: в стене пробили брешь. Но при попытке штурма римляне были отброшены с потерями. Император, скакавший верхом туда, где требовалось его присутствие, не смог остановить бегство войск и едва избежал гибели. Он снял знаки императорского достоинства, чтобы остаться неузнанным, но седые волосы и величавая осанка выдали его. Враги, заметив его, открыли стрельбу, и всадник рядом с ним был убит. К несчастью, добавились бури, град, молнии и гром, а тучи мух заражали пищу и воду солдат. Пришлось отступить: Траян снял осаду и отступил в сирийские владения империи. Вскоре он умер, но прежде чем рассказать об этом, следует упомянуть яростные восстания иудеев, которые сопровождали или даже предвосхитили мятежи других народов.
За почти пятьдесят лет, прошедших после взятия Иерусалима Титом, первоначальный ужас иудеев сменился тяжким бременем ярма, казавшегося противоречащим пророчествам. Бунт начали киринейские евреи, решившие, что удаленность императора и сосредоточение сил на Востоке дают шанс вернуть свободу. Они восстали в 886 году от основания Рима под предводительством Андрея (как называет его Дион), и их жестокость поражает. Они не просто убивали римлян и греков – подвергали их чудовищным пыткам: распиливали вдоль тела, отдавали на растерзание зверям, заставляли сражаться как гладиаторов. По словам Диона, они ели плоть жертв, мазались кровью как маслом, сдирали кожу и носили ее. Эти ужасы сложно принять на веру, тем более что Евсевий, более взвешенный автор, о них не упоминает. Сомнителен и число погибших: Дион утверждает, что в Киренаике погибло 220 тысяч, на Кипре – 240 тысяч.
Луп, префект Египта, попытался подавить бунт, но был разбит и заперся в Александрии. Там он обрушил месть на местных евреев, перебив многих и обратив остальных в рабство. Это была не просто месть, но необходимость: александрийские иудеи сговорились с киринейскими, которые, не сумев осадить столицу, опустошали окрестности под началом «царя» Лукуа (по Евсевию).
Император направил в Египет Марция Турбо с сухопутными и морскими силами. Тот, умелый и энергичный, ценой долгих боев подавил мятеж, воздав иудеям за их злодеяния. Вероятно, он усмирил и Кипр, где евреи разрушили Саламин и вырезали жителей. Согласно Диону, их изгнали с острова настолько, что даже потерпевшие кораблекрушение иудеи предавались смерти.
Месопотамия, веками населенная евреями, также вызвала подозрения Траяна. Луций Квиет, порученный им «очистить» провинцию (по выражению Евсевия), разгромил их в битве и истребил множество. В награду он получил пост правителя Палестины.
Этот принц [Траян], как я уже говорил, провел зиму в Сирии. Он намеревался вернуться в Месопотамию с началом кампании, чтобы окончательно утвердить римское господство в регионе, который с трудом подчинялся; но болезнь разрушила его планы: у него случился апоплексический удар, перешедший в паралич, что привело его в состояние слабости и бездействия. Поэтому он решил вернуться в Рим, куда сенат призывал его прибыть, чтобы вкусить покой, столь заслуженный его трудами и подвигами. Уезжая, он оставил в Сирии свою армию, доверив командование Адриану.
Тот не обладал ни рвением, ни, возможно, способностями, необходимыми для продолжения столь сложной войны. Таким образом, отъезд завоевателя стал причиной потери всех его завоеваний. Парфяне, презрев царя, назначенного Траяном, свергли его, вернули себе право управляться по своим законам и восстановили на престоле Хосрова, которого римляне ранее низложили. Армения и Месопотамия вернулись к прежним правителям – так завершились великие и славные подвиги Траяна. Столь огромные расходы, опасности и пролитая кровь оставили римлянам лишь стыд от провалившейся затеи.
Поскольку болезнь Траяна длилась несколько месяцев, это дало время для интриг вокруг престолонаследия, которое оставалось неопределенным из-за отсутствия у императора детей. Наибольшие права имел Адриан – его соотечественник, союзник, близкий родственник и человек, достигший высот власти, за которыми оставалась лишь императорская корона. Я уже упоминал, что он был квестором во время четвертого консульства Траяна, в 852 году от основания Рима; четыре года спустя, в 856-м, он стал народным трибуном, в 858-м – претором, в 860-м – суффект-консулом, а в последний год правления Траяна был назначен ординарным консулом и главнокомандующим в Сирии.
Эти титулы питали честолюбивые надежды Адриана, и он старательно подкреплял их, непрестанно угождая Траяну и завоевывая его дружбу и уважение с момента усыновления императора Нервой. Здесь стоит вспомнить его первые шаги в этом направлении. Он сопровождал воинственного принца в большинстве походов; командуя легионом во второй Дакийской войне, отличился множеством подвигов, за которые Траян наградил его алмазом, полученным им самим от Нервы. Адриан расценил это как знак будущего усыновления. Между претурой и консулатом, будучи назначенным наместником Нижней Паннонии, он успешно сочетал обязанности полководца и магистрата: усмирил сарматов, поддерживал строгую дисциплину в войсках, а также обуздал чиновников, превышавших свои полномочия. Такое управление принесло ему консулат.
Во время исполнения этих высших обязанностей он получил через Лициния Суру, ближайшего доверенного лица Траяна, заверения в своем усыновлении. Адриан уже считал, что близок к долгожданной цели, но вскоре Сура умер, лишив его могущественного покровителя. Впрочем, Адриан занял его место в делах, требующих доверия. Траян, как утверждает [Юлиан Отступник], не из-за неспособности, а из лени, не составлял собственных речей. Раньше за него это делал Сура, а после его смерти – Адриан. Однако вопрос усыновления застопорился и не продвигался вплоть до смерти Траяна.
Против Адриана выступали ближайшие друзья императора. Помимо Сервиана, его шурина, который с самого начала пытался ему помешать и доносил императору о его проступках, открытыми врагами были Пальма и Цельс. Это подстегнуло Адриана еще усерднее угождать Траяну, потакая даже его порокам. Император любил вино – Адриан заставлял себя состязаться с ним в питье. Он даже унижался, потворствуя грязным наклонностям принца: заискивал перед юношами, которые нравились Траяну, выполняя для них низкие услуги, вроде нанесения на их лица мазей для сохранения красоты. Но главной его опорой, без которой все усилия были бы тщетны, стала поддержка императрицы. Именно она устроила его брак с племянницей Траяна, добилась для него высокого поста в Парфянской войне, второго консулата и, наконец, когда не смогла преодолеть нежелание Траяна усыновить Адриана, добилась своего хитростью и обманом.
Я уже отмечал, что Траян никогда не любил Адриана; и когда ему стало необходимо определиться относительно своего преемника, он вовсе не включил его в различные планы, которые приходили ему на ум. Некоторые утверждали, что он задумывал подражать Александру, не назначая себе преемника; план, недостойный такого хорошего принца, как он, который, осчастливив империю при жизни, должен был позаботиться о сохранении её спокойствия и после своей смерти. По мнению других, он намеревался написать сенату, предоставив этому собранию право выбрать императора из числа определённых лиц, которых он указал бы в своём письме. Этот план, кажется, имеет немалое сходство с тем, что Дион рассказывает по поводу Сервиана. Он свидетельствует, что во время пира Траян предложил своим сотрапезникам назвать десять достойных управлять империей, а затем, немного поразмыслив, поправился: «Я прошу вас назвать лишь девять, – сказал он, – одного я уже имею в виду: это Сервиан». В другом месте я упоминал, что он думал о Луции Квиете, хотя тот был иностранцем и мавром по происхождению. Спартиан также приписывает Траяну намерения относительно Нератия Приска, знаменитого правоведа, выбор которого, по его словам, одобряли друзья императора; дело зашло так далеко, что однажды Траян сказал Приску: «Если судьба распорядится мной, я вверяю вам провинции». Выражение, которое я считаю нужным отметить мимоходом для читателя как доказательство того, что Траян считал себя скорее верховным главнокомандующим республики, нежели монархом, и полагал, что непосредственно подчинены его власти лишь провинции и армии.
Из всех этих фактов ясно следует, что Траян вовсе не намеревался усыновлять Адриана; более того, Дион утверждает, со слов своего отца Апрониана, бывшего наместником провинции Киликия, где Траян скончался, что никакого усыновления не было. Вот как была проведена вся эта интрига.
Траян, страдавший от паралича, к которому присоединилась водянка – довольно обычное следствие злоупотребления вином, – казалось, впал в состояние, при котором посторонние впечатления должны были легко овладевать его рассудком; тем не менее, он до конца сохранял решимость не усыновлять Адриана. Возможно, его недоверие к приближённым подкреплялось подозрениями относительно причины своей болезни и мыслью об отравлении, которая, впрочем, кажется, не имела серьёзных оснований. Он отплыл морем, чтобы вернуться в Рим, но, достигнув Селинунта в Киликии, перенёс второй удар апоплексии [14], от которого уже не оправился. Плотина, при поддержке Татия, бывшего наставником Адриана, взяла под контроль последние минуты жизни своего мужа. Свободная выдумывать что угодно, она распространила среди публики ложное известие об усыновлении Адриана Траяном и отправила соответствующее сообщение в сенат; однако письмо, подписанное Плотиной, а не Траяном, выдавало обман. Она могла бы подделать почерк мужа, как уже приписала ему чужие слова; ибо утверждают, что она разыграла комедию, подставив мошенника, который изображал больного императора и слабым, умирающим голосом объявил, что усыновляет Адриана. Чтобы придать правдоподобие этому спектаклю, смерть Траяна некоторое время скрывали; поэтому точная её дата остаётся неизвестной. Известно лишь, что Адриан, находившийся в Антиохии, 9 августа получил известие о своём усыновлении, а 11-го – о смерти Траяна.
Так этот великий император, грозный завоеватель, наводивший мосты через Дунай и Тигр, покоривший Дакию и поставивший Парфянскую империю на грань гибели, умер, оставив преемника, которого сам не выбирал и который, как выяснится впоследствии, был весьма недоброжелательно настроен к его славе.
Тем не менее, Адриан поначалу старался демонстрировать большое усердие в почитании памяти предшественника. Он устроил ему пышные похороны в Селинунте, который в его честь был переименован в Траянополь. Прах императора, помещённый в золотую урну, доставили в Рим, где он с торжеством был внесён в город на триумфальной колеснице, впереди которой шёл сенат, а позади – армия. Урну поместили под знаменитой колонной, воздвигнутой им на форуме, построенном по его указанию; и это стало ещё одной привилегией Траяна – быть погребённым в городе, где до того никого не хоронили. Его причислили к сонму богов. В его честь учредили игры, названные Парфянскими, которые после многолетнего регулярного проведения со временем были забыты и прекратились.
Траян прожил почти шестьдесят четыре года и правил девятнадцать лет, шесть месяцев и пятнадцать дней, если считать до 11 августа – даты, с которой Адриан отсчитывал начало своего правления.
Траян не имел пороков, непосредственно вредящих обществу, и даже обладал в высокой степени противоположными добродетелями: скромностью, милосердием, любовью к справедливости, неприятием роскоши и разумной щедростью, источником которой была мудрая бережливость. Человечество, счастливое под его властью, выразило ему свою признательность уважением и восхищением, сохраняющимися и поныне; но лишь слепым предубеждением можно объяснить попытки некоторых как бы канонизировать его, утверждая, будто папа святой Григорий вымолил у Бога спасение этого императора через пятьсот лет после его смерти. Помимо нелепости подобной басни, позорные пороки в личном поведении Траяна делали его лишь слишком достойным божественного возмездия.
Я не раз упоминал о его пристрастии к вину, которое, по словам одного автора, вынудило его принять унизительную меру – запретить исполнять приказы, отданные после долгих пиров. Его противоестественные развратные деяния покрыли его вечным позором. Осмелюсь также причислить к его недостаткам ненасытную страсть к войне, успехи в которой вскружили ему голову, а неудачи омрачили последние годы его жизни.
Таков порок человеческой природы, предоставленной самой себе. Нет совершенной добродетели, и самые прославленные нередко запятнаны самыми ужасными пятнами.
ЗАПИСКА Г-НА Д'АНВИЛЯ О МОСТЕ, ПОСТРОЕННОМ ТРАЯНОМ НА ДУНАЕ.
Граф Марсильи не указал с достаточной точностью длину моста, построенного Траяном на Дунае. Он определяет её в 440 colphers из Вены, которые, по его мнению, соответствуют французским туазам.
Klaffter (а не colpher) – это мера, действительно состоящая из 6 schuhs, подобно тому как туаза состоит из 6 футов. Schuh буквально означает calceus [обувь], и, так же как слово fuss, обозначает ступню. Мера венского фута меньше парижского на треть дюйма: следовательно, klaffter равен лишь 5 футам 10 дюймам французской меры.
Но неточность измерения, данного графом Марсильи, заключается не только в этом. Барон Хингельгард, искусный офицер, командовавший на венгерской границе по поручению венского двора, измерил длину моста и, определяя её от лицевой стороны одного устоя до лицевой стороны другого, нашёл её равной примерно 535 klaffters, что составляет 520 французских туаз.
Граф Марсильи определяет количество арок моста числом 22, хотя не видно, чтобы это число было указано ему чётко различимыми и явными остатками опор, поддерживавших арки; более того, на приведённом им профильном изображении насчитывается лишь 21 арка.
Согласно плану моста, составленному бароном Хингельгардом (который я видел в рукописном виде), я насчитал 19 опор, не считая устоев. Эти опоры, или их остатки, образуют нечто вроде островков в русле реки; при этом видны лишь некоторые из них ближе к берегам, тогда как те, что находились в середине русла, были разрушены и поглощены водой раньше. Можно предположить, что полное количество опор было определено по промежуткам между сохранившимися остатками, исходя из заданного расстояния между устоями.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



