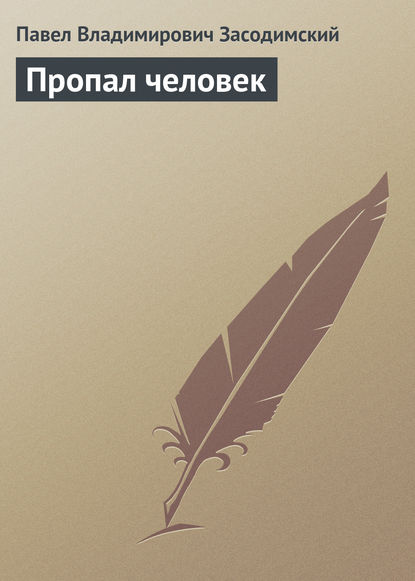 Полная версия
Полная версияПропал человек
К его пещере иногда собиралось человек по сту, по двести и более. Молва о нашем старце прошла далеко. Из соседних уездов приходил к нему народ… И без всякого уговора, сами собой устраивались сборища в лесу, под открытым небом. Люди приходили с котомками, с кузовками и рассаживались, – как придется. Сидели на земле, на кочках, на пнях, на мшистых колодах… Иной отдыхал с дороги, полулежа в густой траве и опершись на локоть, иной закусывал, посыпая хлеб крупной солью, иной рылся в своем дорожном мешке и вытаскивал оттуда головку луку или чесноку. Вечером разводили костер – и тогда ярким отблеском красного пламени озарялись мшистые, дуплистые стволы столетних деревьев, темные нависшие сучья сосен и елей и безобразно торчащие там и сям вывороченные пни… Эта картина с ее резкими, яркими тонами, – картина, полная таинственности, – своею дикою, мрачною обстановкой невольно уносила мысль к тем далеким временам, когда бродячая Русь – голь перекатная – скрывалась в лесах, спасаясь от преследований лютых волостителей или пускалась на поиски за «Царствием божиим»…[5] При красноватом свете огня, на фоне темной зелени видны были красные, загорелые лица бородатых людей, видны были темные загорелые руки, словно вылитые из бронзы, мускулистые, жилистые, мозолями покрытые руки; видны были сермяги, рубахи-косоворотки холщовые, пестрые, кумачные; пестрядинные и холщовые штаны; видны были босые ноги, ноги в сапогах, в лаптях, завернутые в онучи. Порой выступали из тени взъерошенные, косматые головы, приближались к костру – и охапки сухого валежника летели в огонь. Треск шел по лесу, пламя вспыхивало ярче и все выше и выше взлетало к темному ночному небу…
А по сторонам, куда не досягал свет костра, тени сгущались и местами ложились черными пятнами. Причудливая игра света и тени отражалась на листве и хвое вокруг стоявших деревьев на их разметавшихся и нависших сучьях… Осенью всего чаще происходили эти сборища. Ночи выдавались темные, когда месяц бывал «на ущербе»… Из-за ветвей виднелись золотые звезды, ярко сверкавшие на синем небе… В сыром, прохладном воздухе пахло сильнее травой и цветами – и особенно багульником. При наступавшей тишине было слышно, как жалобно скрипело надломленное дерево, слышался иногда в чаще дикий крик ночной птицы; порою шелест проносился по лесу, словно чье-то могучее дыхание пролетало над потемневшими вершинами леса, и вершины под его веянием тихо вздрагивали и качались… В среде собравшихся иногда слышались вздохи и восклицания: «О, господи боже!»… «Охти мне, грехи, грехи!»…
Все эти люди приходили к старику в лес «душеньку отвести» – и все они возвращались отсюда утешенные, ободренные и опять плелись по обычной житейской колее с мыслью – снова пойти «ужо когда ни на есть» в сторону Котласа, к дедушке Андрею.
– Пригожее ли дело жить старику в пещере, ровно медведю в берлоге! – толковали бабы. – И темно-то ему, сердечному, и сыро, и холодно… Надо бы ему тамо состроить истопочку, хошь не ражненькую…[6] Не грех бы порадеть нашим мужикам!
И вскоре, по уговору баб, мужики артелью отправились в лес, живо расчистили в лесу место неподалеку от пещеры и выстроили хатку; конопатчик оконопатил ее, печник склал печь, мастер смастерил для нее стол, лавки, поставец… И через год наш старик был уже на новоселье; на новоселье каждый приходящий приносил ему все, что мог и что было нужно. Но старику немного было надо, и часто приношенья отправлялись обратно домой.
7
Андрей Прохоров уже давно подумывал уйти в лес и пожить там «по душе».
Эти тайные, сокровенные думы свои он поверял, намеками только, старому другу-приятелю, Ивану Мировому, Иван был ему ровесник, его односелец, и содержал на реке мельницу в двух верстах от Косичева. «Мировым» прозвали его за то, что он при всяком удобном и неудобном случае любил мирить враждующих, за что, впрочем, иногда порядком доставалось и самому миротворцу. Дружба у Андрея с мельником пошла издавна, с молодых лет; мельник был крестным отцом – «божатком» – его старшего сына. Мысли у них как-то сходились, и они часто думали и жили заодно. Андрей не раз подговаривал Мирового «уйти» с ним куда ни на есть. Но у Ивана еще была жива старуха хозяйка, и ему не хотелось бросить ее.
– Тебе-то ладно, а я-то, вишь, еще не управился… – отзывался мельник.
– А у меня уж сердечушко все изболело, вот те Христос! – говорил ему Прохоров, рассуждая о своих односельчанах. – Жалости в них нету – вот что!.. Вместо того чтоб помочь слабому да убогому, они – на него же все… В горе да в бедности смирен человек, тих и кроток, что твой агнец божий, – только и глядит: как бы его не обидели. А оперится, поправится с делами малость, он уж сейчас и норовит, как бы ему других поприжать – кто посмирнее да податливее… Недаром говорится: мужик богатый – что черт рогатый…
Андрей Прохоров был человек простой, искренний – и искренно болел душой за свой деревенский мир, когда приходилось ведаться с людьми, власть имущими. И он безбоязненно подставлял свою голову под удары, не страшился неприятностей и кляуз и всегда был готов пострадать, потерпеть за мир. Поговорить ли нужно со становым или с исправником – «выходи Андрей Прохоров!». Понадобится ли сходить с прошением от крестьян в город – хоть к самому губернатору – «иди, брат, Прохоров!» – Прохоров идет, говорит, подает прошенье. И приходилось ему бывать в больших перепалках. Начальство, бывало, раскраснеется, кричит на него до хрипоты: «Ах ты – такой-сякой!»… «Да я тебя!»… «Да ты у меня!»… и т. д. А Прохоров в своей сермяге, накинутой на плечи, стоит, слегка наклонив голову, как наклоняют ее против ветра, стоит твердо, самоуверенно, лицо спокойно, ни один мускул не дрогнет; стоит как железная статуя, молчит… А спросит его начальство – Прохоров опять за свое и спокойно, ровно, не торопясь излагает дело. На этого человека, очевидно, можно было кричать и шуметь, сколько угодно, но нельзя было запугать его. Он походил на крепкое дерево с живой, здоровой сердцевиной: такое дерево невозможно ни сломить, ни согнуть, его можно только вырвать с корнем. Прохоров был стоек и упрям, и бури, разражавшиеся над его головою, не заставляли, по-видимому, биться сильнее его сердце. Только крепко сжатые губы его говорили о силе его сосредоточенности, о железном упорстве.
– Ну, брат! Ты, кажется, помрешь, а уж от своего не отступишься! – сказал ему однажды сторож той канцелярии, где над нашим «ходоком» разбушевалась сильная буря.
– Ништо мне и надо! – невозмутимо проговорил Андрей Прохоров.
И никогда ни от каких хождений он не отказывался. В таких случаях он всегда чувствовал в себе силу, ибо знал, что за ним стоит «мир», на ту пору выдвинувший его вперед.
Но когда неправда совершалась самим миром, тут уж Прохоров сознавал себя бессильным и совсем несчастным человеком. А такие случаи бывали в деревенской жизни – и даже нередко…
Кулак мошенническим, обманным образом оттягал у крестьянина землю. Андрей Прохоров возмущался до глубины души и обличал кулаческие проделки. В то же время его односельцы отнеслись к обойденному бедняку не только равнодушно, но даже как-то очень странно…
– Так ему, дураку, и надо! Вперед не зевай! Вот что!.. – говорили добрые люди.
А Прохоров знал, что мужик, оставшись с семьей без земли, плакал горькими слезами и молил добрых людей «заступиться» за него. Прохоров знал, что и с каждым из его односельчан могла бы стрястись такая же беда и каждый из них заплакал бы так же горько, как тот бедняк-«ротозей»… А то – богатенький крестьянин и бедняк придут судиться. В сущности оказывается, что оба были пьяны, оба неправы, повздорили и подрались. Но богатый выставляет ведро водки, и бедняка приговаривают к двадцати ударам розог, причем, вместо двадцати, иногда всыплют и вдвое более. А противник его стоит тут же и злорадно ухмыляется, слушая, как тот кричит от боли истошным голосом…
Однажды, лет 15 тому назад, бывший в то время старшина взъелся за что-то на одного крестьянина и стал хлопотать о выселении его в Сибирь. Что ни говорил Прохоров – не мог ничего поделать. И мир, поддавшись старшине, выселил в Сибирь ни в чем не повинного человека… Еще – случай. В Косичеве невзлюбили одну солдатку, мужнюю жену, и стали ее гнать всячески. Послушать – так хуже этой бабы не было человека на свете… Когда же умер ее муж, бабе просто житья не стало: то ее обкрадут, то из озорства окна вышибут в ее хате, то под ее хатку соседи начнут подрываться – якобы ради того, что им для чего-то земля понадобилась, то мальчишек на нее науськают и те поднимают свист и гагайканье, лишь только покажется она на улице; о празднике какой-то парень привязался к ней и изорвал на ней платье; ни за что ни про что ворота у нее вымазали дегтем – ну, словом, травили бабенку на всех перекрестках, как хищного зверя. Злобу перенесли даже на ее маленькую собачку, при каждом случае швыряли в нее палками и грозились задавить ее. Баба наконец обозлилась, стала огрызаться – и каша заварилась еще пуще. Бабу стали тягать в правленье, сажали в «холодную». Старшина был против нее заодно с мужиками за то, что баба ответила отказом на его любовные приставания… Прохоров заступался за нее, усовещевал своих односельцев, срамил их за то, что все они огулом нападают на одну беззащитную женщину, но никакого толку не вышло из его заступничества, и баба принуждена была продать свою хату и переселиться в соседний уездный город…
Вот в таких-то случаях тоска нападала на Прохорова; тут уж неправда шла не «со стороны», неправду совершал сам мир против того или другого из своих мирян. Когда мир шел заодно против общего врага, когда он сплачивался воедино на доброе дело, тогда Андрей Прохоров любил его беззаветно, почитал его, как истинную силу, и рад был душу свою положить за него. Когда же мир поедом ел своего же брата мужика, тогда Андрей Прохоров возмущался и болел за него душой… Мир сплачивался ненадолго, а большею частью не было в нем ладу. Прохоров знал, что мир может быть силой, но только не при тех условиях, при каких он жил теперь. Что это за мир такой, когда все в нем роют ямы друг другу! Пострадать и умереть за мир можно – в ожидании лучшего будущего, но жить с этим миром заодно – тяжко… Жить с ним заодно – значит страдать, значит постоянно видеть перед собой, как изо дня в день с тупым равнодушием люди все крепче и крепче затягивают петлю на себе и на других – без думы, без сожаленья… Что это за мир такой, когда любой пришелец со стороны может переломать в отдельности всех мирян, как прутья развязавшегося и рассыпавшегося веника!
Посторонних людей, стоявших вне мира и лишь соприкасавшихся с ним по разным делам, Прохоров также ценил по достоинству. «Это – хищные птицы!» – говорил он. Темный народ, весь поглощенный то работой – борьбой из-за куска хлеба, – то взаимной грызней, представляет собой для хищных птиц легкую добычу. Добыча уменьшается с каждым годом, но птицы говорят себе: «Ладно! С бешеной собаки – хоть шерсти клок!»… и спешат вперебой, торопятся добирать последние крохи. Они как будто боятся, что не сегодня-завтра будет уже поздно, что нельзя уже будет рвать клочья с этой добычи. Противны и ненавистны Прохорову эти жадные птицы, со всех сторон налетающие на деревню, на крестьянский мир, но он не боится их. Его страшит сам мир своими неправдами, – мир, что воспитывает и выращивает в своей среде целые стаи мелких хищников, мир, глухо стонущий от притеснений извне и вечно грызущийся в потемках…
– Уйду! Право, уйду! Пусть лучше глазоньки мои не глядят на них! – с отчаянием говорил не раз Прохоров своему куму-мельнику.
Много дум бродило в голове Прохорова… Если бы знать, думалось ему порой, такое вещее слово, с помощью которого можно было бы просветить людские головы, сделать людей добрее, раскрыть им глаза, чтобы они могли все видеть и соединить все силы на одном деле!.. Если бы он знал такое слово, то, конечно, тот час же сказал бы его, не убоявшись и «тьмы нападающих на него». Он сказал бы это слово, а там, после – будь с ним, что будет, – ему все равно. Днем позже, днем раньше кормить собою червей – расчета не составит… Но ведь мало того, чтобы сказать это слово на селе. Нужно сказать это слово на весь мир. Как тут быть? На весь мир не крикнешь, глотку надорвешь… Самому пойти по всему миру, и вовек его не пройти… Мудреное дело! Андрей Прохоров не видел возможности соединить людей на одном благом деле, чтобы они, забыв свои мелкие ссоры и распри, как добрые кони, дружно потянули воз в одну сторону. Не мог Прохоров сказать такого вещего слова, да не мог, видно, долее и смотреть на людские страдания и неправду, и ушел…
Мельник, конечно, сразу догадался, куда исчез Прохоров, но не счел нужным распространяться об этом. Он даже, может быть, знал и место, куда тот направил свои стопы, но молчал.
То обстоятельство – окончательное устройство домашних дел, – которое, по мнению косичевцев, должно было прикрепить Прохорова к дому, именно и побудило его привести теперь в исполнение давнишнее задушевное желание – пожить «по душе». Теперь, когда он ушел в лес, Прохоров возымел более влияния на народ. Теперь слова его глубже западали в душу… Но недолго пришлось Андрею Прохорову пожить на этот раз в лесу, на покое, в своей новой хатке…
8
Слухи о «старце» дошли до урядника, через урядника – до станового, от станового – до исправника. Исправник был в хороших отношениях с протопопом[7]. Протопоп, услыхав об отшельнике, сказал исправнику:
– Смотрите, Иван Федорович, – это дело неладно! – Как бы вам хлопот не нажить с этим старцем… Ведь это сектантством пахнет. (Протопоп при этом весьма многозначительно приложил палец к носу.) Зачем к нему народ собирается, о чем они толкуют там? Видите, они ему уж и келью там выстроили, и всякие припасы носят ему… А там, глядишь, часовню соорудят – и пойдет, и пойдет… А там всякие смуты да волнения – греха не оберешься с ними… Ныне, Иван Федорович, сами знаете, какие времена… Смотри в оба, да и то не усмотришь…
– Надо пресечь в корне! – проговорил исправник.
Он еще недавно получил орден и теперь чувствовал в себе необыкновенное рвение…
– И пресеките! – поддакнул ему протопоп, засучивая, по обыкновению, рукава своей светло-зеленой рясы. – Что тут за приношения такие? Ежели пришла охота делать приношения да лишние деньги завелись, так несите их лучше в церковь, причетникам помогайте!..
В одно жаркое июльское утро в Косичево прикатил становой с колокольцом и с бубенчиками, а за ним на другой тройке следовал старшина с урядником. Напившись чаю у старосты, выпив водки и съев полдюжины яиц, становой в сопровождении тех же лиц – да еще вдобавок с несколькими понятыми – покатил в лес. Ему было приказано: «старца», скрывающегося в лесу близ Котласа, водворить на прежнее местожительство, все приношения забрать и передать причту местной приходской церкви, а «келью» уничтожить. Таким образом, оказывалось, что все эти люди – более десятка человек – беспокоились из-за одного ветхого «старца».
Звеня и громыхая, понеслись три тройки за околицу по направлению к лесу. У опушки всем пришлось остановиться, так как дороги в лесу не полагалось. Нужно было идти пешком. Становой ругался, урядник хмурился, придерживая свой тесак, старшина-толстяк только отпыхивался. Понятые, как люди привычные к жару и к холоду, шли молча, с стоическим терпением… Даже тропинок не было в лесу; приходилось перебираться через пни-колоды, перелезать через поваленные деревья, продираться через высокий, густой кустарник. Несколько раз попадали в болото и вязли чуть не до колена… Удушающий зной стоял под сенью леса; ветерок не подувал ниоткуда; лист на дереве не шевелился. Становой вспотел, измучился и устал до того, что уже не ругался, а только что-то мычал себе под нос.
– Да что же, будет ли конец? – нетерпеливо спросил он следовавшего за ним по пятам урядника.
– Скоро, ваше благородие! Тут и есть… – отвечал тот.
– Да уж ты мне это не раз говорил, а все конца-краю нет! – пробурчал становой с досадой. – Этакий у вас лес-то кромешный, черт знает! Ступить невозможно… Точно тут нарочно пеньё наворочано! Тьфу ты – пропасть!.. (Становой при этом споткнулся и едва не клюнул носом в траву.)
– Тут надо посноровнее… – заметил старшина.
– Кой черт – «посноровнее»… Тут рыло себе расквасишь! – огрызнулся становой.
– И очень просто… – согласился урядник.
Не раз возбуждался вопрос: в том ли направлении они идут, в каком следовало идти, и понятые на этот вопрос как-то нехотя бормотали в ответ:
– Надо быть, так… Бог ё знает! Вишь, ведь дороги-то без столбов!
Становой шепотом высказал уряднику свое подозрение: не стакнулись ли между собой мужики и не с умыслом ли водят их по лесу зря. Урядник сначала молча тряхнул головой и пожал плечами, а потом шепнул становому, что едва ли мужики «осмелятся пуститься на такие шутки». Но оба они – становой и урядник – были не совсем спокойны: несмотря ни на форменную одежду, ни на оружие, они чувствовали себя в лесу совершенно беспомощными…
– Зачем его черт понес в эту трущобу? – допытывался становой, обращаясь к старшине.
– Это вы насчет Прохорова? – отозвался тот. – Да так… беспокойный был человек! Не захотел жить, как все… вот и ушел! Надо думать: просто дурь на себя напустил…
Несколько раз садились отдыхать то на сухой пень, то на какую-нибудь мшистую колоду. Становой закуривал папиросу, чтобы отбиться от комаров и мошек, и усиленно обмахивался фуражкой. Старшина окончательно сомлел от жары и все жаловался, что негде покупаться.
– Так бы, кажись, и разделся догола! – говорил он.
– В чем же дело! – подшучивал урядник. – Разболакайся! Ведь баб нету…
– Да что бабы – наплевать!.. мошкары-то здесь много больно! Так те нажгут, что – ой-ой-ой…
Тихо было в лесу; только слышалось немолчное жужжанье насекомых, да кое-где пенье птичек в густых зарослях. Таинственный шорох расходился по чаще, словно вековые деревья переговаривались между собою о том: «что, мол, понадобилось под нашею сенью этим пришельцам? для чего они нарушают торжественное безмолвие наших зеленых сумерек своими пустыми речами?»… Картины леса разнообразились на каждом шагу. Местами дерево, выкорчеванное с корнями бурей, таращилось, как какое-нибудь сказочное чудовище; местами на зеленом фоне мрачно рисовалась обожженная сосна или ель; местами посреди чащи леса являлся овраг, и деревья, росшие на дне его, казались сверху маленькими деревцами…
Наступал вечер, а зной еще не спадал. Глухие раскаты грома доносились издалека. Должно быть, собиралась гроза… Неба нельзя было видеть, только небольшие клочки его сквозили там и сям из-за зеленого навеса листвы и хвои.
9
Путники порядочно умаялись, когда наконец вышли на прогалину и очутились перед избушкой. Это лесное жилище сильно смахивало на сказочную избушку на курьих ножках.
– Это и есть? – с чувством облегчения спросил становой, указывая рукой на хатку.
– Точно так, ваше благородие! – отозвался урядник и, по приказу станового, прямо направился к двери избушки.
Не успел он дойти до нее, как дверь отворилась и из нее показался Андрей Прохоров, наш косичевский патриарх, в белой холщовой рубахе с расстегнутым воротом, в белых портах, босой, без шапки. Серебристые волосы оттеняли его загорелое лицо, а длинная борода спускалась на грудь.
– Почто пожаловали, други милые? – спросил старик, спокойно и кротко посмотрев на пришедших.
– А вот следовало бы тебя, старого дурака, в Соловецкий монастырь запрятать! – заворчал становой, усаживаясь на валявшееся тут бревно.
Полицейский чиновник был не на шутку раздосадован и утомлен странствованием по лесным трущобам. Давно уж норовил он, по привычке, сорвать на ком-нибудь сердце. Теперь для ругани представлялся самый, так сказать, законный случай, но в эту минуту старшина, наклонившись, шепнул что-то ему на ухо… Становой нахмурился и искоса поглядел на понятых. А те в свою очередь молча, серьезно смотрели на него в упор, как бы ожидая, что будет далее.
– И в Соловецком монастыре люди живут… Только за что же меня, барин, «запрятывать-то»? – спросил Прохоров, делая заметное ударение на последнем слове.
Он стоял, опершись о притолоку двери, и по-прежнему спокойно смотрел на станового. Тот молча переглянулся с урядником и старшиной, как бы негласно советуясь с ними.
– Вот такие-то вольнодумцы все и мутят народ! – проговорил становой, хмуря брови и как бы не обращаясь ни к кому в особенности. (Прежней решительности и воинственности в нем уже не замечалось.)
– Я не смущаю народ… – твердо проговорил Прохоров, не сводя пристального взгляда со станового.
– Молчи, молчи, старик! Чего ты это… – заговорил урядник, являясь на подмогу начальству.
– Почто, Прохоров, из дому-то утёк? – ласковым тоном спросил старшина.
– Здесь лучше! – просто ответил ему старик.
– Мало ли чего! Да разве это порядок? – затараторил старшина. – Что ж это будет, ежели все этак по лесам разбегутся! Кто ж станет подати платить да повинности отбывать?..
– Все по лесам не разбегутся. Вот ты первый в лес не побежишь… – с улыбкой проговорил Андрей Прохоров. – А повинности… Я уж пятьдесят лет отбывал их. Трое сыновей у меня – работники, на ноги поставлены. Мои счеты с вами кончены…
– Да все-таки… нешто это в законе – по лесам-то жить! – возражал старшина.
– Ой, родной! – жалостливо перебил его старик. – Не нам о законе-то говорить, да не нам бы и слушать о нем… Вот что!
– А для чего народ-то к себе собираешь? – опять вмешался урядник.
– Не собираю – народ сам идет ко мне! – отвечал Прохоров. – А добрых людей я от себя не гоню!
– Ну, так вот… – размеренным, отчетливым тоном говорил становой. – Приказано избу твою уничтожить, тебя самого водворить на прежнее местожительство, а приношения, какие у тебя окажутся, передать причетникам. Слышал?.. Доход только у церкви отбиваешь!.. Показывай теперь: какие у тебя приношения!
– Приношенья!.. А вот пожалуйте – возьмите, голубчики! – сказал старик, указывая на сенцы. – Немного у меня приношений… берите, коли надо!
Урядник, по приказанию станового, тотчас же вошел в полутемные сенцы и, погодя немного, заявил, что нашел мешочек сухарей, весом около полупуда, столько же овсяной крупы да пяток яиц. Все эти убогие приношения немедленно вынесли из сенец и, как трофеи, разложили на прогалине.
– И только? – не без удивления спросил становой, выразительно приподняв брови.
– Так точно, ваше благородие! – отозвался урядник.
– Гм! Странно… – проворчал становой, в недоумении переглянувшись со старшиной.
– Да! Не велико богатство… позариться не на что! – промолвил тот, усмехнувшись.
Очевидно, власти рассчитывали найти в «келье» чуть не целый клад и ошиблись…
– Ну, ладно! Выноси теперь свое добро – да живее! Копаться нам некогда… – крикнул Прохорову становой, посмотрев на свои карманные часы.
Часовая стрелка уже показывала VII.
Прохоров, не говоря ни слова, вынес из хаты книгу в старинном порыжевшем переплете, надел шапку, сапоги, набросил на плечи армяк, а один из понятых взялся нести его овчинный тулуп.
– Что за книга? Покажи! – обратился становой к Прохорову.
Тот молча подал ему книгу. Оказалось – Евангелие. Становой слегка перелистал его и отдал Прохорову.
– Все вынес? Больше ничего нет? – спросил становой.
– Нет ничего! – сказал старик.
– Теперь запалим келью! – начал старшина. – Поторапливаться надо…
– За что этак, братцы!.. Кому же я помешал-то здесь? – горячо заговорил старик.
– Да и то… – проговорил один из понятых. – Ведь он – не убивец, не вор-грабитель… Что уж его оченно…
– Молчи, молчи ты! – с угрожающим видом крикнул урядник, потряхивая своим тесаком.
Становой, с явным беспокойством, исподтишка осматривался по сторонам. Понятые переговаривались о чем-то между собой и тоже, по-видимому, волновались. Старшина открякнулся, встал с бревна и поспешил на выручку.
– Сказано ведь тебе, Прохоров, что в народе смуту производишь… Как это ты, братец, странно говоришь! – с ласковым видом заметил старшина, подходя к Прохорову.
– Это точно, что никакой смуты от него нет… – опять заворчал кто-то из понятых.
– Экий народ-то… а?.. Дерево! – выразительно промолвил старшина, хлопнув себя по бокам и как бы в величайшем удивлении посмотрев на мужиков.
– Не ваше дело рассуждать! – прикрикнул становой, приосаниваясь, и в свою очередь поднялся с бревна и присоединился к старшине. – Не для того вас сюда взяли… Вы что тут за командиры, а?
– Воля ваша… А старик он смиренный! – говорили понятые.
В продолжение нескольких минут власти вполголоса совещались между собой, после чего становой вдруг выступил вперед.
– Поджигай, ребята! живо! – скомандовал он, обращаясь к понятым и указывая на хату.
Но тут, к сожалению, встретилось непредвиденное препятствие: ни у кого из понятых не оказывалось с собой спичек.



