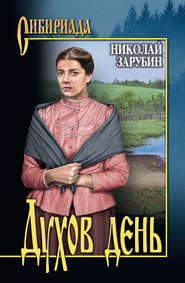скачать книгу бесплатно
Прошёл к столу и сам, вынув из кармана полушубка пол-литра водки. Поставил, поклонился Фёкле, произнёс:
– Вы, уважаемая, не обессудьте мужиков: без чинов мы и к вашей семье со всем нашим уважением. Хотим вот сосватать дочку вашу Катерину за молодца Капитона Семёновича. Он хоть и не без изъяну, но и работник отменный, и специалист лучший у себя на производстве, и хозяин в дому хоть куда, и мужик справный. За им Катерина не пропадёт. И на её мы поглядели, и хорошо знаем, какая она у вас и работница, и любящая родителей дочь. И красавица писанная: приоденется, приобщается, будет на загляденье и на зависть всем.
Капитон и в самом деле оказался мужиком хоть куда. Очень скоро молодая убедилась, что руки его ко всякой работе приспособлены: табуретку ли изладить, шкаф ли посудный, щеколду какую на ворота, ведерко жестяное, заплот поставить ли, стайчонку ли срубить.
Въедливость его в работе порой раздражала Катерину: семь раз отмерит, прежде чем отрежет. А ты стой рядом, смотри и жди, когда надо будет поддержать чего-нибудь, подсобить там, где одному несподручно. Ну, уж после, когда дело сделано, в радость – обнова в доме ли, во дворе ли, в стайке ли. На многие года излажено и добротно подогнано, чисто отфуговано, красиво и со вкусом сработано.
С настроением и желанием суетился мужик – это видела молодая женщина, не слепая ведь она и не бесчувственная. И стала прикипать она душой к этой чужой для неё ещё недавно семье, а со свекровью Настасьей Степановной сошлась сразу же, как, почитай, в дом вошла.
– Ты, Катерина, поспи лишку, – скажет иной раз Настасья. – Не спеши вставать, намаялась, чай, за неделю-то на работе своей, да в дому работёнки – только поспевай. А я, старая, и скотинку обихожу, и завтрак сготовлю, и деток досмотрю. Отдохни…
Или так-то:
– Ты, Катерина, примай Капку таким, каков есть, и ему ведь несладко таковским-то жить. А ежели с добром, дак горы свернёт Капка-то. Немчура он, канешна, все навыворот понимат, всё с другого какого боку. Ти-ир-пи-и-и, милая. Чё уж тут боле…
Терпеть приходилось непомерную ревность мужика. Идут, скажем, улицей к кому в гости, ты – рядом ступай, да не приведи господи на мужика какого встречного глянуть – пыль до неба подымется: засверкает глазищами, замахает ручищами, того гляди кулаков испробуешь.
Или, скажем, чуть припозднилась на работе, а он уж и прибег к воротам нефтебазовым и затаился где неприметно, ожидая, когда покажешься и с кем покажешься рядышком.
Всю эту науку познавала не разом и не в один день. Через ругань домашнюю, через замахи и выкрики мужиковы. А с годами Капитон осваивал слов всё больше и больше, выделяя из них самые жалкие и потому до слёз обидные, ею, Катериной, незаслуженные. Обучился и подзаборным матюгам.
– Врёщ-щь! – кричал. – Обманываешь! – напирал, делая ударение по-своему на предпоследний слог. – Разговариваешь! Хочешь делать!
Страшно становилось от того крика и угроз. И что там говорить: выскакивала в окошко, в чём была. Пряталась в картошке. Ночевала у соседей.
Отходил от припадков.
Отыскивала её свекровь, уговаривала, и снова переступала она порог избы. И продолжалась жизнь дале – до припадка следующего.
Свой угол
Давно обжилась и обнюхалась стайка. Прясла выгона, скрипучая калитка, ясли, в коих не убывало корма, – вся жизнь Майкина здесь. Стоит себе, поглядывая немигающими глазами вперёд себя, перекатывая в голове жернова своих коровьих дум.
Приходит к ней бабка Настасья, прибегает невестка её, Катерина, заглядывают подраставшие детки хозяев: бросают сенца, ласкают за шею, заглядывают в глаза, что-то лопочут на своем ребячьем языке.
Время от времени ворочает лопатой и молчаливый хозяин – долго, старательно, после него не остаётся ни свежего, ни застаревшего навоза – вычищает после лопаты под метлу, и это Майке нравится. От него, от хозяина, зависят и корма, хотя хозяйка ни в чём не уступает хозяину: косит, гребёт, подгребает и подбирает за Капитоном, а уж он укладывает заготовленное в копны, в зароды, доставляя всё это добро на усадьбу, и тут же укладывает самолично. Это ему Майка обязана тем, что сено никогда не отдаёт прелостью, сберегая в себе до самой весны все запахи, свойственные жаркому месяцу июлю.
В какое-то время хозяйка стала забегать к ней реже, хозяин и вовсе позабыл про корову. Работу Катеринину переделывала бабка Настасья, работу Капитонову – подросшие ребятишки, каковых в семье было уже четверо.
Дело же оказалось в простом: хозяева строили собственный дом. Дело хлопотное, нелёгкое и не всякому посильное. Но её, Майкина, семья могла это себе позволить, к тому же под строительство государство давало ссуды, и семья взяла в рассрочку семь дореформенных тысчонок.
Поехали в лес и навалили сосен на сруб. Привезли и ошкурили, перекатав в штабель, чтобы проветрились и обсохли. В мае месяце собрались друзья хозяина, сродные братья и принялись за сруб. Сам Капитон трудился над брёвнами, доводя до требуемой чистоты и гладкости каждую лесину. Другие подымали те лесины, вырубали паз и углы и укладывали на заготовленный ещё зимой длинный болотный мох, который выпиливали из вечной мерзлоты ножовками, а затем подрубали топорами, и получались кубы неправильной формы. Работёнка, понятно, тяжёлая, зато мох, на славу, укладистей и теплее любой пакли.
Где-то к августу сруб уже стоял, выпирая в небеса стропилами, но не было дранья на крышу. Договариваться насчет дранья в деревню Кокучей ездила Катерина. Она вообще и ходила, и ездила всюду, где требовался язык и слух, и чего, понятно, не мог проделать Капитон по причине отсутствия оных.
В Кокучее драньём промышлял некий старик, имя которого давно забылось – с ним-то и сговаривалась Катерина.
К осени сруб стоял под крышей – над ней колдовал муж старшей сестры Капитона – Лёня Мурашов, вернувшийся с войны с покалеченной ногой.
До крыши настелили потолки, и всю зиму до первых весенних денечков на стройке обитал или один Капитон, или вместе с хозяйкой своей Катериной: подгонял, подконопачивал, подпиливал, подстругивал, подбивал, подстукивал. В общем, работа находилась на каждый день, а вот дней этих недоставало.
Помимо всего, в местной столярке выстругивались и вырубались косяки, изготавливались рамы, двери, плинтуса, опанелка и обналичка.
Готовились доски на полы. Пилился штакетник, строгались доски на заплоты, на навес, на прочие нужды. Зимой же заготовлен был лес на стаечный сруб, а сама стайка рубилась всё в том же мае – это уже для Майки, её телков, для поросят и курей.
– Сами измотались и меня, старую, измучили, – ворчала иной раз бабка Настасья. – Прибегут с работы, как ошалелые, и на стройку: хлещутся тамако, хлещутся, а возвернутся к часам десяти-одиннадцати вечера, похватают-похватают еды какой – и падают замертво на постель.
Но более всего, сокровеннее всего выговаривалась, сидя с подойником меж коленок, под Майкой.
– Ишь, – бормотала Настасья, – строить вздумали. Хорошо-то как, ведь угол свой иметь – это душе радость, да ещё какая. Хлещутся оглашенные, бьются, как рыба об лёд, на стройке и мне, старухе, радость. Може, и Капка одумается маленько, не станет цепляться к жене с ревностью. Заживут своим домишком ладненько, и мне будет где косточки сложить.
Майка ворочала ушами, вздыхала шумно, пыталась оглянуться на старуху, отчего слегка сдвигалась со своего места.
– Стой, тебе говорят! – одергивала её Настасья. – И чё с тобой, окаянной, поделалось, не стала стоять на месте…
И грозила:
– Я вот тя понужну счас чем ни попадя!
Майка успокаивалась, а Настасья далее наговаривала во след за своими старческими думами:
– Сливочек сёдни выгоню свеженьких, блинчиков напеку к обеду. Вечером тесто поставлю на печечку, поутру завтрева попекушек настряпаю, пряничков… Ребятишки небось с родителями пойдут на стройку прибираться. Щепок небось да стружек всяких – вороха немеряные. Ну а я уж в дому управляться. Мне не впервой с хозяйством. Явятся уставшие, вспотевшие, а у меня в чугунке – картошечка с мясцом упаренная, молочко в криночке, прикрытой блюдечком. Хлебец нарезанный под полотенчиком. Огуречек малосольненький. Славно покушают, работнички, да меня похвалят, старуху. Ох-хо-хо-хо-хо-о-о…
И суетилась Настасья, силёнки ещё были в бабке. В воскресный день, если позволяли переделанные и не переделанные дела домашние, торопилась в Никольскую церковь – помолиться за души умерших сродственников. За настоящий день, чтобы всё в нём складывалось как надобно. За день завтрашний, чтобы был, как у людей, с прибытком и приростом.
В церкви отдыхала душой и телом, не замечая времени. Высоко вздымались голоса певчих, ещё выше летела её душа к тому, кто был выше всех.
В этой церкви она и венчалась со своим унтер-квартирмейстером. Здесь крестили старшего, Зиновия, а за ним – ещё шестерых. Только жить осталась тройня: Петька, Клашка да Капка.
Умилялось сердечко Настасьи, глаза оглядывали старинные образа. За всех молилась – за близких, за недругов, за вовсе незнамый люд сторонний. Хотя как тут скажешь – сторонний… Вот когда лежали они с Петькой в тифу, сторонние-то и спасали. Ходили за ними, прикладывали на головы холодные тряпочки, кормили с ложечки, пичкали лекарствами. А своя-то невестушка, братки Гани жёнушка, коровёнку-то и умыкнула. Пошла утром в стайку – нет коровёнки. Обегала все местечки окрест, нет родимой. И как тут жить? Голод был повсеместный, убогость и шатание в людях. Детишек нечем кормить, с себя последнее сымали, чтобы только выжить. Тогда-то и снесла на базар медаль золотую, что от мужа осталась: на самое необходимое потратила – на пропитание и отрез материи, чтобы было из чего мальчонке штаны изладить, а Клашке – юбку какую – о себе-то и не думала. А медаль ту Семёну Петровичу дали за свершённый подвиг на войне с японцами в Порт-Артуре, вроде как спас от смерти какого-то высокого начальника.
Жалко было расставаться, да делать нечего – спасаться надобно было, себя и деток спасать.
Спустя какое-то время подсказали соседи, что, мол, в ельнике шкура и голова коровы лежат. Пошла посмотреть – и точно, выпотрошили, злодеи, Белянку-то. Пала тогда Настасья животом на землю, обхватила руками ту шкурёнку и пролежала безгласная, не помня себя, может, час, может, и два. Лежит и чует – кто-то дёргает её за подол юбки. Повернула голову, глянула из-под руки, а то Капка дёргает. И встала на ноженьки-то, а они дрожат, будто под кулями ходила. Прижала к коленкам Богом обиженного мальчонку, и стояли они так-то неведомо сколь времени.
И дальше стали жить. Без коровёнки-то собственной пришлось в батрачки наниматься – на чужих людей косить, чтобы перепала какая кринка молочка.
Вовсе тяжко пришлось Настасье. Скотинка для неё – всё одно что живой человек, с коим и поговорить можно, и время убить за работой, и с пользой силы употребить, ведь недаром говаривают – у коровы молоко на языке. Уход, кормёжка и словечко ласковое – в том вся мудрость и заключается.
Ведь чем бывает человек зависим от другого человека? Хлебом насущным бывает зависим. Вкалывает на чужой полосе – вот и зависим, потому как вырабатывает себе на кормёжку. Вкалывает где-нибудь на «железке» – и тут зависим, потому как получает казённую зарплату, которая опять же пускается на пропитание. Свободным человек бывает только при собственном продукте, потому в жизни этой всему голова – живот. А с полным животом можно и на печи лежать, да в потолок поплёвывать, можно куда поехать, можно и ворога какого ломить.
Не-ет, для Настасьи скотина во дворе – почище сторожевой башни с пушками, ведь ежели от чего и ограждаться человеку, так это от праздности. А трудящемуся человеку нечего опасаться. Он всё пересилит, от всякой напасти спасётся и других подле себя спасёт.
Правда, кроме всего прочего, есть ещё злые люди, которые плохо спят, ежели кому-то сегодня какую пакость не сделали. Ничего не пропустят мимо себя, всё узрят и всему учинят свой суд.
После того как схлынула гражданская междоусобная бойня, в которой одни горлопанили, другие шли стенка на стенку, а третьи под шумок перебивались разбоем, крестьянину пришло некоторое послабление, и многие добрые хозяева возвернулись к земле. Много было поднято и восстановлено пашни, а по деревням в пору утреннюю, росную побрели неспешно, пощёлкивая бичиками, пастухи – стала, значит, разводиться во дворах и скотинка.
Но в каждой деревне наряду с хозяевами, кои хотели жить своим трудом, было двое-трое таковских, что не оставили мысли о сладком житье-бытье за счёт других. Таким при новой власти оказались открыты все двери. Засели в сельсоветах, комитетах, перерядились в активистов и атеистов. И то коммуну какую-нибудь организуют, то ещё чего. Проедят-пропьют обобществлённое, не ими нажитое добро и снова думают думу: «Как, где и чего прибрать к рукам?»
Когда пошли колхозы, то тут уж и вовсе осатанели. Лучших хозяев повыдернули из деревень да угнали неведомо куда. А те, что поплоше достатком, поневоле оказались в колхозниках.
Ларион Белов недолго ходил в председателях – не угодил чегой-то новой власти. На его место прислали из Тулуна вовсе пришлого с чужой стороны человека. Этот по деревне ходил в брюках-галифе, кожаной тужурке, с наганом на боку. Называл себя «полномоченным». Тут же пояснял:
– Я полномоченный партии. Гнил в царских тюрьмах, проливал кровь, борясь с врагами трудового народа, теперь вот веду вас всех в новую жись, где не будет хозяев-богатеев, а где будет советская власть плюс еликтрификация всей страны.
Последние слова про «еликтрификацию» произносил с особым нажимом и значением. И каждый, кто посмекалистей, понимал – ради этих слов «полномоченный», которого деревенские зубоскалы живо переиначили в «подмоченного», и затевал свои речи. Очень уж, видно, хотелось тем самым то ли унизить деревенского неуча, то ли подчеркнуть собственную роль положенца.
Пошла к уполномоченному с делом – корова поднялась, к быку обобществлённому надо бы. Глянул, не поворачивая головы, эдак с боку, буркнул себе под нос:
– Тебе самой ишшо быка надобно…
– Ах ты, такой-сякой! – налетела на него вихрем. – Быка мне надобно, говоришь? Я вот тебя счас…
В руках откуда-то взялись вилы, и, ежели б не сбёг, то запорола бы на смерть.
Дня через два деревенские комсомольцы собирают собрание, и Петька там же. Встаёт секретарь Гришка Татарников и говорит:
– Повестка нашего собрания одна – об утере комсомольского билета Петром Зарубиным.
– Как это об утере? – вскочил со своего места Петька. – Я свой билет не терял – с чего это вы взяли? Счас принесу.
Кинулся домой, где в сундуке, на самом его низу, с другими документами, хранился комсомольский билет. А там его и нетути!
Долго шарил Петька в сундуке, все тряпки перетряс, но билета так и не нашёл.
Получалось, кто-то из посторонних побывал в избёнке, из посторонних, но не чужих. Лишь через несколько лет выяснилось, что билет, по наущению председателя Гаврилова, выкрала та же Ольга с пьяными дружками. Она же зачала травить обобществлённых коров, а указали на попавшего в опалу Петьку – будто это он подсыпал чегой-то в корм. Спасти от тюрьмы могло только бегство из колхоза. Бежать пришлось, оставив и домишко, и скотину во дворе, всему немногочисленному семейству. И пошли мыкаться по чужим углам уже в Тулуне. Она-то в Тулуне, а сыну Петьке пришлось выехать и вовсе куда подальше. Хорошо хоть картошку подмогли люди добрые вызволить из деревни, не то и вовсе ложись помирай. Картошка и спасла от голода: ею рассчитывалась за постой у чужих людей.
Потому у Настасьи и к картошке особое отношение. Когда чистить садится, повторяет про себя слышимое в родительском доме: «Матушка-картошечка, нет тебе поста…»
Любит Настасья ту пору летнюю, когда картошка в земельке наливается сладостью через обращённую к свету крепкую, кустистую ботву. Чаще, чем когда-либо, ходит она тогда в огород, подолгу стоит, прислонившись к пряслам коровьего загона. Оглядывает простор огородний слезливыми глазами – глаза-то у неё видят худо, и тому тоже есть причина.
В самый разгар войны потчевала как-то внучек своих, деток Клашкиных. А чем можно было потчевать, кроме картошки?
Пришёл Капка на обед – ему поставила на стол приготовленное. Откушал, сел на порог покурить. Долго чего-то сидел, а ей, старой, привиделось, будто на работу с обеда опаздывает. Возьми и ткни пальцем в сторону ходиков, что висели на обеленной заборке, мол, времени уж много, пора на работу шагать…
А немчура чего-то озлился, подскочил к матери, подвёл грубо к самым ходикам и тычет, мол, гляди, старая, сколь времени ещё, он и сам знает, когда ему на работу придёт пора отправляться. Настырно так тычет. Хотела она сбросить руку его с плеча, и надо же было неловко ворохнуться, что растопыренные пальцы свободной Капкиной руки угодили ей прямо в оба глаза.
Одному-то маленько досталось, так как, видно, палец был согнутый, другой почти что выколол.
Долгонько потом мучилась, никакие примочки не помогали, и потеряла зрение, считай, наполовину. Один глядит вроде ничего, другой – муть одна.
С Настасьей в огород тащатся и дитёнки Капитоновы. Колька – тот ещё сорванец растёт. Зайдёт в картошку, станет на четвереньки и спрячется. И вот зовёт его бабка, вот надрывается.
– Здесь я, баба, – откликнется мальчонка, показав голову из-за ботвы.
Она к нему, а он снова нырнёт в ботву и отползёт в сторону.
– Тута я! – опять кричит.
Покудова не наиграется со старухой, не выползет из картошки.
Или с соседским парнишкой раздерутся, а она ходи их унимай. Много в те годы рожали ребятни бабы.
Будто горох, высыпят из барачных клетей – головы светлые, потемней и вовсе тёмные. По головам только и разберёшь, где свои. Залетит в дом, кусок хлеба схватит, только его и видели. Рта не успеешь открыть, мол, поешь, внучек, приготовлено ведь…
Хлопотно с ними, но в радость. Болезни бы не привязывались.
Бабка Настасья то и дело крестится, вздыхает, что-то припоминает, о чём-то печалится. Вспоминает…
В пору, когда только что купленная корова Майка стала в силу входить, – заболел старшенький. Болезни посыпались, будто кто куль развязал с болезнями-то. Одна, другая, третья, а мальчонка уж в былинку превратился. Обескровился личиком, истончился ручками и ножками. День и ночь: кхы да кхы, кхы да кхы…
Пришёл фельдшер Ян поутру, глянул и даже укол не поставил. Покосился в сторону сидевших к столу спиной Катерине и Настасье, пробормотал, будто про себя:
– Если до обеда доживёт, то хорошо…
Повернулся к двери и вышел.
Поднялись мать с бабкой, молча придвинулись к сундуку, откуда вынули чистую простынку, длинную белую рубашонку мальчонкину.
Настасья принесла в тазике тёпленькой водицы. Отёрли тельце влажной тряпочкой, обрядили, положили дитё всё на тот же сундук, который стоял в избе как раз под образом Святителя Иннокентия, вернулись на прежнее место к столу.
Сколь так-то сидели, дожидаясь мальчонкиной смерти, – никто не знает, только вдруг и говорит свекровь невестке:
– Слышь, Катерина, чего я подумала? А не сбегать ли тебе в «Заготзерно» к бабке Варваре?.. Может, она чё поладит?..
Без слов выскочила Катерина на улицу и всю-то дороженьку летела, земли не касаясь. До этого «Заготзерно» – километра с три будет. Влетела в Варварину избушку и чуть ли на колени не пала перед старухой – выручай, мол, баушка…
Та чего-то прихватила с собой, и пошли они теперь уже длинной дороженькой, ведь Варвара не смогла бы угнаться за молодой отчаявшейся матерью.
Держит под руку старуху Катерина и всё как бы норовит убыстрить шаг. А старуха, будто придерживает молодую, приговаривая:
– Не торопи меня, милая, всё одно смерть нас не перегонит…
И дошли так-то до барака, где проживала Катерина с семьей.
Взошли, и Варвара приказывает – подать чистой воды, а сама наклонилась над мальчонкой, ощупывает тельце, чего-то нашептывает. Потом вынула из-за пазухи свечку, чиркнула спичкой и подожгла ту свечку. Подождала, пока соберётся воску подле фитилька и опрокинула тот воск в посудину с водицей. Помедлила чуток и запустила в посудину пальцы – вынула остывший воск и глядит на него, оборотясь к окошку.
Потом повернулась к хозяевам и говорит твёрдым голосом:
– Будет жить ваш мальчонка. Счас у него самый чижёлый момент, но вижу: болесь пошла на спад. Очнётся скоро, тада попоите травой, кою запарите по моему указу. Попоите трижды со словами: «Ты болесь, ты немочь, ты хвороба окаянная, ты уйди откудова явилась. Ты забудь дорожку к нашему дитёнку…»
Подала траву в мешочке, наказала, сколь сыпать и как парить. Перекрестилась на образ и – только её и видели. Своими ногами пошла без подмоги сторонней. Спохватились занятые своими мыслями и заботами хозяйки, а Варвары уж и след простыл.
Всё, как наказывала старуха, сделали. И одыбал мальчонка. На глазах стал выправляться. Головка стала держаться на плечиках. Ручками, ножками стал шевелить. Голосок проявился.
Подошло время, и забегал по избе мальчонка и то к одному окошку сунется, то к другому прильнёт – хочется ему на улицу, а домашние не пускают. Придвинет к окошку табуретку, взгромоздится и подышит на стеколку: потрёт-потрёт пальцами и глядит на заснеженную дорогу, на покрытую вздувшимися сугробами поляну. И снова заиндевеет стеклина. И снова подышит и потрёт.
Так-то однажды и выдавил стеколку. Соскочил с табуретки, забился в угол за сундук и примолк.