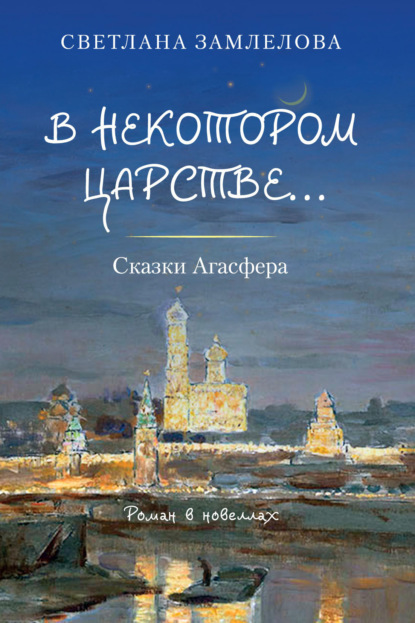
Полная версия:
В некотором царстве… Сказки Агасфера
Еким взгромоздился на козу, одной рукой прижимая к себе узел, другой – уцепившись за уздечку.
– Ну давай, Еким, прощаться, – сказал незнакомец, кладя на плечо Екиму правую руку. – Бывай… Папиньку слушай… Ну и… благодарствуй…
– Что ты! Тебе спасибо! – отвечал Еким. – Озолотил меня.
И что-то опять кольнуло Екима, какое-то странное сходство, что-то такое в этом удивительном человеке, что Еким подметил сразу, на этом же месте во время их первой встречи. Подметил, но так и не понял.
– Что, бабинька? – наклонившись тем временем к козе и поглаживая её между рожек, проговорил незнакомец с деланной лаской. – В Москву?.. В Москву!..
Коза мотнула головой, как будто желая сбросить с себя руку, встала на дыбы и пустилась карьером.
И вдруг Еким понял. Неизвестно, почему именно в эту последнюю минуту он ухватил мысль, которая раньше ускользала от него: вот сейчас, когда незнакомец гладил козу, Еким точно видел, что на правой руке у него не хватает большого пальца…
– Как тебя звать-то? – крикнул Еким, но коза уже несла во весь опор, и ответ незнакомца не долетел до слуха Екима.
* * *В тот же день, да притом, кажется, и очень скоро Еким был в Москве. Как именно они добрались, он не мог потом объяснить. Оказавшись вдруг в Сокольниках, где-то посреди Грабиловки Еким спешился. Нужно было что-то сказать козе, но Еким запамятовал и силился вспомнить. Коза тем временем уставилась на Екима. Он перепугался и забормотал первые, пришедшие на ум слова:
– Чур, чур меня… развались…
– Дурак, – сказала коза старухиным голосом, плюнула в Екима и растаяла.
А Еким уже беспокоился, как бы поскорее покинуть место, куда, должно быть, нарочно доставила его коза. Будучи наслышан о встречах местных дачников с обитателями грабиловской чащи, Еким отнюдь не желал столь бесславного конца своим похождениям. Место было глухое, под ногами вилась кем-то вытоптанная тропа. До ближайшего тракта или хотя бы посыпанных песком дачных дорожек предстояло ещё добраться. И Еким снова тронулся в путь. Но не прошёл он и десяти шагов, как остановился – в траве у самой дороги он заметил камень. Обыкновенный серый камень, размером с небольшую сковороду, на которой у Петунниковых пекли блины. Примечательным казалось то, что камень был плоским. Такие камни, разве что поменьше, во множестве устилают речное дно или морской берег, о котором, к слову сказать, Еким не имел представления, не быв даже и в Петербурге, море же видев только на картинках. Но как попал эдакий голыш в Сокольничий лес, можно только догадываться и строить всевозможные предположения. Да и то при условии, что кому-то придёт охота размышлять о судьбе серого камня. Вот и Еким, подивившись камню, не остановился мысленно на его происхождении, но предался раздумьям совсем иного рода. Подойдя к камню, он присел перед ним на корточки, погладил гладкую тёплую спинку и сказал мечтательно:
– А ведь маменька о тебе давно мечтает… А ты… того… лежишь тут… Да знать бы – давно бы пришли за тобой! Маменька ещё по осени говорила: «Камушек бы гладенький на капусту – в маленькую кадушечку не хватает камушка». Заместо тебя, брат, маменька чугунок с водой ставила… А камушек, говорит, лучше был бы… А ты – вот он, где!
Еким с каким-то даже умилением снова погладил камень и сказал:
– Ну собирайся, брат – со мной пойдёшь. К маменьке…
Не без труда оторвал он вросший в землю камень, под которым осталась неглубокая ямка, служившая пристанищем целому сонму жуков, червей и каких-то непонятных, но схожих с ними существ. Вся эта гвардия тотчас расползлась и разбежалась, и только полусгнивший осиновый лист одиноко оставался лежать во влажном следе, оставленном камнем.
Отряхнув находку и прижав к себе сухой стороной, Еким подхватил узелок и поспешил вернуться на оставленную тропу. Но не успел он пройти ещё десятка шагов, как случилось то, чего ещё недавно он сам опасался и чему сам же, возможно, и поспособствовал своей чрезвычайной задержкой.
На тропу, непонятно откуда, а по всей видимости, из-под ближайшего разросшегося куста, шагнул некто курбатый, изрядно обросший и оборванный, с поленом в руке. Поленом он, как будто разгоняя комаров, помахал перед самым носом у Екима, после чего сказал отрывисто, точно выстреливая словами:
– А ну… стой! Эй… ты!
Требование было излишним, потому что Еким и так уже остановился, с ужасом глядя на курбатого и замирая в предвкушении неминуемой развязки встречи.
– Что несёшь? – выстрелил курбатый и протянул огромную волосатую ручищу к узелку.
– Вы… того… – пролепетал Еким, пятясь и отводя руку с узелком от тянущихся к нему растопыренных пальцев. – Я… того… я тут не один. За мной вон… три товарища следом идут.
Но курбатый в ответ захохотал и, поблёскивая маленькими глазками сквозь тёмные упавшие на лицо пряди давно нестриженых и нечёсаных волос, объявил:
– Ну так и я… не один! Со мной вон… семеро товарищей… по кустам сидят!
И снова захохотал, любуясь испугом и замешательством Екима. Но тут Еким, даже не понимая, что делает, размахнулся маменькиным камушком и метнул его в самую физиономию курбатого. После чего, прижимая к груди драгоценный свой узелок, понёсся вскачь по лесной тропе туда, где начинались, по его предположению, дачи.
За спиной у себя он слышал стон и ждал, что выскочившие из кустов «семеро товарищей» вот-вот настигнут его и затопчут, так что и следов не останется. Но стоны мало-помалу стихли, а никто так и не настиг Екима. Правда, вместо дач он выскочил к Пятницкому кладбищу, перебежав через которое в считанные минуты, оказался на Троицкой дороге. И тут только вздохнул он свободно и даже позволил себе отдых, но не потому, что кончились глухие места. Просто знал он, что уж здесь-то Троицкий игумен нипочём не даст его в обиду.
В самом деле, ничего особенного не произошло больше в тот день с Екимом Петунниковым, и обедал он уже дома. Причём обеденный стол украшала гора золота, а Еким с необычайной для себя бойкостью рассказывал о своих похождениях. Рассказал он и о покупке мертвеца в Старой Руссе, и о походе своём в лес за чудесным цветком, и о каморе с золотом, и о чёрной козе, и даже о сером голыше:
– Я, маменька, – с отчаянием даже говорил Еким, – ещё камушек хотел принести вам в кадушечку. Да разбойники, окаянные, напали, отняли камушек-то!..
Само собой, рассказом о камушке он привёл в совершенное умиление как Фёклу Акинфеевну, так и тех домочадиц, чьи головы были заняты исключительно кадушечками и прочими вещами в том же роде.
Влас же Терентьевич сына выслушал молча и ни перебивать, ни попрекать не стал. Но однако, слушая рассказ Екима, он то и дело мотал головой и тёр себе лоб, из чего можно было заключить, что думал он примерно следующее: «Эко врёт Екишка…» Тем не менее горка золота посреди стола красноречивее всего свидетельствовала в пользу Екима. Эта же горка и примирила Власа Терентьевича с возвращением и россказнями блудного сына. И только уже перед сном, оставшись один на один с супругой, он позволил себе высказаться в том смысле, что вот же де свезло дураку. А потом прибавил задумчиво:
– Хоть и врёт, не говорит, откуда золото взял – а всё свезло!.. Вот кабы только греха с ним не было – разбойники какие-то… Камушек, говорит, забрали, а золото оставили…
Но Фёкла Акинфеевна только заметила, что «хоть бы и дурак, а шапку золота принёс», и дальнейший разговор поддерживать отказалась. Влас Терентьевич признал, что «оно и правда», золото прибрал и говорить о нём запретил. А если потом и просачивались наружу новости, если расспрашивали его о золоте, Влас Терентьевич называл эти разговоры вздором и уверял, что Еким по святым местам ездил.
И ещё кое-что совсем незаметное случилось по возвращении Екима Петунникова в Москву. В Ирининской церкви на каменной фигуре Спасителя, что стоит в нише под аркой и украшается множеством крестиков, образков, и прочих мелких вещиц, приносимых благодарной паствой, появилось золотое колечко с красным камушком. Никто не смог бы сказать, откуда оно появилось. Да никто, наверное, и не заметил его появления.
Макарушка
Ещё до освобождения крестьян, в Москве, на Вороньей улице в Рогожской слободе, в доме мещанина Пафнутия Осиповича Трындина, исповедовавшего древлеправославную веру, появился на свет мальчик Макарий. Или, как его попросту стали называть, Макарушка.
Отец Макарушки – Пафнутий Осипович – имел небольшую мучную торговлю на той же Вороньей улице. Мать блюла заветы старины, доглядывая, как бы кто из домашних чего не нарушил, и потихоньку мечтала о невиданном доселе благочестии. Ещё бывшей в тяжести, ей хотелось получить знамения. Вернее, мечталось ей, чтобы младенец стяжал судьбу праведника и чтобы в подтверждение тому был дан ей какой-нибудь знак. Втайне дерзала помышлять она о взыгрании во чреве. Но младенец если и поворачивался, то играть никак не хотел, а равно и голоса не подавал. Да и родился Макарушка обыкновенным, как все младенцы: красным и крикливым. И ничто не свидетельствовало об ожидавшей его необычайной судьбе. Разве только в ночь перед появлением Макарушки загорелись на соседнем дворе рогожи, и скверно пахло. Сначала никто в целом доме, кроме какой-то старухи, которая даже неизвестно, кому и кем доводилась, не отметил связи между возгоранием и родами.
– Ишь ты, жоглый какой народился, – проскрипела старуха, взглянув на новорожденного.
Но её прогнали. И только спустя год, когда старухи-то и в живых уже не было, о рогожах вспомнили и старухину правоту признали. Неспроста смердели загоревшиеся рогожи в час, когда роженица в первый раз вскрикнула.
– Что это он у тебя, Матрёна Агафаггеловна, будто всё… тычется? – спросила как-то соседка, рассматривавшая Макарушку, который играл на полу и поминутно на что-нибудь натыкался.
Но Матрёна Агафаггеловна и сама уже отметила в сыне изъян. Дым от рогож будто бы выел ему глаза, и Макарушка, чтобы рассмотреть попадавшие в руки вещицы, подносил их вплотную к лицу. Когда же Макарушка подрос, опасения подтвердились: глаза его были настолько слабы, что даже учиться чтению и письму он не смог. Цветом глаза его были черны, взгляд их казался неподвижен. И всякому, на кого смотрел Макарушка, становилось не по себе, потому что было неясно: то ли он смотрит, не видя, то ли, напротив, видит скрытое от других.
Чёрные волосы Макарушки отливали в синеву, белая, на зависть девицам, кожа всегда была бледной. Никто не видел, чтобы Макарушка улыбался и уж тем более смеялся. Но это никого не смущало, потому что Христос, по Писанию, тоже не улыбался, а значит, смех – занятие лукавое, дозволяемое по слабости. Хотя, конечно, человека сложно корить смехом, в особенности, если этот человек – дитя. И всё же Макарушка – что бы ни делал – стоял ли в церкви, сидел ли возле маменьки у окна с геранью, играл ли на улице в бабки – ни разу ничему не улыбнулся. Между тем, несмотря на слабые глаза, в игре в бабки Макарушке равных не было. Подобно хромым кузнецам или слепым певцам, неподражаемым в единственно доступном делании, Макарушка слыл непревзойдённым игроком. Мальчиком обыгрывал он и сверстников, и старших себя, получая в качестве вознаграждения бабки со всей округи. После чего бабки у него выкупались, игра начиналась сызнова, а у Макарушки собирался капитал. Так шло до той поры, пока Макарушка не заскучал.
Человек на то и родится, чтобы скучать. А уж разгоняет скуку всяк по-своему. Оттого-то один в петле, другой – в кабаке, а третий – во храме Божием. Жизнь по-древлепрепрославленному протекала своим особенным чередом, и Рогожская слобода не во всём походила на остальную Москву.
Всех развлечений для Макарушки было – в бабки играть да в баню ходить. А то ещё – сиди подле маменьки перед уставленным цветами окном и смотри на улицу. Вот так посидит Макарушка и вздохнёт:
– Скучно, маменька…
– А ты сходи к дедушке, помолись вместе с ним, бес-то и отпустит.
Пойдёт Макарушка, помолится – а всё равно скучно. Чего-то всё хочется Макарушке, так и клокочет внутри. Не то взлететь бы, не то закрутиться на месте, да и покатиться бы по Вороньей улице. Удивиться хочется. Испугаться. Вдохнуть побольше… и выдохнуть.
Только всё как будто застыло вокруг: дедушка бормочет псалмы, стучит маменька спицами, пахнет герань на окошке… Точно время остановилось, точно воздух, вобрав в себя звуки и запахи, притаился без движения.
Говорят, на Москве много весёлого. Но бесовское то веселье. А познание, что из книг – грех один. Есть книги древле-препрославленные, есть Писание, есть молитвы, есть, в конце концов, порядок, раз и навсегда заведённый, ради сохранения которого и стоит Рогожская слобода. А больше ничего нет, потому что всюду грех… грех… грех…
– Скучно, маменька…
Проходит год, другой…
Отстояли обедню, наиграл Макарушка бабок, съездили в Полуярославские бани со своими тазами. И опять: стучат спицы, дедушка бормочет за стенкой и нестерпимо пахнет герань.
Отчего это – грех пойти в никонианскую церковь? Оттого что они безблагодатные. Отчего же никониане безблагодатные? А кто «Исус» с двумя «и» пишет и персты кощунственно складывает?..
Стучат спицы, бормочет дедушка, алеет герань на окошке…
Скучно, маменька!..
А в Сергиевской церкви, что здесь же, на Вороньей улице, иконы до Никона писаные. И в Алексеевской церкви, что на Подкопе, иконы старого письма. Как же они безблагодатные?
Но узнал отец, что бегал Макарушка в Сергиевскую церковь, и высек. Узнал, что в другой раз бегал, и в другой раз высек. Не бил бы отец, не пугала бы маменька грехом, не стращал бы дедушка землёй разверстой, не сулил бы судьбы Дафана и Авирона – глядишь, и не пошёл бы Макарушка в третий раз.
Встал он поближе к клиросу и подтягивает. И хорошо Макарушке в безблагодатной церкви, а отчего – не знает.
Дошло до отца про третье хождение к никонианам, и так отец высек, что занемог Макарушка. А когда оправился – к Покрову – на дворе пуховым платком лежал снег. Хотел было Макарушка снег потоптать – обувки нет. Спрятали сородичи, чтобы к безблагодатным не бегал. Посидел Макарушка дома и босым пошёл по Вороньей улице, оставляя на снегу отпечатки своих широких, плоских ступней – точно дыры на белом платке.
Сидеть взаперти, да ещё в то время, когда давно уже разрушена допетровская тишина, когда мир день ото дня вращается всё быстрее, а соблазны множатся, словно грибы дождливым летом – такую выдержку нечасто встретишь. Даже тех, кого выпестовала Рогожская и внушила гордое презрение к без-благодатным, однажды может призвать жизнь, и кто устоит против этого зова? Попытавшийся не заметит, как изуродует себя. И вот уже он влачится той же дорогой, что и лишённые благодати, только с вывороченными стопами и перекрученной шеей.
Но оказалось, что Макарушка не из тех натур, кто согласен ходить вперёд затылком. Зажил бы Макарушка обычной жизнью – да тесно. Соблюл бы заветы старины – да скучно. Где тот завет, что крылья не вяжет? Где та жизнь, что ноги не путает? Повстречайся бы Макарушке хоть кто-то, кто сумел бы наставить не битьём и стращанием, и явился бы, глядишь, невиданный в мире праведник.
В Сергиевской церкви Макарушку знали по-соседски и радовались ему, как, впрочем, и всякий раз, когда заблудшие овцы являлись к единому Пастырю.
– Ты приходи… – тихо говаривал Макарушке Герасим, маленький, подвижный старичок, при взгляде на которого всегда казалось, что вот сейчас он непременно подпрыгнет. Но Герасим не подпрыгивал, а только переминался, приседал и то и дело появлялся там, где его не ожидали увидеть.
Когда после Литургии Герасим заметил, что Макарушка, во-первых, бос, а во-вторых, не спешит уходить и топчется возле свечного ящика, как будто обронил в него какое-то сокровище, старик забеспокоился. Беспокойство и недоумение он выразил весьма скупо, неожиданно возникнув перед Макарушкой, переминавшимся у ящика:
– Ты чего здесь?
Макарушка взглянул на него своими странными – не то невидящими, не то всевидящими – глазами и ответил столь же скупо:
– Домой не пойду.
Надо полагать, что на этом и старец, и отроча поняли друг друга как нельзя лучше. Потому что Герасим без лишних слов увёл Макарушку к себе. А Макарушка отнюдь не сопротивлялся переселению на новое место. Тем более что староста был вдов, бездетен и жил один.
У Герасима отыскались для Макарушки сапоги и какая-то верхняя одежонка, настолько, впрочем, затёртая и потерявшая всяческие очертания, что и приличного бы названия для неё не нашлось.
Макарушка всё это принял молча и два дня проходил в сапогах. После чего сапоги скинул. И уже возле дома Герасима появились на уплотнившемся снежном платке чёрные дыры от Макарушкиных пяток.
– Ты чего босой? – скупо, по своему обыкновению, удивился Герасим.
– Спадает… – неопределённо пояснил Макарушка, отказавшись заодно и от чуйки.
Герасим хоть и косился неодобрительно на босого и полураздетого Макарушку, но спорить не стал, позволив странному отроку чудить до поры. Пропавшая овца была найдена, а сапоги – дело наживное. Побегает босой и обуется.
За ужином на третий день новоселья и совместного жития Герасим очень серьёзно спросил у Макарушки:
– Желаешь ли ты к истинной Церкви освящённым елеем примазаться и приобщиться Спасовых тела и крови?
Но Макарушка только взглянул на Герасима своими странными глазами и не сказал ничего.
Между тем родители Макарушки начали поиски блудного сына. Несколько дней его поджидали, уповая, главным образом, на холод и, конечно, на страх, который, по мнению старших Трындиных, должен был обратить стопы их младшего под отчий кров. Но Макарушка, не убоявшись ни разверстой под ногами земли, ни коросты проказы, ни удавки иудиной, домой не спешил. Из чего Трындины заключили, что заблудивший Макарушка «совсем страх потерял». И решили начать поиски, чтобы уже силой и данной Богом властью вернуть беглеца домой. При этом шли горячие обсуждения в отношении будущего наказания, безусловно заслуженного и даже необходимого, как средства душеспасительного и вразумительного. Разнообразием поступавшие предложения не отличались. Обсуждение так или иначе вертелось вокруг гороха, соли, розог и поклонов. И, как совсем уже крайние средства, предлагались полено и вожжи. Идея с вожжами принадлежала Пафнутию Осиповичу. А дедушка, проявивший себя с наиболее радикальной стороны, рекомендовал обратиться к средствам испытанным и работающим раз и навсегда, то есть к соли и полену.
– Эдак-то разик отходить его, сукина сына, по спине, – волновался дедушка и сжимал сухонькие кулачки, – так в другой раз не потянет в колывань эту ввязываться.
Матрёна же Агафаггеловна настаивала на более мягком наказании: всего-то розги и поклоны, счёт которых, правда, шёл на сотни. Но наказание беглого Макарушки напоминало делёж шкуры неубитого медведя, что, в конечном счёте, поняли и сами истязатели. Посему, так и не придя к единому мнению в отношении воспитательных средств, решили для начала всё же осуществить поимку непокорного, после чего уже вновь вернуться к обсуждению способов возмездия и внушения.
Поиски были недолгими. Первым же делом Пафнутий Осипович направился к Сергиевской церкви и там, стакнувшись с обретавшейся на паперти нищей братией, незамедлительно выяснил, что Макарушку приютил у себя Герасим. Да, да, тот самый – староста церкви, что живёт на Малой Андроньевской улице возле непросыхающей лужи.
Пафнутий Осипович пошёл к Малой Андроньевской, радуясь про себя скорому завершению поисков и лёгкому морозцу, прихватившему и наверняка вразумившему эту, никогда не бывшую мощёной, улицу. В самом деле, весной и осенью Андроньевская улица была как пьяная. Под ногами прохожего то чавкало, то хлюпало. Местами мостовая вдруг цеплялась за ноги и не отпускала, затягивая в какие-то пугающие топи. И прохожему требовалось немало усилий, чтобы сделать шаг и не оставить в недрах мостовой сапоги. Гордостью и достопримечательностью Малой Андроньевской улицы была та самая непросыхающая лужа, отвечавшая, скорее, определению «пруд», но располагавшаяся прямо посреди проезжей части и превращая тем самым проезжую часть в непроезжую. В пруду этом ловили мальчишки каких-то замысловатых тварей, а кто-то утверждал даже, что промышлял рыбу. Впрочем, этой рыбы никто никогда не видел.
Мороз не сковал ещё воду, и лёд не стал на Андроньевском «пруду». Однако грязь несколько подсохла, и улица сделалась вполне пригодной для безопасного хождения.
Пафнутий Осипович довольно сносно добрался до домика Герасима, ни разу не увязнув и не выскочив по пути из сапог. Герасим был дома и, встретив гостя, провёл его в единственную свою комнату, разгороженную захватанными занавесками на несколько закутков.
Войдя, Пафнутий Осипович прокашлялся, осмотрелся, но признаков присутствия в доме Макарушки не обнаружил. И тогда только спросил:
– Ты, сказывают, сына моего укрываешь?.. Так, что ли?..
– На что мне твой сын? – пожал плечами Герасим.
– Ну уж это твоё дело – «на что». Я и знать не хочу, на что тебе мой сын. Я хочу только знать, где он теперь…
– Не здесь, как видишь… – отвечал жадный на слова Герасим.
– А ну как я с квартальным приду? – как можно строже спросил Трындин.
– Приходи хоть с полицеймейстером – ответ один будет.
Пафнутий Осипович растерялся и задумался. Отчего-то поимка Макарушки представлялась ему делом уже решённым. И стоит только ступить на Малую Андроньевскую улицу, как всё остальное случится само собой: Макарушка падёт отцу в ноги, и останется только отволочь его домой для взыскания. Но вот Макарушки не оказалось, волочь некого, а что делать дальше – неизвестно. В конце концов, Макарушке пятнадцатый год, и он волен идти, куда ему заблагорассудится. И никакой квартальный, а уж тем более полицеймейстер, не пойдёт по дворам разыскивать эдакого дылду, чтобы воротить его мамке. Пафнутию Осиповичу стало тоскливо. Он опустил глаза и, переминая в руках шапку, спросил:
– Скажи, по крайности, где искать его…
– А чего его искать-то? – заметил Герасим. – Он, я чай, не иголка и не младенец – живёт, где хочет. Отступись, глядишь, он и сам вернётся…
Пафнутий Осипович помолчал, посмотрел на Герасима и ушёл, не прощаясь. Герасиму стало его жаль, и он подумал, не вернуть ли ему гостя. Он даже представил, как выводит к Трындину Макарушку, завидевшего отца на улице и перебежавшего в сарай. Как отец с сыном обнимаются, Трындин благодарит его, Герасима, и все вместе они садятся пить чай. Но потом Герасим вспомнил, что Макарушка соединился, почему возвращаться ему нельзя – домашние либо совлекут его в раскол, либо не дадут житья. В последнем же случае уйти всё равно придётся, но претерпев перед тем побои, поношения и травлю.
Пока же Герасим рассуждал таким образом, Пафнутия Осиповича, не успевшего ещё покинуть пределы Малой Андроньевской улицы, ждало приключение. Едва отошёл он от дома Герасима, как перед ним возникло существо огромное, взлохмаченное и нетрезвое.
– Стой!.. – взревело существо и раскинуло руки. – Ты кто таков есть?.. А-а!.. Знаю! Ты к Гераське ходил за мальчишкой… Врё-о-шь! Гераська тебе мальчишку не отдаст. Он его в новую веру сманил и в митрополиты хочет вывести… А ты – отступись!.. Отступись…
Пафнутий Осипович вздрогнул: не далее как пять минут назад то же слово слышал он от Герасима. Но самое страшное было про новую веру. Что если и правда Макарушка перешёл к никонианам?.. Тогда и впрямь лучше отступиться. Пусть его! Пусть, отступник лукавый, живёт как может, коли живётся…
Ревевшее на него медведем существо Трындин знал. Это был безобидный, хотя и шумный, обитатель Малой Андроньевской по фамилии Баулов, живший сдачей в наём комнат в собственном доме и неизменно пропивавший невысокий свой доход. И конечно, Баулов знал наверняка, что Макарушка у Герасима. Но расспрашивать его Пафнутий Осипович не стал. Ни слова не говоря, он попытался обойти громоздкую фигуру, перегородившую и без того едва проходимую улицу. Но ступил одной ногой в пресловутую лужу, сразу же зачерпнул воды, угодил в топь и чуть было не оставил сапог.
– Жертвоприношение! – взревел Баулов, глядя, как Пафнутий Осипович с трудом тащит из лужи сапог. – Оставь обувище, пересекающий улицу сию!
И приблизив красное своё лицо к лицу Трындина, обдавая при этом Пафнутия Осиповича винными парами, прохрипел совершеннейшую бессмыслицу:
– Ни скрывища, ни сбывища, ни одежища, ни обувища…
Пафнутий Осипович, испугавшийся и топи, и винных паров, и бессмыслицы, выдернул наконец ногу и почти бегом бросился прочь. А вслед ему понёсся громоподобный рёв:
– Жертвоприношение!..
* * *Баулов не соврал: за день до появления Пафнутия Осиповича на Малой Андроньевской улице Макарушка и в самом деле причастился тела и крови Христовых в Сергиевской церкви. Герасим, впрочем, отметил, что свершившееся оставило Макарушку равнодушным – ни радости, ни сожаления он не выразил. Но Герасим не счёл нужным обращать на это внимания и сам радовался спасённой, как ему казалось, душе. Вот почему передача Макарушки сродственникам представлялась Герасиму невозможной. Ведь в этом случае только что спасённая душа могла бы вновь оказаться на краю погибели.

