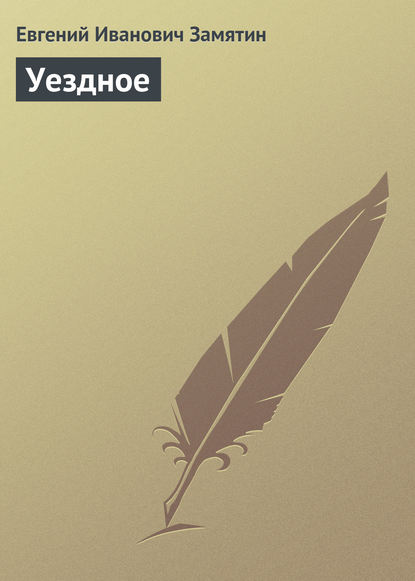 Полная версия
Полная версияУездное
А Моргунов кулаком стучит, орет неестественным голосом:
– Так их, Тимоша, так! А ну, прорцы еще, царю иудейский!
«И чего ломается, чего орет», – думал Барыба.
Правда, любил поломаться Семен Семеныч. Такой уж какой-то ненастоящий человек был, притворник, все-то подмигивает, выглядывает, с камешком за пазухой. И глаза – не то охальные, не то мученские.
– Пива нам, пива, пива! – орал Семен Семеныч.
Приносила на подносе ясноглазая Дашутка, свежая – ну, вот сейчас после дождя травка.
– Новая? – говорил Тимоша и не глядел на Моргунова.
Менял их Моргунов чуть не каждый месяц. Белые, черные, тощие, дебелые. И до всех одинаково ласков был Моргунов:
– Что ж, все они одинаковы. А настоящей все равно не найти.
За пивом, глядишь, Тимоша завел уж о своем любимом, о боговом, начал на Моргунова наседать с хитрыми вопросами: а коли Бог все может и не хочет нам жизнь переменить – так где же любовь? И как же это праведники в раю остаются? И куда же Бог денет этих убийц министровых?
Моргунов – не любит о Боге. Насмешник, наяный, а тут вот живо потемнеет, как черт от ладана.
– Не смей мне о Боге, не смей о Боге.
И говорит тихонько как-то, а жуть – слушать.
Тимоша доволен, смеется.
20. Веселая вечерня
Постом великим все злющие ходят, кусаются – с пищи плохой: сазан да квас, квас да картошка. А придет Пасха – и все подобреют сразу: от кусков жирных, от наливок, настоек, от колокольного звона. Подобреют: нищему вместо копейки – две подадут; кухарке на кухню – пошлют кусок кулича господского; Мишутка наливку на чистую скатерть пролил – не выпорют для праздника.
Понятно, перепадало и Чернобыльникову, когда ходил он по домам, открытки расписные разносил да поздравлял хозяев с праздником. Где четвертак дадут, а где и полтинник. Насбирал Чернобыльников – и повел в чуриловский трактир приятелей: Тимошу, Барыбу да казначейского зятя.
Выцвел к весне Тимоша, общипанный ходит, как осенний воробейчик, ветром шатает, а хорохорится, бодрится туда же.
– Полечился бы ты, Тимоша, ей-богу, – крушился Чернобыльников. – Гляди, какой стал.
– Чего лечиться-то? Все одно – помру. Да оно, по мне, и любопытно – помереть-то. Ну как же: всю жизнь в посаде кис, никуда, а тут – в неведомые страны путешествовать по бесплатному билету. Чать, лестно.
Знай себе посмеивается Тимоша.
– Ты бы хоть не пил-то так, вредно ведь тебе.
Нет, хоть ты что. Пьет, не отстает, по старому своему обычаю – пиво с водкой. И все в красный ситцевый платок покашливает: платчище себе завел – веретье целое.
– А это, – говорит, – чтобы в благородном месте на пол не харкать.
Ударили к вечерне. Старик Чурилов переложил серебро из правой руки в левую и перекрестился, истово, степенно так.
– Эй, Митька, получи! – крикнул Чернобыльников.
Вышли вчетвером. Веселится весеннее солнце, приплясывают колокола. Как-то и расходиться-то неохота, компанию разбивать.
– Эх, люблю я пасхальную вечерню, – зажмурил глаза Тимоша. – Плясовая, а не вечерня. Пойдем всем обчеством, а?
Барыба позвал в монастырь, благо он тут близко:
– А после вечерни к монаху одному знакомому чай пить сведу, – чудак такой.
Казначейский зять вынул часы:
– Никак нельзя, обещался к обеду, а у казначея опаздывать не принято.
– Ох, вот ушиб-то: не принято! – Тимоша засмеялся, полез за платком: нету. – Стой, ребята, платок наверху обронил. Сейчас сбегаю.
Взмахнул руками, вспорхнул, – воробейчик.
Позванивают колокола веселые, идет нарядный народ к веселой пасхальной вечерне.
– Погоди-ка, орут наверху… чего там такое? – навострил Барыба свои большие нетопырячьи уши.
Казначейский зять скорчил мину:
– Опять, наверно, драка. Не умеют держать себя в обчественном месте.
Дз-зынь! – высадили вверху стекло, осколки со звоном – вниз. И сразу стихло.
– Ого, – прислушался Чернобыльников, – нет, тут что-то…
И вдруг кубарем, красный, взлохмаченный, выкатился, задыхаясь, Тимоша.
– Там они… вверху… приказали. И все… подняли руки и стоят…
Тр-рак, тр-рак! – затрещало вверху.
Казначейский зять вытянул длинную шею и стоял секундочку, глядя вверх одним глазом, как индюк на коршуна. Потом закричал тонко и жалостно: стреляют! И пустился наутек.
А на лестнице загромыхали сапожищами, заревели, сыпались все сверху.
– И-и-и! Держи-и…
И опять: тр-рак, тр-рак.
На секунду: в дверях впереди всех – красное безглазое лицо.
«Должно быть, это со страху он закрыл глаза», – мелькнула мысль.
А он, безглазый, уж в переулочке напротив, уж сгинул. И следом сверху высыпались все как пьяные – дикие, распоясанные, гончие.
– Держи-и его! Не пущай! Во-во-вот он!
Кого-то внизу у подъезда сграбастали, накинулись, притиснули, колотили – и все-таки ревели: держи-и, – так уж просто, нужно было вылиться через глотку.
Нагнувши голову, как баран, пробился Барыба вперед. Зачем-то это нужно было, чуял всем нутром, что нужно, стиснул железные челюсти, шевельнулось что-то древнее, звериное, желанное, разбойничье. Быть со всеми, орать, как все, колотить, кого все.
На земле, в кругу, лежал мальчишечка – чернявенький такой, с закрытыми глазами. У рубахи воротник сбоку разодран, на шее – черная родинка.
Старик Чурилов стоял в середине круга и пинал мальчишечку ногою в бок. Такая степенная, борода у него вся склочена, рот перекошен – куда вся богомольность девалась.
– Унесли! А, дьяволы? Убег один, со ста рублями убег! А, дьяволы?
И опять пинал. Из-за его спины тянулись к лежачему потные кулаки, но не смели: у Чурилова украли, он, стало, и хозяин тут, ему и бить.
Откуда-то вынырнул вдруг Тимоша, прямо перед носом у Чурилова-старика, – вскочил, красный, злой, и заклевал его, засыпал, замахал руками:
– Ты что ж это, хрыч старый, нехристь, злыдень? Убить мальца-то за сто целковых хочешь? Может, и убил уж? Гляди, не дышит. Дьяволы, звери, али человек-то и ста целковых не стоит?
Старик Чурилов сначала опешил было, а потом окрысился:
– Ты что, заодно с ним? Заступник! Ты, брат, гляди. Тоже разговоры хорошие в трактире разводишь, люди-то слыхали. Держите его, православные!
Подошли было ближе, но замялись: все-таки Тимоша свой как будто, а эти были ненашенские. Так это зря, наверно, старик…
Краснорожий, рыжий мещанин, маклак лошадный, по случаю праздника напялил бумажные манжеты. В свалке манжеты сползли вниз, между рукавом и белым торчали рыжие волосы, и еще страшней были его огромные руки.
Руки протянулись к Тимоше и легонько выпихнули его из круга. Рыжий мещанин сказал:
– Проваливай, проваливай, пока цел, заступник. Без тебя управимся.
И деловито начал обшаривать чернявенького мальчонку, переворачивая его, как тушу.
Куда уж там в монастырь идти – до того ли? Весь вечер у Тимоши просидел Барыба. Чернобыльников подошел попозже. И рассказал:
– Иду я, значит, по Дворянской… Слышу, на лавочке у ворот сидят и рассказывают: «А помогал, говорит, им наш же Тимошка-портной, вот пропащий-то человек».
– Дураки, – сказал Тимоша. – Сплетники. А Чурилову, злыдню, дьяволу, так и надо. Что ему от сотни – убудет? А они, может, два дня не ели?
Помолчал и прибавил:
– Ну, неуж и до нас дойдет? А коли бы дошло – ей-богу, в самый бы омут полез. Укокошат – ну туда и дорога, все равно моей жизни полвершка осталось.
21. Исправниковы хлопоты
Ну, вот, не было печали, так черти накачали. Руки вверх, туда же, это у нас-то! А теперь хлопот у исправника Ивана Арефьича – не оберешься.
Понаехали из губернии, суд военный, – и все из-за какого-нибудь поганца-мальчишки. Председатель, полковник, худой, с седым бобриком, желудком страдал. Вот горя-то зазнал с ним Иван Арефьич! То ему нельзя есть, другого нельзя – ну, сущая напасть.
В первый раз, как приехали гости незваные, Иван Арефьич устроил завтрак на диво: бутылки на столе, коробки распечатанные, окорока, кулебяка. А полковник позеленел даже весь от злости. Туда-сюда вилкой ткнет, понюхает:
– Кажется, очень жирно.
И скиснет, и не ест. Исправничиха Марья Петровна вся исстрадалась:
– Ах, ради Бога, полковник, что же вы не кушаете? «Ну, уж и влетит теперь, должно быть, моему Ивану Арефьичу».
Зато прокурор-душа поддержал. Круглячок, лысенький, розовый, как поросеночек. В баню, наверно, раза два в неделю ходит. И все закатывается, хохочет и всего по два куска себе накладывает.
– Ну-ка, еще кулебяки-то матушки. Только, знаете, по таким заплесневелым местам, вроде вашего посада, теперь на Руси и умеют по-настоящему, по-старинному пироги печь…
А вечером у исправника в кабинете зажжены на письменном столе свечи (никогда в жизни не зажигались), разложены бумаги.
Иван Арефьич пыхтит своей папиросой-пушкой и отгоняет дым в сторону: не дай Бог, в полковника дым попадет.
Полковник перечитал бумаги и поморщился кисло:
– Что же мы, с одним с этим мальчишкой будем возиться? Когда от него ни полслова не добьешься. Ужасно обидно. На то вы и исправник, чтобы уметь разыскать.
На кровати сидя, сапоги стягивал Иван Арефьич и все к исправничихе приставал:
– Уж я и ума не приложу, Маша. Подай им еще, одного мало. Да откуда я возьму, коли он убег? Да, вот что еще не забудь: полковнику завтра к двенадцати геркулесу на молоке, уварить хорошенько, да бутылку нарзану. Ох, боюсь я его, как бы не напакостил, злющий!
Марья Петровна записала:
– Геркулес… Нарзан… А ты вот что, Иван Арефьич, посоветовался бы ты с Моргуновым. Он пройда, он чего хочешь достанет, ей-богу, попробуй.
Иван Арефьич зарубил себе это на носу и спал поспокойнее малость.
На площади перед полицией, перед желтыми облупленными стенами – базар. Поднятые вверх и связанные оглобли, лошади с привязанными мешками овса у морд, визгливые поросята, кадушки с кислой капустой, возы с сеном. Хлопают по рукам, торгуясь; зазывают звонко; скрипят телеги; кучер земского в безрукавке пробует гармонику.
А в исправниковом кабинете чинят допрос. Полковник с тоскою вслушивается в себя, внутрь: в животе глухо урчит. «Ах, господи, целую неделю не было, а теперь опять, кажется…»
Старик Чурилов вошел, степенный, длиннополый, лунь седая. Перекрестился.
– Как было-то? Да вот как, ежели все по порядку…
Рассказал, утерся ситцевым платком. Постоял, подумал: «Хорошо бы нажалиться на Тимошку-дерзеца, начальство, кажись, доброе».
– Вот еще, ваши благородия, есть тут портной Тимошка, пропащий человек, дерзец. За мальчишку этого заступаться стал – за этого самого, какой стрелял-то. Я ему: ты, мол, из ихних, что ли? А он меня при всем при народе…
Старика отпустили. Прокурор потер мягкие потные ручки, расстегнул нижнюю пуговицу на мундире и сказал тихонько полковнику:
– Гм. Тимоша этот… Как вы думаете?
За окном торговались, кричали, скрипели. Полковник не выдержал:
– Иван Арефьич, да закройте окно! Голова трещит. Что за манера – базар перед самым кабинетом!
Иван Арефьич на цыпочках закрыл окно и позвал:
– Следующий.
Томно, жеманясь, рассказывал казначейский зять. Прокурор спросил:
– Так, значит, он вернулся в трактир, а потом опять выбежал? Ага. Ну а платок? Вы о платке, кажется, что-то упоминали. Он за платком вернулся?
Казначейский зять вспомнил исплеванный красный Тимошкин платок, кисло поморщился и сказал, гнусавя, с досадой:
– Какой платок? Я никакого платка не помню.
Как-то неприлично даже было и вспоминать-то ему об этом платке.
Барыба привычным нюхом шел за вопросами прокурора. И когда дошло до платка, он уверенно сказал:
– Нет, платка никакого не было. Сказал просто: дело наверху есть.
Когда отпустили Барыбу, прокурор хлебнул холодного чаю и сказал полковнику:
– Прикажете написать постановление о задержании этого самого Тимоши? По-моему, все эти показания… Я знаю, вы иногда чересчур осторожны, но тут…
У полковника в кишках схватывало, подкатывалось, и он думал: «Черт знает! Эта исправничиха, толстая дура, что за провинциальная манера делать все жирным…»
– Так я говорю, полковник…
– Ах, отстаньте, ради Бога! Пишите, что вам угодно. У меня ужасно болит живот.
22. Шесть четвертных
Как забрали Тимошу, никто даже и не удивился.
– Давно туда и глядел.
– Язык-то распускать он мастер был. Непочетник! О боге-то все равно вон как об лавочнике Аверьяне разговаривал.
– И всюду, куда не следует, носом совался, обо всех судил. Скажи, пожалуйста, какая нашлась Маремьяна-старица – обо всех печалится.
А Моргунов сказал:
– Такие головы у нас недолго держатся. Вот мы с Барыбой поживем.
Похлопал Барыбу по спине и поглядел на него иконописными своими глазищами, не то презрительно, не то ласково: поди-ка у него разбери – притворник он.
Вечером в тот же день Семена Семеныча к себе пригласил исправник Иван Арефьич – на чашку чаю. И умолял Христом-богом:
– Наставьте вы этого своего… как его там… на путь истинный. Ну да, Барыбу-то этого. Чтобы поопределенней как-нибудь на суде показал. Я ведь знаю, он у вас специалист, ну чего там, чего там, люди свои. Ей-богу, они мне всю шею отвертели, губернские эти, разделаться бы с ними – да и с колокольни долой. А уж этот полковник с своими привередами: то ему не так, это не эдак…
Поторговались, сошлись на шести четвертных.
– Ну, чего там мало – не мало. И этому… как его… местишко какое-нибудь можно, Барыбе этому устроить. Чего ж еще лучше? Ну, писарем там, урядником…
А на другой день, за кроньерговским пивом, Моргунов подходами всякими подходил к Барыбе, улещал его. Барыба все мялся.
– Да мы с ним вроде приятели были, чудно очень как-то, неловко.
– Эх, милый, нам ли с тобой стесняться да думать над чем-нибудь? С головою ведь увязнем, сгинем. Как это в сказке какой-то: оглянуться – помереть со страху. Так уж лучше без оглядки. Да оно ведь до суда-то еще и далеко. Коли оскомина будет – отказаться успеешь.
«А и правда, черт с ним, все равно, чахотка там эта… А тут бы местишко еще если заполучить… Что же, весь век, что ли, с хлеба на квас?» И вслух Барыба сказал:
– Разве что для вас только, Семен Семеныч. Кабы не вы – ни за что.
– Кабы не я… Да я, голубь, знаю, что без меня такого бы сокровища из тебя не вышло. Ни то бы, ни се. А теперь…
Он помолчал, потом вдруг нагнулся к Барыбину уху и шепотом:
– А тебе черти не снятся? А я каждую ночь во сне вижу, каждую ночь – понимаешь?
23. Мураш надоедный
Согласился, и к исправнику ходил, и исправник кучу целую денег дал и наобещал такого… Тут бы Барыбе и радоваться. А вот – нудило что-то, мешало. Какой-то вот комарик маленький, мураш, залез в нутро и елозит там, и елозит, и никак его не поймать, не раздавить.
Ложился спать Барыба и думал: «Завтра вечером. Значит, еще целый день до суда. Захочу вот, пойду и откажусь. Сам себе господин».
Спал и не спал. И все будто додумывал во сне недодуманную какую-то мысль: «Да и жизни-то всего в нем полвершка».
И опять снилось уездное, экзамены, поп, засовывающий бороду в рот.
«Опять провалюсь, второй раз», – думал Барыба.
И додумывал: «А мозговатый он был, Тимоша, это уж правду сказать».
– Почему «был»? Как же «был»?
Совсем распялил в темноте свои глаза и не мог больше спать. Елозил мураш надоедный, томил.
– Почему «был»?
24. Прощайте
Поздно уж, о полдень, проснулся Барыба в стрелецкой своей комнатушке: все кругом было светлое, ясное, и таким простым все открылось, что нужно было на суде сделать. Будто ничего этого, что ночью томило, – ничего такого и не было.
Принесла Апрося самоварчик, ситный и стала у порога. Рукава засучены, левую ладонь – под локоть правой руки, а на правую руку немудрую свою голову положила. И слушать бы Анфима Егорыча, слушать, вот так стоять, ужасаясь, вздыхая жалобливо, покачивая головой сердобольно.
Кончил Барыба чай пить. Сюртук Анфиму Егорычу подала Апрося и сказала:
– Чтой-то весел ты нынче, Анфим Егорыч. Али деньги получать?
– Получать, – сказал Барыба.
На суде Тимоша – ничего, бодрился, вертел головкой, и шея у него была длинная, тоненькая, такая тоненькая – поглядеть страшно.
А чернявый мальчишечка совсем какой-то чудной был: осел весь, вроде как бы у него все кости стали вдруг мягкие, растаяли. Так и валился на сторону. Конвойный то и дело выправлял его и прислонял к стенке.
Барыба говорил уверенно и толково, но торопился: все же отсюда поскорее бы куда-нибудь уйти. Когда он кончил, прокурор спросил:
– Что же вы раньше-то молчали? Столько ценного материала.
Суд собрался уходить уж, как Тимоша вдруг и сказал:
– Да. Ну, так прощайте все!
Никто не ответил.
25. Утром в базарный день
Утром, в веселый базарный день, перед острогом, перед местами присутственными – визг поросят, пыль, солнце; запах от возов с яблоками и лошадей; спутанный, облепленный базарным гамом колокольный звон – где-то идет крестный ход, просят дождя.
Исправник Иван Арефьич, в позеленелом мундире, с пушкой-папиросой, довольный, вышел на крыльцо и сказал, строго глядя в толпу:
– Преступники понесли законное наказание. Предупреждаю вас…
В толпе, тихой, вдруг зашуршало, закачалось: как в лесу налетел ветер.
Кто-то скинул шапку и перекрестился. А в задних рядах, подальше от исправника, голос сказал:
– Висельники, дьяволы!
– Ты это про кого, про кого это, а?
Иван Арефьич круто повернулся и ушел. И сразу перед крылечком – как проснулись. Загамели все сразу, поднимались руки, всякому хотелось, чтобы его-то и услышали. Отмахивал саженки рыжий мещанин.
– Врут, не повесили, – убежденно говорил он. – Немысленное дело: как это можно живого повесить? Да нешто он дастся, живой-то? Руками-зубами будет… А чтоб живой дал себе на шею вздеть – да нешто это мысленное дело?
– То-то вот и оно, образование-то, книги-то, – говорил старик из торговцев. – Тимошка-то не в меру умен был, бога забыл, вот оно…
Рыжий мещанин злобно поглядел на старика сверху и увидел, что из ушей у него растут волосы, длинные и седые.
– Молчал бы, сам в гроб глядишь, – сказал рыжий. – Гляди, из ушей уж волосы выросли.
Старик повернулся сердито и, вылезая из толпы, бормотал:
– Развелись всякие… Кончилось в посаде старинное житье, взбаламутили, да.
26. Ясные пуговицы
Белый, ни разу не стиранный еще китель, серебряные солнышки пуговиц, золотые жгуты на плечах.
«Мать пресвятая! Неужели это правда! Балкашинский двор и все такое, а вот теперь иду я, Барыба, в погонах?»
Пощупал: тут, есть. Ну, стало быть, правда.
От нотариуса, из подъезда с вывеской, вышел с сумкой почтальон Чернобыльников. Остановился, приглядываясь. Отдал честь, балуясь:
– Господину уряднику.
А Барыба захолонул от гордости. Небрежно подбросил к козырьку руку.
– Давно произвели?
– Да вот дня три. Китель только нынче кончили. Хлопот теперь – форму шить.
– Ва-ажно! Начальство, стало быть? Ну, честь имею.
Распростились. Барыба шел дальше: надо сегодня явиться к исправнику. Шел и сиял, сытый собою, майским солнцем, погонами. И улыбался четырехугольной улыбкой.
У острога Барыба остановился, спросил у будочника:
– Иван Арефьич у себя?
– Никак нет, уехали на убийство.
И будочник, от которого когда-то прятался воровавший по базарам Барыба, – будочник вежливо козырнул.
Барыба даже и рад был, что исправник уехал на убийство: походить бы еще по солнцу в новом кителе, и чтобы все козыряли. «Эх, хорошо жить на свете! И дурак же – чуть-чуть было не отказался». Сжимались железные челюсти, – разгрызть бы теперь какие-нибудь самые крепкие камушки, как, бывало, в уездном.
– Эге-э! Вот что! Вот когда к отцу-то пойти. Дурак старый – прогнал, а пусть-ка теперь поглядит.
Мимо чуриловского трактира, мимо пустых ярмарочных ларьков, по тротуару из прогнивших досок, а потом и совсем без тротуара, переулочком – по травке.
У обитой оборванной клеенкой двери – эх, старая знакомая! – остановился на минуточку. Почти что любил отца. Э, да что там, весь посад бы сейчас расцеловал: как же не расцеловать, когда в первый раз надет китель с погонами, с ясными пуговицами.
Постучал Барыба. Вышел отец. У-у, брат, постарел-то как! Седая щетина на щеках, спустил очки на нос, долго глядел. Узнал не узнал, кто его знает – молчит.
– Чего надо? – буркнул.
Ишь, сердитый какой. Ну, не узнал, ясно дело.
– Ну, не узнаешь, старик? А прогнал-то меня, помнишь? Однако теперь вот – видишь. Три дня, как произвели.
Старик высморкался, вытер пальцы об фартук и спокойно сказал:
– Слышал об тебе, слышал, как же. Добрые люди говорят.
Опять посмотрел поверх очков спокойно:
– И про Евсея, про монаха. И про портного тоже.
Запрыгала вдруг седая щетина на подбородке:
– И про портного, как же, как же.
И вдруг весь затрясся старик и завизжал, забрызгал слюной:
– Во-он из мово дому, вон, негодяй! Я т-тебе сказал, чтоб ты не смел к порогу моему подступать. Пошел во-он, вон!
Очумелый, вытаращил глаза Барыба и стоял долго, никак не мог понять. Когда прожевал, молча повернулся и пошел назад.
Мутнело уже на улице. Сумрачный ветерок потягивал из окна.
В чуриловском трактире за столиком, расставив ноги, руки в карманах, сидел Барыба, здорово уже нагрузившись. Бормотал под нос:
– Ну и наплевать. Из-з ума выжил. Нап-плевать…
Но уже осело что-то на дне, замутило что-то. Не было веселого майского дня.
В уголку против Барыбы примостились у столика трое краснорядских приказчиков: один, пригнувшись, рассказывал что-то, двое слушали. И вдруг все трое грахнули, залились. Должно быть, что-нибудь уж очень чудное.
– А-а, так? А-а, ты так? Так я им, й-я им п-покажу всем, – бормотал Барыба под нос.
Глаза у него заплыли, щерился злой четырехугольный рот, напряглись жевательные железные желвачки.
Приказчики опять весело грахнули.
Барыба вынул вдруг руку из кармана и постучал ножом по тарелке – пьяными, спотыкающимися ударами.
Подскочил половой, Митька – скугаревая башка, нагнулся, ухмыляясь одной щекой, обращенной к приказчикам, и выражая почтенье другой щекой – господину уряднику. Приказчики вытянули носы и слушали.
– Пс-слушай. С-скажи им, что й-я им не п-пзволяю смеяться. Й-я им… У нас теперь смеяться с-трого не д-дозволяется… Нет, пс-стой, я сам!
Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался к приказчикам. Будто и не человек шел, а старая воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба.



