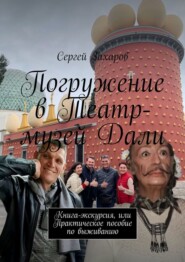скачать книгу бесплатно
По словам самой Сесиль, они с Нуш прекрасно ладили, хотя мать ей новая избранница Поля заменить так и не смогла. Да это и невозможно в принципе, ведь мать, по словам той же Сесиль, бывает только одна. Кстати, именно в этот период отношения между Сесиль и Пикассо были отмечены особой теплотой – даже в отпуска они выбирались одной компанией.
В 1938-ом, в возрасте 20 лет, Сесиль вышла замуж в первый раз – за поэта Люка Декана, брак с которым не продлился долго. В 1946-ом она снова сочеталась узами брака: на этот раз с художником Жераром Вуллени, а после бывала замужем еще дважды.
В 1948-м умерла Нуш, вторая супруга Элюара, что стало для него тяжелейшим ударом – и Сесиль, беременная в то время дочерью Клер, постоянно была в то время рядом с отцом.
Поль Элюар, успевший еще раз жениться на Доминик Лемор, умер четырьмя годами позже, а вот Гала – мать, которой у Сесиль никогда не было – пережила первого мужа на целых 30 лет и умерла 10 июня 1982-го, в возрасте 88 лет.
Со смертью Гала, похороненной в своем замке в Пуболь, связан и еще один печальный для Сесиль эпизод. Как мы уже сказали, никаких отношений с дочерью Гала не поддерживала, и о том, что мать ее находится при смерти, Сесиль узнала из газет.
Бросив все, она помчалась в возлюбленный и воспетый Дали Порт-Льигат, на самый что ни на есть средиземноморский край света, однако увидеть мать ей так и не довелось. Дверь открыла прислуга, заявившая, что Гала не желает видеться с дочерью.
Исходило ли это указание в тот момент от самой Гала, которая в последние недели находилась в практически бессознательном состоянии, либо таковы были инструкции, полученные служанкой загодя – неизвестно, но Сесиль, готовая простить свою сбежавшую однажды и навсегда мать, простить и примириться с ней, оказалась лишена даже этой возможности.
Кроме того, Гала ни словом, ни полсловом не упомянула Сесиль в своем завещании. Через два дня после смерти была обнародована последняя воля умершей, согласно которой знаменитая коллекция Гала переходила супругу, Сальвадору Дали, а после его смерти – театру-музею Дали в Фигерасе.
От себя отмечу, что коллекция эта, которую Гала собирала на протяжении всей жизни и которая на момент смерти владелицы хранилась в Женеве, вовсе не пустячок: она включала в себя 75 замечательных работ Сальвадора Дали, среди которых стоит упомянуть такие известные вещи, как «Великий мастурбатор» и «Загадка Гитлера»!
Возмущенная до глубины души этим финальным проявлением материнского равнодушия, Сесиль, по совету своего адвоката, заявила свои права на часть наследства матери – что на наш взгляд, более, чем справедливо.
Однако спор между Сесиль и Испанским правительством, представлявшим интересы Сальвадора Дали, удалось, в конце концов, удалось уладить без судебных тяжб.
Между сторонами было достигнуто мировое соглашение, в соответствии с которым Сесиль получила две работы Де Кирико, одну гуашь Пабло Пикассо, и две картины Сальвадора Дали, одна из которых – знаменитый «Портрет Поля Элюара» (впоследствии Сесиль продала его за 22 с половиной миллиона долларов), над которым Дали работал как-раз в то для кого-то роковое, а для кого-то счастливое лето 1929-го, в Кадакесе, одновременно воруя у Элюара жену, а у Сесиль – мать. Кроме того, ей достались 2,3 миллиона долларов и 50 миллионов песет.
Но снова, заметьте, снова мы говорим о чем угодно, но только не о самой Сесиль! Вот он, парадокс «дочери сюрреализма», возраставшей в окружении звезд необычайно ярких – но прожившей жизнь самую тихую и незаметную.
Жизнь, по своему определению сторонящуюся всякого шума, вспышек софитов и суеты. Почему? Да потому что главной страстью Сесиль были книги. Увлечение старинными и редкими книгами в конце концов переросло в профессиональную деятельность, которой, вплоть до самого удаления от дел, она занималась в Канне.
Что оставила после себя эта женщина, всю жизнь ощущавшая на себе холодный и подавляющий свет ее великой и недоступной матери? Троих детей, семерых внуков, трех правнуков…
Как сказано на официальной странице «Ассоциации друзей Поля Элюара», почетным президентом которого являлась Сесиль, «всю жизнь она честно и преданно служила своему любимому делу; любовь и щедрость были ее главными качествами, и свою страсть к искуcству и литературе она передала своим детям…»
Сесиль умерла 10 августа 2016-го г., а тремя днями позже была похоронена на кладбище Пер-Лашез, рядом с отцом и его второй женой, Нуш.
Дали – художник трамонтаны
Дали – художник трамонтаны
Машина, между тем, мчит дальше. Когда на зеленом дорожном знаке появляется слово «Emporda», я незменно сообщаю туристам:
– Вот, теперь мы в мире Дали. Надеюсь, сегодня нет трамонтаны. Хотя, исходя из темы экскурсии – лучше бы была. Ведь Дали называл себя художником трамонтаны!
– А что такое трамонтана? – обязательно спросит кто-то из туристов. Потому что словечко яркое, само по себе напоминающее бесконечный звон колокольчиков на сильном ветру, и, вроде бы, все его где-то уже слышали, вот только где и когда – вспомнить не могут.
Конечно же, я рассказываю. Об этом нельзя не знать – если хочешь понять, что же это такое – Сальвадор Дали.
Трамонтана – холодный и сухой северный ветер, зарождающийся на вершинах Пиренейскийх гор. Теплые воздушные массы с равнин поднимаются к заснеженным пикам Пиренеев, охлаждаются там и, используя спускающиеся к морю горные склоны в качестве идеальной площадки для разгона, устремляются вниз, к водам Средиземного моря, набирая пугающую скорость и мощь.
Ветер этот всегда дует с гор в направлении моря: собственно, и название его происходит от латинского «transmontanus» – «идущий сквозь горы».
Особенно злобная трамонтана задувает поздней осенью и зимой на севере Каталонии, в долине Ампурдан, из-за чего, по меткому определению каталонского поэта Жоана Марагаля, эта местность носит прозвище «Дворец Ветра».
Порывы трамонтаны достигают скорости 230 км в час, а то и более – известны случаи, когда по причине трамонтаны железнодорожные составы сходили в путей, а машины, словно игрушечные автомобильчики, сбрасывало с трасс. Но это, пожалуй, экстрим, который ни в коей мере не определяет истинной сути трамонтаны.
А суть эта в том, что, начавшись, трамонтана может дуть со средней скоростью в 90—130 км в час по 8—10 дней кряду, не стихая ни на минуту. Представьте, что ваш город поместили в аэродинамическую трубу, установили там попрочнее – и забыли на десяток дней. То, что в течение пяти минут может казаться необычным развлечением, быстро превращается в выматывающую, лишающую сил и рассудка пытку.
Трамонтана сводит с ума. Неспроста в долине Ампурдан на преступления, совершенные на почве страсти, вплоть до самых серьезных, до конца 19-го века закон смотрел сквозь пальцы – если только преступление было совершено в период, когда дула трамонтана.
Крайне разрушительное воздействие трамонтаны на психику отмечают и современные ученые. Возможно, дело в порождаемых трамонтаной звуковых волнах определенной частоты, не слышных человеческому уху, но серьезнейшим образом нарушающих психический баланс человека.
Для людей, склонных к депрессиям, этот ветер – настоящее бедствие, которое далеко не всегда удается пережить: не случайно наиболее высокий процент самоубийств в этой местности отмечается именно в периоды трамонтаны.
Впрочем, и самые психологические устойчивые жители региона страдают от трамонтаны. Помню, в беседе с нами один знакомый немец из Эмпуриа Брава – огромный, мощный седой старик, приехавший когда-то в Каталонию заниматься ресторанным делом, проживший здесь более полувека – на вопрос: «нравится ли ему здесь жить» немного подумал и ответил так: «Да, пожалуй, очень нравится. Я прожил здесь большую часть жизни. Моему сыну уже за 50. Я каждый день работал. Пять раз, правда выезжал погулять в Барселону. Все хорошо. Все замечательно. Я кое-чего добился. У меня был один ресторан – теперь два. Я всем доволен. Но эта трамонтана… К ней я привыкнуть я так и не смог.»
Можете себе представить: если даже люди-роботы – немцы боятся этого ветра, то что уж говорить о гораздо более импульсивных каталонцах…
Можете себе представить: если даже люди-роботы – немцы боятся этого ветра, то что уж говорить о гораздо более импульсивных каталонцах… Мы и сами знакомы с трамонтаной далеко не понаслышке. Ощущения, доложу я вам – непередаваемые!
Ты выезжаешь из солнечной и спокойной Барселоны, мчишься в сторону Франции, добираешься до долины Ампурдан – и начинается!
Машина в две с лишним тонны вдруг резко теряет в весе и принимается рыскать по трассе, словно слепой щенок. Добро пожаловать в трамонтану!
Меняется пейзаж, и ты замечаешь вдруг, что деревья здесь растут под углом в сорок пять градусов, в вечном поклоне по направлению к морю.
Облака сплющиваются, делаются продолговатыми и плоскими, как гигантские блюдца, а потом и вовсе исчезают.
Воздух делается чист, прозрачен и звонок – кажется, тронь его пальцем, и он запоет, как горный хрусталь. Однако не стоит и пытаться опустить в машине стекло – сразу же целая стая демонов, завывая на разные голоса, ворвется внутрь: добро пожаловать в трамонтану!
Открыть на стоянке дверь с водительской стороны зачастую просто невозможно – такова сила ветра. Но если все-таки вам удалось это сделать, будьте осторожны: устоять в трамонтану на ногах – занятие не из простых.
Сразу вспоминается комендант порта в городишке Порт-Бой на французской границе, который в дни трамонтаны выдавал местным жителям разрешение возращаться домой на четвереньках – в позе, в обычных условиях считавшейся непотребной и даже каравшейся штрафами.
Волосы, кажется, вот-вот с корнем вырвет из головы и унесет в безбрежные дали, а дышать в трамонтану тоже почти невозможно: пока вы открываете рот, чтобы набрать воздух в легкие, этот самый воздух с воем уносится прочь, и вы напоминаете беспомощную рыбу, выброшенную на песок, в чуждую ей стихию…
Но, повторюсь, хуже другое: трамонтана опустошает вас изнутри. С безжалостной и бесконечной силой она выдувает из вас все: память, разум, волю, эмоции и ощущения…
Остается пустота – всеобъемлющая и глобальная пустота и осознание полной бессмысленности бытия. Вы – перчатка, которую сняли с руки, скомкали и бросили в угол. Смятый кусок кожи, оболочка, лишенная содержимого… Чтобы вернуться в нормальное состояние, требуется немало времени.
И мы, признаемся вам честно, испытав разрушающее влияние этого ветра на себе, ни за что не хотели бы жить постоянно там, где дует трамонтана!
Кстати, Сальвадор Дали, родившийся именно во «Дворце Ветра», в долине Ампурдан, говаривал, что «огромное количество сумасшедших и гениев, которое рождает наша земля, связано прежде всего с трамонтаной».
Понятно, что себя художник причислял к гениям, причем, совершенно справедливо. Известно, что Дали обожал вести длительные беседы с местными рыбачками и рыбаками, отмечая при этом, что столь параноидального склада ума, как у местных рыбаков, не сыщешь больше ни у кого.
Да и сам Сальвадор Дали – истинный человек трамонтаны.
В краю трамонтаны он родился и рос, а дом свой выстроил в двух шагах от мыса Креус – крайней северо-восточной точки Испании, где трамонтана также бывает особенно сильной.
Скалы мыса Креус, низвергающиеся в воду, под воздействием трамонтаны принявшие самые фантастические очертания, Дали запечатлел в сотнях своих работ.
Как никто другой, Дали мог оценить удивительной прозрачности небо трамонтаны, придающее ландшафту необычайную четкость и ясность очертаний; и насыщенный, бездонно глубокиц цвет моря, которое только в трамонтану бывает таким; как никто другой, он мог до бесконечности множить самые странные образы и ассоциации, возникавшие в его сознании при созерцании космических пейзажей мыса Креус и перенесенные потом на полотна – неспроста эти места Дали называл самыми красивыми (и дикими) на всей Земле.
Для того, чтобы понять Дали, проникнуться настроением его творчества, вовсе не обязательно годами штудировать труды псхиоаналитиков, строя сомнительные, далекие от всякой реальности умозаключения – достаточно приехать в Кадакес, Порт-Льигат, на мыс Креус и побродить теми же тропками, что молодой Дали.
Мы и приезжаем, в том числе и с нашими туристами, и бродим – правда, в трамонтану людей на мыс Креус везти все-таки не рискуем: скалы там, обработанные ветром, остры, как пики, ходить там нужно с величайшей осторожностью, равновесие удержать очень сложно – особенно когда трамонтана – зверь свирепый и коварный – так и норовит свалить тебя с ног!
Друг Сальвадора Дали, каталонский поэт Карлос Фажес де Климент, написал о трамонтане следующие замечательные строки «Молитвы Христу трамонтаны»:
«Простерты руки на святом кресте.
О Господи!
Спаси наш скот и поле
И соком наши тыквы напои.
Отмерив точно силу трамонтаны,
Дай высушить ей наши травы,
Но не давай ей погубить пшеницу…»
Когда в 1968-м Карлос, бывший школьным товарищем и другом Дали, сотрудничавший совместно с Сальвадором над рядом проектов, умер, Дали посвятил ему одну из своех работ, которая так и называется: «Христос трамонтаны».
Всё так. Кагда трамонтана разгулялась, остается только молиться – так поступали здесь люди с незапамятных времен. С этим ветром люди из Верхнего Ампурдана рождаются, живут и умирают; трамонтана становится такой же неотъемлимой частью человеческого бытия, как воздух, свет, пища или вода.
Более того: от трамонтаны невозможно убежать. Люди из Ампурдана, которые давным давно перебрались жить в другие области Каталонии или Испании, а может быть, поменяли даже континент, увозят трамонтану с собой.
И каждый раз, когда здесь, в долине Ампурдана, трамонтана начинает свой сумасшедший бал, они тут ощущают ее присутствие, сколь бы далеко от Каталонии в тот момент не находились.
Не избежал страшного воздействия трамонтаны и дед Сальвадора Дали, по имени Галь, родившийся в Кадакесе и, как сам он говорил, неимоверно страдавший от этого ветра. Пытаясь укрыться от трамонтаны, Галь Дали перебрался с семьей в Барселону, однако это не помогло.
В Ампурдане в очередной раз задула трамонтана, а в Барселоне Галь Дали впал в тяжелейшее психическое расстройство со стопроцентными признаками паранойи, закончившееся самоубийством. От трамонтаны невозможно убежать.
Историю эту от Сальвадора Дали долго скрывали, но, в конце-концов узнав о ней, художник, похоже, вовсе не был удивлен. Ведь и свой собственный творческий метод Дали называл именно «параноико-критическим», а о его высказываниях относительно параноидального мышления, свойственного всем местным жителям, мы уже упоминали.
Опять же, когда говорят о Сальвадоре Дали, чаще всего звучит эпитет «сумасшедший» – но это уже от незнания, или благодаря той великолепной актерской игре, которую абсолютно нормальный Дали искусно вел на протяжении своей жизни.
Уместно вспомнить здесь и рассказ «Трамонтана» великого Габриэля Гарсиа Маркеса, который живал в наших местах и тоже на себе лично не раз испытывал разрушительное действие этого ветра.
Герой рассказа, которого в Кадакесе «сразила трамонтана» тоже сводит счеты с жизнью, не вынеся ужасающей пустоты, которую порождает в человеке этот ветер-убийца…
Впрочем, не все так мрачно в этих удивительно красивых местах.
Мне кажется, я разгадал загадку трамонтаны. Слабых она убивает, а сильных – делает сильнее. Ведь жители Ампурдана, впитывающие этот ветер с молоком матери, не исчезли за столетия с лица Земли – напротив, их сделалось даже больше, чем, скажем, в 16-м веке. А всё потому, что они – сильные люди, и во многом – благодаря трамонтане.
Ветер, безумие которого волей-неволей им приходится переживать регулярно, сделал их упрямыми, терпеливыми и стойкими.
Здесь умеют, в случае необходимости, стиснуть покрепче зубы – и делать свое дело несмотря ни на что.
Именно своей непреклонностью и упорством ампурданцы славятся далеко за пределами своих мест. Согласитесь – не самые худшие человеческие качества.
И кто знает: может, прав был Сальвадор Дали, и в свирепом вое трамонтаны, если прислушаться к нему, как следует, можно различить слабый писк рожденного только что нового гения?
Театр-музей – «Ты помнишь, как все начиналось…»
Коррида в честь Сальвадора Дали (1961)
Сегодня Театр-музей Сальвадора Дали является одним из самых посещаемых не только в Королевстве Испания, но и в целом мире.
Для справки: в 2018 году Театр-Музей Сальвадора Дали в Фигерасе, созданный каталонским Маэстро в родном городе самолично и обладающий самой полной в мире коллекцией работ художника, посетили 1 105 169 человек. И это, отметим, в далеко не самый удачный для индустрии туризма год! Согласитесь – более чем впечатляющая цифра! В 2019-ом статистика была еще более радужной – но это в наши дни. А как все начиналось?
Задумка создать Театр-музей имени себя в Фигерасе впервые пришла в голову, как ни странно, не самому Сальвадору Дали. Разумеется, будь художник жив и услышь он такое, возмущению не было бы предела: «Как это не мне самому»!? Разве могла столь блестящая идея придти в голову кому-то ещё, а не божественному Дали!?»
Тем не менее, это чистая правда – идея пришла в голову «кому-то ещё». Хозяином этой головы и, следоватлеьно, автором идеи музея стал Рамон Гвардиола, быший учитель истории из Жироны, в 1960-ом году занявший пост Мэра Фигераса.
Гвардиола хорошо одевался, носил интеллигентные очки в тонкой золотой оправе, и вообще – был во всех отношениях образованным и даже начитанным человеком. Кроме того, он живо интересовался искусством, проявляя в этом вопросе похвальную широту взглядов.
Исходя из вышеперечисленных достоинств, вышеперечисленных Гвардиола по определению не мог не являться поклонником своего знаменитого земляка – Сальвадора Дали. Заступив на пост Мэра, он, к великому удивлению и даже стыду за своих предшественников, обнаружил, что в Краеведческом музее Фигераса нет ни одного экспоната, имеющего отношение к Сальвадору Дали – и это при том, что художник давно уже был звездой мирового масштаба и жил совсем рядом, в 40 км от Фигеерасе – в своем возлюбленном Порт-Льигате.
Эту недопустимую ситуацию, по мнению Гвардиолы, нужно было исправлять – причем, немедленно. В мае 1960-го, когда Дали и Гала вернулись из США в Порт-Льигат, Гвардиола встретился с художником и рассказал ему о своем намерении устроить в Краеведческом музее отдельный зал, посвященный «великому Сальвадору Дали». Для экспозиции Гвардиола смиренно просил художника передать музею в дар пару-тройку своих работ – пусть хотя бы самых второстепеннных.
Дали обещал подумать и уже через несколько дней передал Гвардиоле ответ: он согласен, однако с «маленьким, но существенным уточнением»: он, божественный Дали, желает не зал в Краеведческом музее Фигераса – а свой собственный отдельный музей. Как видится мне, в этой стремительной эволюции мысли Сальвадора далеко не последюю роль сыграл тот факт, что в Барселоне в то время как раз стартовали работы по созданию персонального музея Пикассо – и Дали об этом наверняка было изветно.
Напомним: заматерев и сделавшись звездой, Дали всегда видел в Пикассо соперника. Те времена, когда начинающий и никому не известный художник Сальвадор Дали с восторгом смотрел Пикассо в рот и считал его богом, давно прошли. Теперь «богом» стал сам Дали – а двум богам в монотеистическом мире художника места не было.
Амбициозный сверх всякой меры, Дали ни в чем не хотел уступать старшему товарищу, и, думается, именно благодаря Гвардиоле впервые тогда осознал: совсем скоро у Пикассо будет свой собственный музей, а у меня, Дали, который выше этого самого Пикассо по всем параметрам – нет? У него – да, а у меня – нет!? Постойте-постойте, это никуда не годится! Ситуацию нужно срочно исправлять!
Таким образом, предложение Гвардиолы упало на самую благодатную почву. На следующей встрече с Мэром Фигераса Дали объявил, что даже присмотрел место для музея – городской театр «Принсипаль», случайно сожженный содатами из Марокканского корпуса Франко в 1939-ом, когда город был оставлен Республикой.
Здание театра было построено в 1850-ом и до Гражданской войны являлось не только самым престижным, но и единственным такого рода заведением в Фигерасе. Когда-то малютка Дали дважды выставлял здесь свои юношеские работы – в 1918-ом совместно с двумя другими художниками и в 1919-ом, уже индивидуально.
Пожар, устроенный «марокканцами» Франко в 39-ом, поставил на здании, а заодно и на культурной жизни Фигераса черный обугленный крест. Денег на реставрацию не имелось – Фигерас, увы, был самой провинциальной дырой где-то у французской границы. Часть здания бывшего театра слегка, правда, подремонтировали и устроили там рыбный рынок – сегодня на его месте располагается зал Театра-Музея под совсем не случайным названием «Рыбные лавки».
Тем не менее, основная часть здания являла собой обгорелую руину, которую гораздо дешевле было снести, чем пытаться восстановить. Именно о сносе городские власти и подумывали- но тут подоспел Дали со своим экстравагантным намерением разместить музей имени себя в этих развалинах, и планы пришлось изменить.
Позже Дали заявлял, что ему всегда нравились развалины, и впервые идея устроить свой будущий музей именно в руинах посетила его еще в 1954-ом году, когда в Королевском дворце в Милане, также пострадавшем от бомбардировок, проходила выставка его работ. Скорее всего, Дали врал, или, скажем так, намеренно искажал истину – но какое это имеет значение?
Впервые о создании музея было объявлено 12 августа 1961
12 августа 1961 в Фигерасе была устроена пышная фиеста, сценарий которой Дали продумал до мелочей самолично. Кульминационным моментом небывалого в истории города праздненства стала коррида, устроенная в честь «выдающегося художника из Фигераса Сальвадора Дали».
Это, прошу отметить, совершенно особая честь в те времена, когда коррида в Испании была на пике популярности, и имена известных тореадоров произносились с тем же придыханием, с каким в Советском Союзе называлось имя Юрия Алексеевича Гагарина. В сответствии со сценарием, Сальвадор Дали в начале акта тавромахии сделал почетный круг по арене на одном из своих кадиллаков с откидным верхом.
По бокам от автомобиля семенили специально нанятые статисты-рабы в маскарадных костюмах от Кристиана Диора – Дали всегда любил королевский размах!
В корриде в честь «выдающегося» Дали принимал участие сам Пако Камино – звезда из звезд тех времен. Работал он, как всегда, блестяще, и Гала, наблюдавшая с бесстрастным лицом за ритуальным «быкоубийством», пришла в неожиданное возбуждение – настолько, что после того, как Камино убил своего быка, сдернула с руки дутый золотой браслет и швырнула на арену, явно положив глаз на бесстрашного тореадора.
Одного из быков, убитых во время корриды, по первоначальному замыслу Дали планировалось поднять в небо на вертолете и после транспортировки захоронить на священной горе Монсеррат – однако довольно злая трамонтана сделала осуществление этой идеи невозможным. Дали, тем не менее, предвител такую вероятность и подстраховался заранее: двумя местными художниками была загодя изготовлена гипсовая фигура быка, которорую торжественно взорвали на арене по окончании корриды.