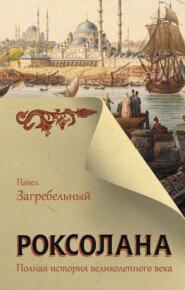
Полная версия:
Роксолана. Полная история Великолепного века
Они уже были около светильников, но не видели ничего.
– Где же твой цветок? – сгорал от нетерпения Грити.
– Он перед тобой, о достойный.
Ибрагим, у которого глаза были зорче, уже увидел девушку. Она сидела по ту сторону двух светильников, кажется, под нею тоже был коврик, а может, толстая циновка; вся закутана в черное, с черным покрывалом на голове и с непрозрачным чарчафом[18] на лице, девушка воспринималась как часть этого темного, затхлого пространства, точно какая-то странная окаменелость, призрачный темный предмет без тепла, без движения, без малейшего признака жизни.
Синам-ага шагнул к темной фигуре и сорвал покрывало. Буйно потекло из-под черного шелка слепящее золото, ударило таким неистовым сиянием, что даже опытный Луиджи, которого трудно было чем-либо удивить, охнул и отступил от девушки, зато Ибрагима непостижимая сила как бы кинула к тем дивным волосам, он даже нагнулся над девушкой, уловил тонкий аромат, струившийся от нее (заботы опытного Синам-аги), ему передалась тревога чужестранки, ее подавленность и – странно, но это действительно так – ее ненависть и к нему, и к Грити, и к Синам-аге, и ко всему вокруг здесь, в затхлом мраке Бедестана и за его стенами, во всем Стамбуле.
– Как тебя зовут? – спросил он по-гречески, забыв, что девушка не может знать его язык.
– У нее греческое имя, эфенди, – мигом кинулся к нему Синам-ага. Анастасия.
– Но ведь в ней нет ничего, что привлекало бы взгляды, разочарованно произнес Грити, уняв свое первое волнение. – Ты, старый обманщик, даже ступая одной ногой в ад, не откажешься от гнусной привычки околпачивать своих заказчиков.
– О достойный, – снова заскулил Синам-ага, – не надо смотреть на лицо этой гяурки, ибо что в том лице? Когда она разденется, то покажется тебе, что совсем не имеет лица из-за красоты того, что скрыто одеждой.
– Так показывай то, что скрыто у этой дочери диких роксоланов! Ты ведь роксолана? – обратился он уже к девушке и протянул руку, чтобы взять ее за подбородок.
Девушка вскочила на ноги, отшатнулась от Грити, но не испугалась его, не вскрикнула от неожиданности, а засмеялась. Может, смешон был ей этот глазастый турок с толстыми усами и пустой бородой?
– Не надо ее раздевать, – неожиданно сказал Ибрагим.
– Но ведь мы должны посмотреть на эту роксоланку, чтобы знать ее истинную цену! – пробормотал Луиджи. Он схватил один из светильников и поднес его к лицу пленницы.
– Не надо. Я куплю ее и так. Я хочу ее купить. Сколько за нее?
Незаметно для себя он заговорил по-итальянски, и то ли эта странная девчушка поняла, о чем речь, то ли хотела выказать свое возмущение нахальным присвечиванием, к которому прибегнул Грити, она громко, с вызовом засмеялась прямо в лицо Луиджи и звонким, глубоким голосом бросила ему фразу на языке, показавшемся Ибрагиму знакомым, но непонятным.
– Что она говорит? – спросил он у Грити.
– Квод тиби, мулиер? – не отвечая обратился Луиджи к девчушке на том же языке, отводя руку со светильником и приглядываясь к ней теперь не только с любопытством, но и с удивлением.
Но девчушка, выпалив свою странную фразу, снова засмеялась и уже не говорила ничего больше, с некоторым даже пренебрежением сморщила свой хорошенький носик и заслонилась белой рукой от светильника, который Грити вновь приблизил на расстояние слишком неприятное.
– Вообразите себе, она говорит по-латыни! – воскликнул Грити, обращаясь у Ибрагиму.
– Что же тут странного? Она, наверное, училась у себя дома. Мы ничего не знаем о ней. Может, она из богатой семьи.
– Вы не знаете, что именно она сказала!
– Что же именно?
– Это один из канонических вопросов католических священников, исповедующих женщин. Довольно грубый и непристойный для столь нежных уст.
– А в устах ваших священников он не кажется вам слишком непристойным?
– Они исполняют свой долг. И они грубые мужчины. А это нежное создание. Ты, вонючий барышник, – крикнул он Синам-аге, – что за товар нам подсовываешь? Где купил эту беспутницу? Из-под какого просмердевшего развратника ее вытащил?
– Валлахи! – приложил руку к груди Синам-ага. – Эта девушка чиста, как утренний цветок, искупанный в росе. Она так же нетронута, как…
– Я покупаю ее, – прервал его разглагольствования Ибрагим.
– Бей эфенди верит старому Синам-аге?
– Я покупаю эту девушку, – повторил Ибрагим уже с нетерпением. Сколько за нее?
– Пятьсот дукатов, бей эфенди, – быстренько проговорил Синам-ага.
– Даю тысячу, – небрежно кинул Ибрагим.
– Бей эфенди хочет назвать двойную цену? Но это надлежит делать мне. Купец должен называть двойную цену, чтобы дойти до истинной не торопясь, поторговавшись всласть и вволю, иначе как можно сберечь себя для служения делу, на котором держится мир?
– В самом деле, – вмешался несколько удивленный таким ходом их приключения Грити, – она обошлась мне, как свидетельствует Синам-ага, всего лишь в пятьсот дукатов. Ясное дело, старый негодник обманывает нас, как он это всегда делает, – ведь за такие деньги можно купить трех черкешенок из княжеского рода, но пусть уж будет так.
– Я хочу, чтобы Синам-ага заработал, поэтому даю тысячу. – Ибрагим заслонил собой девушку от Грити и турка, шагнул к ней, она засмеялась ему еще более дерзко и с еще большим вызовом, чем перед тем Луиджи. Смеялась ему в лицо неудержимо, отчаянно, безнадежно, стряхивала на него волны своих буйных волос, полыхавших золотом неведомо и каким, райским или адским, не отступала, не боялась, выпрямилась, невысокая, стройная, откинула голову на длинной нежной шее, рассыпала меж холодных каменных стен Бедестана звонкое серебро прекрасного голоса: «Ха-ха-ха!»
Ибрагим вздрогнул от мрачного предчувствия, но поборол это движение души, заставил себя улыбнуться в ответ на смех загадочной чужестранки, которая не плакала, как все рабыни, не стонала, не ломала в отчаянье рук, а смеялась, точно издеваясь не только над ним, но и над всем этим жестоким миром, стремившимся покорить ее, сломать, уничтожить. Ибрагим заговорил с ней на ломаном языке – смеси из славянских слов, выученных от султана Сулеймана, хочет ли она к нему, именно к нему, а не к кому-либо другому. Девушка умолкла на мгновение. Словно бы даже посмотрела на Ибрагима пристальнее. Хотела ли бы? Еще может кто-то спрашивать в этой земле, хотела ли бы она? Ха-ха-ха!
Ибрагим сухо приказал Синам-аге привести рабыню к нему на Ат-Мейдан, повторил, что заплатит за нее тысячу дукатов, предупредил, чтобы сегодня же к вечеру она была в его доме и чтобы ей не было причинено ни малейшего вреда. Потом поблагодарил Грити.
– Я никогда не забуду этой вашей услуги.
– Могу только позавидовать вашему утонченному вкусу! – воскликнул венецианец. – Эта Роксолана, как я ее называю, пожалуй, действительно нечто такое… – он покрутил пальцами у себя перед глазами. – Как опытный купец, могу сказать вам, что товар приобретает ценность также от цены, какая за него уплачена.
Ибрагим молчал. Быстро выбирался из темного перехода. Чувствовал себя таким же опозоренным, как тогда, когда его, маленького мальчика, продавали на рабском торге в Измире. Правда, теперь покупал он, но разве не все равно? Есть рабы, которые покупают, и рабы, которых покупают. Но все равно рабы. И спасения нет никакого. Он пытался спастись нарядами, роскошью, которой окружал себя благодаря щедрости Сулеймана, считал, что этим облегчает себе жизнь, упорно уговаривал себя, что жизнь, в конце концов, и не может быть тяжелой, раз она называется жизнь. А зачем? Пусть тот старый мошенник Синам-ага обманывает людей, ибо таково его призвание на этой земле, пусть покупает и продает все на свете Луиджи Грити, поскольку он купец, но зачем же тогда убеждать себя в том, во что никогда не поверишь?
РОГАТИНДождем, как слезами, заливало весь видимый и невидимый мир, и душа ее вся плавала в слезах. Она шла, бездомная сирота, несчастная пленница, проданная и проклятая, под чужим небом, прочищенным ветрами, безжалостным и бледным, как холодные глаза стрелков-лучников. Здесь не было дождя, он лил, как слезы, в ее душе да еще там, куда не было возврата, в таком далеком, что сердце вырывалось от отчаянья из груди, недосягаемом, навеки утраченном Рогатине.
Что-то темное, большое и страшное – зверь поднебесный, призрак налетело на нее, надвинулось, и голос дождя звучал в ее сердце как невозместимая горькая утрата. Ничего и никогда в жизни не увидишь лучше и милее, не переживешь уже того, что пережила когда-то.
Призраки были здесь, а позади все только настоящее – лишь протяни руку, а тут обман, ненастоящесть падали под ноги, летали в воздухе, выступали из стен, толпились в просмердевших нечистотами улочках, сновали неслышно, как клубки шерсти, а то вдруг прорывались диким мяуканьем – то ли кошачьим, то ли дьявольским. Но дьяволами должны были быть люди, а мяукали кошки, тысячи кошек повсюду, кошек, кошечек, изнеженных и избалованных, безнаказанных и неприкосновенных, ибо кошка была любимым животным их пророка.
А может, это неизбежная кара за то, что осталось там, за морем, за степью, за реками и лесами? Может, и не за ее собственные грехи – она еще не успела их нажить, – а за грехи давно умерших, несчастных, проклятых, заблудших? Нелепость, нелепость! Неужели и теперь должна пугать сама себя, как делал это ее татусь в Рогатине? Батюшка Лисовский в пьяном бреду запугивал грехами и грозил карами всем без исключения, он цеплял грехи ко всему сущему, даже к деревьям и камням, не признавая их лишь за самим собой, ибо не мог отличать в своих поступках грешного от праведного, обреченный на постоянное опьянение если не от молитв в церкви Святого духа, то от пива и горилки рогатинских пивоваров Квасницы, Якубовича и Роздольского.
В ее крови были неистовость отца и легкий нрав матери. Гнездилось это у нее в душе в таком беспорядке, что даже строгий учитель Иероним Скарбский, к которому посылал ее Гаврило Лисовский в ожидании чудес от своей единственной дочери, не смог навести в той душе хоть какой-то порядок, а, наоборот, еще больше взбудоражил все то, что до времени было приглушено, жило только в зародыше, еще и не проклевываясь к жизни. Жертва темных сил, безвременная мученица (как будто для мук человеку непременно должно быть определено какое-то время!), лишенная свободы, которую если еще и сберегла, то разве что глубоко в сердце и в своей неукротимости. Щедро одаренная волей к жизни, она не имела теперь даже такой свободы, какой обладала всякая паршивая кошка на улицах Стамбула.
Пережила утрату матери, которую четыре года назад взяла в плен орда так же, как теперь ее самое, бесследно исчез несчастный отец в пылающем Рогатине, пережила собственную смерть или какое-то подобие смерти, чтобы теперь воскреснуть, как на старенькой иконе в отцовской церкви Святого духа, но не в таинственном сиянии святости, не для поклонений вопящей от восторга, одуревшей от чуда толпы, а для прозябания понурого, почти животного. Единственное, что она могла, – это возвращаться без конца памятью в родной Рогатин, к крутым тропкам со щекочущим спорышом по сторонам, к густому малиннику за раскидистой грушей, которая зимой грустно чернела среди снегов, а летом накрывала зеленым шатром чуть ли не всю усадьбу Лисовских. И дом свой видела с крутых улиц Стамбула так явственно, словно стояла перед ним, дом из толстых сосновых бревен, просторный, с окнами на высокий ольшаник, за которым внизу бежит Львовская дорога, упираясь возле вала под горой в Львовские ворота со старым перекидным мостом через ров, а во рву буйство лопухов, лягушки блаженствуют в вечных дождевых лужах, змей и ужей скапливается такое множество, что вот-вот поползут они на Рогатин. Отец Гаврило Лисовский, коему не раз приходилось ночевать во рву и которого змеи не трогали, словно считая своим, предрекал для Рогатина кару иную, столь же тяжелую, как для библейских Содома и Гоморры, потому что после этих двух третьим городом, который бог хотел убрать с лица земли, был именно Рогатин, спасенный случайно, но от кары не избавленный. Как ни пугал своих прихожан пьяненький попик, приношений и пожертвований на церковь было слишком мало, чтобы держаться батюшке Лисовскому среди первых граждан Рогатина, а потому на усадьбе вечно хрюкали огромные свиньи, хищные, как лесные вепри, прожорливые, чавкающие, визгливые. Мама Александра с утра до ночи пекла ячменные коржи, ломала их еще горячими, замешивала в деревянных бадьях пойло, носила, надрываясь, в свинарник тем ненасытным тварям, они мгновенно пожирали принесенное, грызли бадьи, прогрызали доски загородок, выставляли хищные рыла, высовывали длинные тонкие розовые языки, заходились в неистовом визге. Ада, которым отец пугал всех вокруг, Настася не боялась еще с тех пор, как только стала понимать слова взрослых людей – видела тот ад ежедневно, жила в нем вместе с несчастной своей матерью.
Свиней Лисовский продавал на знаменитой Рогатинской ярмарке, куда сгоняли тысячи голов скота, овец, свиней, коз, а покупать съезжался люд из Галича, Львова, Сандомира, из самой Литвы и чуть ли не из Киева. Батюшку Лисовского в шутку называл тот ярмарочный люд «отцом свинопаственным». Но разве мог он бояться каких-то там слов, если сам умел пугать людей словами торжественными, загадочными, темными! Задирал бородку, раздувал ноздри, грозился сухоньким пальчиком, похожим на кривую веточку: «Но своемненно паче же реши, не зная сущаго положеннаго разума». Мама Настаси не очень и тяготилась своим каторжным трудом. Тоненькая и маленькая, вытаскивала из печи черные казаны, месила колючие ячневики, обваривала по локти руки в кипятке, и все это со смехом, в непостижимой радости, с припевками то веселыми, то грустными, например: «Ой, кувала зозуленька, тепер не чувати: ой, де я ся не родила, мушу привикати…» А отец Лисовский все грозился неминуемостью кары для Рогатина и рогатинцев, хотя его маленькая Александра и не была местной, а родилась за Прутом, в селе Княж-Двор, где росли неведомые рогатинцам тысячелетние тисы, деревья вечные и оттого словно бы какие-то угрюмые и нечеловеческие в своей мощи и красоте. А все дети якобы рождались там от заезжих князей, которые, охотясь в окрестных пущах, влюблялись в княжедворских девчат и оставляли по себе сладкие воспоминания той кратковременной любви. Князей уже давно не было, а воспоминания оставались, и Александра, чтобы досадить своему безродному попику, называла себя княжной да еще дразнила его тем, что якобы и Настася не его дочь, поскольку за девять месяцев до ее рождения по зимней пороше наскочил на рогатинские леса с кавалькадой охотников сам король польский Зигмунт, и попалась тогда ему на глаза она, Александра княжедворская, и понравилась она королю, и… «Королевна! – радостно восклицал пан-отец Лисовский, прижимая к себе маленькую дочку. – Моя доченька – королевна, прошу я вас! Она колыхалась у меня в серебряной колыбельке, а ездить будет в серебряном возке!» Серебряная колыбелька, по которой выбиты цветы и травы, существовала лишь в пьяном воображении Гаврила Лисовского, старенькая же деревянная люлька, в которой когда-то перебирала ножками Настася, валялась среди хлама в темной кладовушке, но ведь намного веселее и легче жить с легендой, особенно в таком городе, как Рогатин, который и сам возник из легенды. Говаривали, якобы когда-то Галицкий князь Ярослав Осмомысл охотился тут в древних пущах с дружиной воинов своих и полюбовницей Насткой Чагровой, женщиной красивой и дико своенравной. Настка, погнавшись за каким-то зверем, заблудилась в лесу и, совсем уже потеряв надежду на спасение, вдруг заметила гигантского оленя-рогача, невиданной огненной масти. Олень тряхнул рогами, топнул ногой, словно приглашая за собой женщину, медленно побежал в чащу, лишь высокие рога обозначали его путь, и Настка погнала за ним своего коня. Так и вывел олень ее к стойбищу Ярославову, упала она, заплаканная и измученная, в объятия князя, а олень исчез, как дух святой. На том месте Ярослав велел заложить церковь Святого духа, а впоследствии вокруг церкви возник город, названный Рогатином в честь того рогатого спасителя оленя. Может, и дочку свою Лисовский назвал Настасей в память о той далекой Настке, княжеской полюбовнице, хоть та Настка была счастливой только в легенде, а на самом деле смерть приняла мученическую – на костре, в который бросили ее жестокие галицкие бояре.
Ох, какой безалаберный был отец Гаврило! Исступленно любил свою маленькую женушку и обрек ее на вечную каторгу с прожорливыми свиньями. Гордился дочкой, мечтал обучить ее высшим наукам, хотя сам едва умел прочитать наизусть две молитвы и не мог отличить псалтырь от требника, и готов был даже отказаться от отцовства в пользу едва ли не самого короля польского – только бы все знали, кто растет в доме батюшки Лисовского и в этом благословенном и проклятом Рогатине! Да и сам Рогатин, как и его беспутный сын Гаврило Лисовский, тоже стоял над столетиями своего происхождения и существования какой-то словно бы раздвоенный: с одной стороны – роскошная княжеская легенда о чудесном спасении заблудшей души, а с другой – почти содомская легенда о Чертовой горе, которая высится на восток от Рогатина, точно мрачный курган, насыпанный нечеловеческой силой на равнине. Потому что рогатинцы хоть и построили свой город вокруг церкви Святого духа, но, видимо помня о греховной связи князя Осмомысла с распутной Насткой, сами пустились в распутство столь тяжелое по тем давним временам, что бог разгневался, призвал к себе черта и велел ему засыпать грешный город землей, чтобы и следа никакого не осталось. Черт набрал полную бесовскую свою торбу черной-пречерной земли и понес к Рогатину. Но то ли заблудился, то ли лень его одолела, но землю он ту не донес до Рогатина – как раз в это время прокукарекал петух, нечистый испугался, бросил землю, где был, и исчез. На том месте выросла Чертова гора. И теперь каждую весну детвора бегала туда рвать горицвет весенний, руту-мяту и синяк красный, и как упрямо ни перепахивал тропинки Кузьма Смыкайло, поле которого было под Чертовой горой, их протаптывали вновь и вновь в тех же местах, где были они испокон века, и отчаявшийся Кузьма, проклиная всю бесовскую силу, каждую осень выставлял свою землю на продажу, но никто не хотел покупать, – как ее купишь, если она под самой Чертовой горой!
Гаврило Лисовский был убежден, что Рогатина не минует предначертанная ему судьба. «Черт не донес ту гору – бог донесет! – восклицал он на Рогатинском рынке. – Кара! Кара!»
У него были огненные волосы, пылали пламенем усы и бородка, кожа на лице и на руках тоже была как бы красной, будто он только что выскочил из пекла. Настася унаследовала от своего отца огненные волосы, а от матери ослепительно белую кожу, нежную и шелковистую не только на ощупь, но и на вид. Красота матери не передалась Настасе, но девочка этим не печалилась уже знала, какая морока с той красотой у ее маленькой мамуси. Как ни изматывалась Александра с батюшкиными свиньями, а выходила в ярмарочные дни или в праздники на Рогатинский рынок, надев белый, разукрашенный вышивкой сардак[19], обув красные сафьяновые сапожки, выложив на высокую так и рвала сорочку – грудь несколько ниток кораллов, и мужские взгляды просто липли к ней, а кто понахальнее да посамоувереннее, тот откровенно заигрывал. Особенно надоедали писарь рогатинский Шосткевич, богатый сапожник, изготовлявший сафьяновые сапожки, Захариалович да еще голодранец шляхтич из Подвысокого Бжуховский, здоровенный, мосластый, с торчком поставленными усами, с толстенными руками, свисавшими из обтрепанных рукавов кунтуша[20], в рыжих от старости сапогах, слишком тесных для его огромных шишковатых ног. Лисовский бросился как-то защищать жену от настырного шляхтича, но тот пренебрежительно отстранил ничтожного попика своею ручищей, процедив сквозь зубы: «Ты, поп, не вертись у меня под ногами, не то растопчу!»
– Такой облик должен быть у дьявола, – показывая на Бжуховского, закричал отец Гаврило своей маленькой дочке. – Доподлинно такой, Настася! Знай и помни, дитя мое!
Если бы! Теперь убедилась, что дьяволы тысячелики. Часто и не знаешь, где они и какие. Бжуховский был слишком простецкий черт. Не умел ни скрыть своей драчливости, ни хотя бы приглушить ее. Потом прибыл от Сандомирского воеводы, старосты земель русских, шляхтич Бобовский с жолнерами и стал собирать в окрестных селах подати и недоимки. Наскочили и на Бжуховского, у которого в Подвысоком был дом, а землю он давно пропил и жил то охотой, то грабежом, коему открыто предавался с еще двумя-тремя такими же забубенными головушками, как и он сам. Бобовский стал требовать от Бжуховского, чтобы он уплатил подать, а тот податей не платил никогда и никому. И это бы еще не беда, да шляхтич в запальчивости назвал Бжуховского Бруховским, то есть приравнял к обычному хлопу-русину. Этого уж простить Бжуховский не смог бы ни пану, ни богу. На ночлег Бобовский остановился в господском доме на Подвысоком, а среди ночи туда ввалились какие-то трое. Слуга Бобовского сказал им, что здесь ночует сам пан шляхтич. Один из прибывших взял саблю и канчук Бобовского, вскочил в комнату, где тот спал, и стал бить сонного. «Вставай, сукин сын!» Вбежали еще двое, выволокли пана шляхтича в переднюю за волосы, били палками, его же собственным мушкетом, отливали водой, снова били. Бжуховский, который тоже прибыл на расправу, кричал из сеней: «Бейте хорошенько, только не грабьте! Пусть знает, какой ему хлоп Бжуховский!» Кто-то выстрелил Бобовскому в голову. Обмазали мертвому лицо его же собственным дерьмом, ничего из вещей не взяли. А слуге сказали: «Скажи – убили его за то, что с паном Бжуховским обошелся как с хлопом, а не как с шляхтичем. Чтобы все знали и помнили!»
– Мог бы и тебя, татусю, вот так же убить этот Бжуховский, – испуганно говорила Настася отцу, – за мамусю вот так бы и убил!
– Меня бог хранит! – выпячивал грудь батюшка. – Божья ласка нисходит на праведных, а всех грешников ждет геенна огненная! Бжуховского же первого!
Но, видимо, геенна огненная была приготовлена для всего Рогатина, потому что не проходило и трех-четырех лет, как на город нападали черные силы, жгли, грабили, убивали, забирали в плен всех, кто не успевал укрыться в лесах возле Гнилой Липы и за Чертовой горой. Батюшка Лисовский, несмотря на постоянное пребывание под хмельком, всякий раз избегал со своими домашними погромов, скрывался в дальнем лесу у Гнилой Липы, куда убегали через Львовские ворота, потому что черные силы всегда врывались в город через ворота Бабинецкие или Галицкие. Мама Александра, как бы предостерегая дочку, напевала ей уже не веселые и беззаботные песенки, а песни такие же страшные, как набеги чужеземцев на их несчастный город: «За синім морем, над новим двором, Настася сорочку шиє. Шиє, вишиває і надвір поглядає. «Миколайчику, братику, що там так синіє? Ци ратаєньки орють, ой, ци волики пасуть?» – «Ой, Настасю, сестро, не ратаєньки ідуть і не волики пасуть, оно по тебе, Настасю, туроньки ідуть». – «Ой, Миколайку, братику, найми же ти кухароньку, а я сховаюся під дев’ятеро дверей, під десятий замок». Наїхали туроньки, стали Настасю шукати… Настасина хустонька, но не Настасина голівка; Настасині пацьори, но не Настасина шия; Настасина суконька, но не Настася сама; Настасині панчошки, но не Настасині ножки, Настасині черевички, но не Настасин хід. Стали двері ламати, Настасю добувати; дев’ятеро дверей зламали і Настасю достали…» И плакала мама, словно предчувствуя долю и свою, и своего дитятка.
Где-то в далеких краях жили страхи, мор падал на людей, сотрясалась земля. Сам султан турецкий Баязед, боясь землетрясения, вышел за каменные стены Царьграда, жил в шатре на поле, а в Царьграде рухнули три башни, разрушился дворец Константина Великого, сотрясало землю в Тракий, Боснии, Далмации и даже в близкой Валахии. Кара на людей, а за что?
Настася была еще совсем маленькой, когда напали на Рогатин валахи. Грабили и жгли, как татары и турки, вывезли из Рогатина все ценности, даже сам польский король разгневался и заставил волахского воеводу Стефана вернуть награбленное, и среди всего другого были возвращены все ценные книги, также и серебро из церкви Святого духа; хотя отец Лисовский, не зная грамоты, не мог составить описи всего церковного имущества, но помнил все так, что с его слов была составлена бумага, по которой валахи и вернули украденное. А было там три чаши позолоченных, три белых, всего чаш восемь, а в них серебра шестнадцать гривен и пять и пол-лута[21], а еще кресты, кадильницы, лампады, пожертвования – на сорок три гривны и тринадцать лутов серебра. Кроме того, Евангелий в оправе три, служебников в оправе три, Псалтырь и Часослов, Триодь цветная, октоих да еще четыре книги, названий коих запомнить он не в силах, ибо великой мудрости книги. Надеялся, что дочка выучится грамоте, постигнет все известные и доступные в Рогатине науки и тогда прочитает те редкостные книги, которые собрались в его церкви за много веков.
У священника Ивана Теребушка училась Настася читать. Теребушкова наука обошлась Лисовскому в целую свинью. «Свинью целую положил на свою Настасю, прошу я вас!» – восклицал отец Гаврило. Он плакал, растроганный, глядя на свое теперь уже ученое дитя. «Малжонка моя верно-милая уродила мне со мною сплодженую дочку панну Настасю, первую в городе моем, которая во всем теле своем, тако в лице, яко и в знаках, которые у меня, притрафила и уродила». Но в пьяном хвастовстве, попирая собственное достоинство, упорно величал дочку королевной, а достаточно ли для «королевны» мизерной науки, почерпнутой у Теребушка? Еще бы набраться ей и добрых обычаев да наук высоких, а дать все это в Рогатине мог единственно викарий Иероним Скарбский. Когда же отец Гаврило сунулся к викарию, тот заломил цену уже не в одну свинью, а в целых шесть. «Шесть свинок за науку его латинскую! – потрясал маленькими кулачками отец Лисовский. – За язык славянский свинью одну, а за латину целых шесть? А язык же славянский правдой божьей основан, построен и огражден-есть, в латинском же только лжа, поганская хитрость и фарисейство сидит, почивает и обладает!» Но кто же еще в Рогатине мог похвалиться тем, что положил на всю науку для своего дитятка одну, а потом целых шесть откормленных свиней? И мог ли уберечься от искуса похваляться таким деянием на протяжении всей своей жизни батюшка Гаврило Лисовский? Ведь и оправдание было под рукой. Ибо разве же проживешь с одним Часословом? Без латыни не поймешь ни судьи, ни стряпчего, ни посла. И Настася стала ходить на усадьбу к викарию Скарбскому. Он ошеломил маленькую девочку огромностью своих знаний, суровостью ума. Его небудничность поражала и оглушала. Одевался, как никто в Рогатине, высокий, тонкошеий, с грустными темными глазами, с тихим голосом, равнодушный к мирским утехам, далекий от мелочей и суеты, он поразил Настасю в самое сердце, и она влюбилась в него не так, как доныне влюблялась в сопливых мальчишек, с которыми носилась босиком то на Чертову гору, то в отцову церковь разглядывать причудливые древние иконы с бородатыми святыми.

