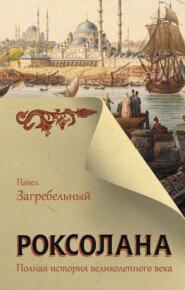скачать книгу бесплатно
– Что ты сказала? – спросил кизляр-ага, для которого Хуррем оставалась все еще рабыней, пусть и любимой на какое-то время султаном, но все равно рабыней. – Как ты смела мне такое сказать?
– Не пойду! – закричала Хуррем и даже топнула ногой. – Поди и скажи султану, что я недостойна стать перед ним, так как я обычное проданное мясо, а не человек. Кроме того, лицо мое так исцарапано и на голове моей столько вырвано волос, что я не смею показаться на глаза его величества.
У Четырехглазого не дрогнула ни единая жилочка на лице. Сочувствия тут не было и в помине, но по крайней мере мог бы усмехнуться на такие речи, а он не позволил себе и этого. Когда человек сам роет себе могилу, что остается? Подтолкнуть его туда, вот и все. А что Хуррем живьем закапывала себя, в том не могло быть ни малейшего сомнения. Ибо это впервые в османских гаремах рабыня отказывалась идти на зов падишаха, да еще и произнося при этом оскорбительные, высокомерные слова, похваляясь своим рабством, выставляя его как какую-то наивысшую добродетель. Не могло быть большего торжества для всего гарема, нежели это ужасающее падение временной любимицы, заворожившей султана темными чарами, и кизляр-ага, как верный слуга Баб-ус-сааде, как необходимейшая принадлежность гарема, мигом кинулся к покоям падишаха, чтобы принести оттуда повеление о конце взбунтовавшейся рабыни и о возвеличении всех тех, кто ждал этого конца: валиде, Махидевран, султанских сестер, всего гарема, до последних водоносов и уборщиков нечистот.
Однако чары продолжали действовать непредвиденно и зловеще. Султан молча выслушал главного евнуха, переспросил, в самом ли деле так сильно пострадала Хуррем, потом сказал:
– Пойди к ней и попроси, чтобы она пришла.
А когда оторопевший от таких слов кизляр-ага, вместо того чтобы мгновенно броситься исполнять высокое повеление, разинул рот, точно хотел что-то сказать, султан повторил:
– Пойди и скажи, что я просил ее прийти.
Дважды сказанное уже не требует подтверждений. Кизляр-ага поплелся туда, откуда вышел с таким преждевременным торжеством, – был слишком опытным гаремным слугой, чтобы не постичь, что идет уже не к рабыне, а к повелительнице, пусть еще и не признанной всеми, но ему уже объявленной, и счастье, что он первый узнает об этом, теперь-то уже не ошибется в своем поведении ни за что. Был сплошная учтивость перед Хуррем, кланялся ей, точно султанше, просил и от имени падишаха, и от своего. Она немного привела себя в порядок, пошла в покои Сулеймана, шла с сухими глазами, решительная, исполненная ненависти ко всему вокруг, а перед самой ложницей султана сломалась, заныло у нее в душе, брызнули из глаз обильные слезы. Мамочка родная, что они со мною делают! Пусти меня в детство, пусти в свои песни, в сказки, в свой дорогой голос, пусти в раскаянье, пусти хоть в смерть! Просилась в детство, а была ведь еще ребенком. Предстала перед султаном вся в слезах, окровавленная, униженная. Сулейман, забыв про кизляр-агу, бросился к Хуррем, целовал ее слезы и раны, гладил волосы, спрашивал, кто осмелился поднять на нее руку, кто этот преступник, пусть скажет, пусть только назовет имя.
Сквозь всхлипывания она назвала имя Махидевран, и султан коротко кивнул кизляр-аге – привести. Не просил, не передавал, чтобы пришла, не стал тратить хотя бы слово на свою баш-кадуну, на султаншу, на мать своих детей, на ту, что дала ему наследника. Жестокий кивок – и все.
Кизляр-ага поспешно отправился в новый свой поход. Одну уже возвел на вершину, теперь должен был другую спустить до низин. Немного побаивался осатанелой черкешенки, боялся, что закапризничает и не захочет идти к своему повелителю, но Махидевран только и ждала, когда явится пред глаза Сулеймана. Ибо какая женщина пренебрежет случаем высказать мужчине все, что она о нем думает, – и не важно при этом, кто этот мужчина, самый убогий юрюк из Анатолии или сам великий султан.
В горе от смерти своих детей и от несправедливости султана, Махидевран явилась перед Сулейманом разгневанная, но гордая тем, что не была когда-то продана ему в гарем, а привезена братьями в дар будущему преемнику престола, в знак преданности Османам, завоевавшим весь видимый мир. Не сдерживала своей ярости, из горла у нее вырывался вместе с турецкими словами дикий черкесский клекот, что было бы, может, даже прекрасно, если бы произносились при этом слова справедливые и милостивые, а не пронизанные ненавистью.
Султан коротко спросил, действительно ли она допустила насилие над беззащитной Хуррем.
Черкешенка гортанно рассмеялась и выкрикнула, что это еще не все, что она еще не воздала этой дочери ада все положенное. Ибо она, Махидевран, баш-кадуна, только она может быть первой в услужении его величеству, и все жены, а прежде всего рабыни, должны ей уступать и считать ее своею госпожой.
Сулейман не мигая смотрел на ту, которую звал Весенней Розой и Повелительницей Века, которую еще совсем недавно ставил надо всеми, без которой не мог дышать. Смотрел и не видел идола, коему поклонялся. Стояла перед ним тупая, чванливая, раскормленная черкешенка, вся увешанная драгоценными побрякушками, щедро даренными им за каждый поцелуй, за каждый взмах брови, а рядом с нею – полная жизни и искристого ума девушка, которая точно вырвалась из ада, опалившего ее волосы, коснувшегося, может, и души, но отпустившего на волю, чтобы попала она в рай, ибо рай только для таких, как она. В гареме была точно вызов всем тем пышнотелым, безмерной красоты одалискам, вроде бы и обыкновенная лицом, с детским, чуть вздернутым носиком, такая маленькая вся, что уместилась бы на ладони у своего безжалостного сторожа – кизляр-аги, но мужественная, дерзкая, полная непостижимого очарования и невероятного ума. Сулейман прекрасно знал, что такое дебри гарема. Там все ненадежно, непрочно, встревоженно-пугливо, все как бы раздвоены; одни подчиняются судьбе и плывут на этом проклятом корабле тяжелого прозябания, что везет их к старости и смерти, другие (их совсем мало, единицы) начинают ожесточенную борьбу за султанское ложе, не задумываясь над тем, что может принести им это ложе. А эта девушка не присоединилась ни к одним, ни к другим, даже понятия не имела, что случаем обретенное султанское ложе принесет ей совсем уж непредвиденное – власть, какая никому и не снилась. Какая же это для него неожиданность и радость в то же время: встретить в гареме, среди этого попранного «мяса для удовольствий», среди отупевших молодых самок, затурканных наложниц, запуганных орудий утех и наслаждений, существо мыслящее, человека, который равен тебе упорством ума и жаждой знаний, а волей и характером превышает, ибо за тобой, кроме происхождения, нет ничего, а она выбилась из небытия, из рабства, из безнадежного унижения на самый верх только благодаря собственным силам, одаренности души, мужеству и вере в свое предназначение на земле.
Все это Сулейман чувствовал, хотя постичь до конца не умел, да и не пытался. Знал лишь одно: больше не захочет видеть эту черкешенку нигде и никогда. Всплыли в памяти слова: «А тех, непокорности которых вы боитесь, увещевайте, и покидайте их на ложах, и ударяйте их…»
– Уходи прочь, темная женщина, – сказал он тихо, но твердо. Когда же Махидевран гневно двинулась на него, он повторил уже с нетерпением в голосе: – Уйди прочь!
Железные руки кизляр-аги вмиг выпроводили черкешенку из ложницы.
А те двое остались одни, глянули друг другу в глаза и, пожалуй, оба одновременно поняли: вместе навсегда, до конца, неразлучно. Сулейман устало обрадовался этому открытию, а Хуррем испугалась. С ужасом почувствовала, что ненависть ее куда-то запропастилась, исчезла, а на ее место выступало искушение и демоны завладевали душой неумолимо и навеки, навеки! Разве она этого хотела, разве к этому стремилась! Хотела лишь успокоить, усыпить вампира, а потом ударить, одолеть, превзойти! Чтобы отомстить за все! За мамусю и за отца, и за Рогатин, и за всю свою землю, которую эти пришельцы, эти грабители и людоловы норовили заковать в железный ошейник, как тех несчастных девушек, что плыли с нею через море и проданы на рабском торге в Стамбуле в вечную неволю. И хотя сама она не испытала ошейника, все равно ощущала его жестокое железо на своей нежной шее, он угрожал ей постоянно, нависал над всей ее жизнью, как извечное проклятие. Только ли потому, что родилась на такой щедрой и богатой земле, очутившейся на распутье племен и всей истории?
Должна была лелеять в себе ненависть к этому главарю всех величайших грабителей, взращивать ее упорно и тщательно, и делала это без понуждения со стороны, без чьей-либо помощи, и уже должна была бы сорвать плод, когда неожиданно сломалась. И с ужасом ощутила в себе уже не ненависть к этому высокому грустному человеку, похожему на викария Скарбского из Рогатина, а – страшно даже и сказать – нечто вроде начала расположения, может, и любви! Ветер горьких воспоминаний еще и поныне нес ее в отчизну, а любовь уже отклоняла, как молодое деревце, назад. И давно уже перестала она быть Настасей, а стала Хуррем. И теперь осталась одна с этим человеком – одна во всем свете. Шагнула к Сулейману, и он протянул к ней руки. Упала ему на грудь, содрогалась в рыданиях. Да упадет твоя тень на меня. Падала на всю землю, пусть упадет и на меня.
Вот когда завершилась богооставленность ее души ее триединым христианским богом. Тут же, где грешила, должна принять чужую веру. Так легко. Только поднять указательный палец правой руки, шехадет пермаги палец исповедания. Добродетельная блудница. Постепенно вползали в душу порок за пороком, страсть за страстью, а она и не замечала. Углублялась в плотскую жизнь, пока не утонула в ней. «Если Ты поклонишься мне, то все будет Твое». Какой обман!
А образ мамуси, дорогой образ, тускнел и уже насилу пробивался сквозь даль времен, невыразительный и горький, как ночные одинокие рыдания. И только в глубине души тоскливо звучала песня от мамуси, все от мамуси: «Ой, глибокий колодязю, боюсь, щоб не впала. Полюбила невiрного – тепер я пропала…»
ОСТРОВ
Так что же? Дьяволы уже вселились в нее, и вокруг ими так и кишело. Правда, в последнее время они вели себя смирно, но все равно теперь уже знала: она в их руках, и нет ей спасения. Шла к султану каждую ночь, умирала и рождалась в его объятиях, а он, ясно было по всему, только и видел жизнь, что в ее глазах, в ее лице, в ее пугливо-обольстительном теле, удивлялся теперь безмерно, почему так долго не мог отгадать (а кто подсказал бы, кто?) причину своей душевной тоски, еще больше дивился тому, как могло ему поначалу показаться некрасивым это единственное в мире личико с прекрасным, упрямо вздернутым носиком, с очами, что светили ему звездами в самой непроглядной тьме, с дивным сиянием, от которого бы засветилась даже самая мрачная душа. Воистину, красота – в глазах того, кто любит.
Султан снова становился султаном. Созывал диван, советовался с визирями, дважды в неделю, выполняя обязательный ритуал, показывался придворным и послам, каждую пятницу молился в Айя-Софии, изредка ездил на Ок-Мейдан метать стрелы, присматривался к новым стройкам Стамбула, одаривал вельмож златоткаными кафтанами и землями, карал и миловал и вновь и вновь возвращался к своей Хуррем, без которой не мог и дохнуть, возвращался в ночи ее голоса, ее песен, ее смеха и ее тела, подобного которому еще не знал мир. Всякий раз новое, непостижимое, неизъяснимое, страшное в своей соблазнительности и неисчерпаемости, это тело обезволивало султана, в нем все содрогалось от одного лишь прикосновения к Хуррем, и он с ужасом думал о том, что утром надо бросать эту девочку-женщину ради женщины иной – державы, властной и немилосердной, а тем временем эта беленькая девчушка будет отдана на подсматривания, оговоры и наговоры безжалостного, завистливого гарема. У него перед глазами стояло постоянно одно и то же: валиде с темными властными устами, злые султанские сестры, хищная Махидевран, обленившиеся одалиски, толстые коварные евнухи, молчаливый кизляр-ага, безнадежно располовиненный между султаном и его матерью, а посреди всего этого – она, Хуррем, с мальчишеской фигуркой, в которой ничего женского, лишь пышные волосы и тугие полушария грудей, так широко расставленных, что между ними могла бы улечься султанова голова.
Валиде тоже видела эти груди и тоже знала, что между ними может улечься голова ее царственного сына, и боялась этого, так как уже убедилась, что рабыня с Украины – самая опасная соперница не только всем одалискам, не только глупой Махидевран с ее холеным телом, а даже ей, недостижимой в своем величии и власти повелительнице гарема и своего единственного сына. Когда султан, возвратившись из великого похода, печальный и хмурый, несмотря на блистательную победу, ударился в разгул, чтоб разогнать тоску, валиде радовалась этой темной вспышке мужественности в Сулеймане. Когда он увлекся маленькой украинкой-роксоланкой, повелительница гарема даже тайком способствовала этому увлечению, надеясь, может, и на пополнение древа Османов, ибо дети от Махидевран оказались недолговечными и еще неизвестно было, долго ли проживет единственный оставшийся в живых ее сын и наследник трона Мустафа. Да и нельзя было ставить под угрозу всемогущественный род Османов, имея лишь одного наследника, – валиде знала это по собственному горькому опыту: ведь двадцать шесть лет не знала спокойной минуты, оберегая жизнь своего сына, которому отец его не сумел, не смог и не захотел дать ни единого брата. Валиде верила в дух и силу степей, на краю которых сама родилась, готова была приветствовать рождение сына этой роксоланкой, согласна была поставить ее на место кума-хатун, то есть второй жены султана, но никогда на место первой, баш-кадуны, на место Махидевран. Ибо Махидевран – это только тело, тупое и глупое, которое легко пихнуть куда угодно, а Хуррем это разум, непокоренный, своевольный, как те беспредельные степи, с которыми уже вон сколько лет безнадежно бьется воинственный народ самой Хафсы. Еще когда ничего и не намечалось, когда Хуррем была бесконечно далека от царственного внимания Сулеймана, валиде, подсознательно ощущая угрозу, скрывавшуюся в маленькой украинке, незаметно, но упорно руководила ее воспитанием. По обычаю, установленному испокон века, гаремниц на целый день сбивали в кучу, чтобы были на глазах, чтобы не дать им укрыться ни мыслью, ни настроением, не дозволить никому столь желанного уединения, ибо наедине с собой можно и надумать что-либо греховное, а то и злое, а так пустоголовость, лень, обжорство, похвальба телесными прелестями и в то же время ревнивая слежка, взаимное наблюдение, питающиеся неисчерпаемыми источниками зависти, этого страшнейшего из людских пороков. Хуррем, словно бы и подчиняясь заведенному обычаю, охотно напевая и смеясь в гурьбе одалисок, в то же время норовила оторваться от них, когда они надоедали своею пустотой, отвоевывала для себя каждую свободную минутку, тратя ее на обогащение своего ума. Другие объедались, спали, думали о драгоценностях, нарядах и украшениях, хватались за каждый способ сделать свои тела еще соблазнительнее, а эта, с ароматным, почти мальчишеским телом, с запахом диких степей в своих фантастически золотых волосах, заботилась лишь о своем уме, выстраивала его, как мост, по которому можно перейти самую широкую реку, как мечеть, в коей можно произносить самые сокровенные слова, как небесный свод, под которым голос доносится до ушей самого аллаха. Для гарема такая рабыня была невиданной, подозрительной и опасной. Поэтому валиде приставила к Хуррем старую мудрую турчанку, которая могла научить маленькую украинку простым знаниям, грубым песням, всему тому, что звучало на подлом каба тюркче[63 - К а б а т ю р к ч е – вульгарный, простонародный (презрительное название устной народной речи в устах господствующей верхушки).], таком далеком, если и не враждебном, султану Сулейману, воспитанному на изысканной персидской поэзии, на арабском мудрословии. Валиде наперед догадывалась, как резанут эти простонародные песенки, переданные Хуррем доброй уста-хатун, утонченный слух повелителя, еще с детства писавшего подражания – назире – на блестящие кас иды и газели Ахмеда Паши, великого поэта, сумевшего стать любимцем двух могущественных султанов – Мехмеда Фатиха и Баязида Справедливого.
И все ее хитрости свелись на нет. Маленькая роксоланка приворожила султана неведомо чем. Одна ночь, даже десять ночей с султаном – в этом еще ничего не было угрожающего, все ждали конца, валиде верила, что Сулейману в конце концов надоест маленькая рабыня с ее песенками, одинаково варварскими и на ее непостижимом языке, и на каба тюркче, еще непоколебимо верила валиде, что постная плоть неискушенной в любовных утехах украинки не даст наслаждения султану и тот неминуемо вернется к своей сладкой Махидевран или к другим пышнотелым одалискам. Вычерпывается и самый глубокий колодец. Разве не исчерпалось ее собственное тело так, что султан Селим навсегда отчурался от нее, как только она подарила ему сына и дочь?
Так рассуждала мудрая валиде, спокойно наблюдая временное увлечение своего сына маленькой украинкой. Но мудрости ее нанесен был страшный и непредвиденный удар. Спокойствие рассеялось, как дым от степного костра. Ее великий сын с его тонкой душой, с непревзойденной мудростью, с непреклонной волей был сломлен, как тонкая камышинка бурей, побежден коварством, превышавшим всякую мудрость, брошен в униженность грязной страсти, не щадящей в мужчине ни изысканности, ни блеска, ни обыкновенной порядочности. Маленькая Хуррем возвышалась над гаремом, над валиде, над самим султаном, над всей империей, и никто этого еще не понимал, кроме мудрой валиде, никто не мог помочь, не мог раскрыть глаза султану, указать на угрозу и посоветовать, как спастись.
Валиде позвала Махидевран, ослепленную горем смерти своих детей, и спокойно сообщила ей о том, что происходит в гареме. И этим еще ускорила неизбежность победы Хуррем.
Падение Махидевран было ужасающим. Султан забыл о своей любви к ней, забыл о детях, которых она с такой щедростью дарила ему, не хотел вспоминать, что она султанша, мать маленького шах-заде Мустафы, единственного наследника его престола. Он прогнал Махидевран с глаз, как презреннейшую рабыню, он не хотел видеть ее не только в своей ложнице, но и в гареме, и не только в Баб-ус-сааде, но и в Стамбуле: Махидевран была оторвана от сына, вывезена на остров в Мармаре, в старый летний серай, в одиночное заточение, вечную ссылку. А ее покой, самый большой в гареме, о трех окнах, с мраморным фонтаном посредине, весь в дорогих коврах, отдали маленькой Хуррем, не спрашивая ни согласия, ни совета валиде, да еще и передали Хуррем всех бывших служанок Махидевран, словно бы эта роксоланка с ее бесполезным (может, и бесплодным!) телом стала уже султаншей, дала новую поросль всемогущественному роду падишаха!
Валиде рвалась к султану – он ее не принимал. Она мучила своим отчаяньем малоречивого кизляр-агу, черный евнух спокойно бормотал: «Не следует совать палки в колеса судьбы». Хуррем все же оставалась во власти валиде. Ночи принадлежали султану, дни – повелительнице гарема. Она звала Хуррем в свои покои, сидела, кутаясь в дорогие меха, на белых коврах, пробовала выведать, какими чарами завладела маленькая украинка ее сыном, а девчонка беззаботно смеялась: «Какие чары? Кто завладел? Что вы, ваше величество?» Валиде держала ее у себя часами, угощала сладостями, велела приносить книги, чтобы читать вместе с Хуррем, хотела проникнуть если и не в душу ее, то хотя бы на закраины этого чужого тела: что ему по вкусу, что оно любит – тепло, ласковое прикосновение, красивую одежду, боится ли холода, ежится ли от ветра, вздрагивает ли от крика, грохота ворот, рева диких зверей в подземельях серая.
А Хуррем, смеясь, отбиваясь от настырности валиде, выставляла перед собой непробивную завесу беззаботности, отделывалась от любопытства Хафсы песнями и песенками, была неуловима, как дух, неприступна, как скалистый остров посреди разбушевавшегося моря. Так, словно бы этой шестнадцатилетней девочке уже давно открылась мудрость человеческой неприступности, благодаря которой каждый может жить на свете, сохраняя собственную личность. Мы существуем до тех пор, пока мы, объединяясь неустанно со всем, что нас окружает, в то же время отделены от него оболочкой своего тела, духом своим и неповторимостью. Мы – скалистые острова посреди безграничного, беспредельного моря жизни, острова, которые за твердыми берегами скрывают нежную, уязвимую зелень, журчанье ручьев, мягкую землю, какую не уступают никому, иначе размоют ее воды, развеют ветры, расхватают алчные стихии. Все живое должно укрываться. Улитка – в раковине, вепрь – под щетиной, за острыми клыками, человек – за силой, за мужеством, за умом, за смехом, за презрением. В этой девочке неудержимый смех скрывал в себе горькое презрение ко всему. Ах, если бы умел это увидеть ее ослепленный сын! Незаметно вздыхая, валиде отпускала Хуррем. «Иди, девочка. Достойно приготовься к ночи. День принадлежит мужчинам. Женщинам принадлежит ночь. Помни об этом».
Хуррем уходила от валиде, чтобы укрыться в своем роскошном покое и выплакаться до наступления ночи вволю. Плакала, чтобы никто не видел, чтобы глаза не краснели, чтобы даже слезы не катились из глаз. О проклятая земля, где и поплакать по-людски не дадут: вездесущие глаза заметят, высмотрят, донесут султану, и тот прогонит ее от себя, ибо для утех нужна ему смеющаяся, а не заплаканная, тоску и печаль он оставлял за порогом ложницы, а тут хотел лишь радостной беззаботности, того веселья духа, которое даже самых простых людей возносит до уровня бессмертных богов.
А в Хуррем за видимой беззаботностью тоска клокотала чем дальше, тем сильнее, хотя душа, почти было умершая на невольничьих рынках, постепенно пробуждалась, отгоняя от себя призрак смерти, возвращаясь к жизни, к той настоящей и большой жизни, в которой человеку необходимы отчизна, свобода и песня. Утратив свою отчизну, могла ли она заменить ее даже этой неоглядной империей, раскинувшейся на целых три материка? Отобрана у нее свобода – сможет ли вернуть ей этот божий дар всемогущественный султан? Песня оставалась с нею, в ней было спасение, песня стала ее оружием, орудием избавления, ступенями спасения на той лестнице, что соединяет землю и небо, волю и неволю, бытие и небытие.
Была еще плоть, но о ней Хуррем не думала и не заботилась, кажется, даже не замечала своего тела, его униженности. Потому что чем больше унижалась ее плоть, тем выше порывался и возносился дух. Женщина умеет делиться на дух и плоть – это ее преимущество над мужчиной, надо всем сущим.
Ночи шли за ночами. Гнилой ветер с Дарданелл, с голых берегов Азии сменялся ветром с севера, – ветром йылдыз, очищавшим воздух Стамбула, отгонявшим смрад нечистот и гнилой воды у пристаней. Серые гуси кричали в высоких темных небесах, точно неутихающая боль и отчаянье Хуррем, – ей хотелось дня, а должна была жить лишь ночами, надеясь на высвобождение из униженности, из угнетенности и никчемности.
Относилась к людям, которые всю жизнь идут за солнечным лучом, по белому дню и по белому свету, пожалуй, их большинство на земле, но есть и такие, что идут по узкой лунной дорожке, среди мрака, темноты и таинств, зачарованные серебристым блеском, очумевшие от того блеска, в глазах у них тот блеск, а в душе темнота и мрак. Султан относился к таким людям, и она стала его жертвой. Сколько лет в детстве слушала со слезами растроганности на глазах отцову проповедь в церкви Святого духа, как сладостно плакала когда-то над словами евангелиста Матфея: «А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».
Вот она и полюбила врага своего!
Гнилые ветры дули всю короткую стамбульскую зиму, и отчаянье поднималось в душе от тех ветров столь неоглядное, что захотелось бы даже умереть, если бы не рвалась Хуррем с такой силой к жизни, и уже не к простой жизни, а к наивысшим ее вершинам. Ее тошнило от прокислого духа толстых ковров, кружилась голова от сильных ароматов курильниц и от сухого дыма жаровен. От постоянного напряжения у Хуррем часто пересыхало в горле, она коротко откашливалась, не без удовлетворения отмечая, что каждое ее покашливание почти мучительно отзывается в султане, к нежной заботливости которого всякий раз добавлялась еще и тревога. Так что же? Победа? Что-то давало ей силы идти все дальше и дальше, не останавливаясь, не удовлетворяясь тем, что уже имела, проявляя алчность, но не к обычной тщете, не к драгоценностям, не к зримым доказательствам султановой привязанности к ней, а прежде всего ко всему тому, что обогащало и развивало ее человеческую сущность, ставило ее над тем замкнутым миром, который напоминал клетку для зверей, возмещало хотя бы в какой-то мере утрату самых дорогих ценностей, коих уже не могла вернуть теперь для нее никакая сила. Наверное, некоторые души нуждаются в жесточайших ударах судьбы, чтобы выказать свое величие.
Маленькую Настасю продавали в Кафе на невольничьем рынке нагой. Так она и чувствовала себя после того – лишенной не только одежды, но и всего человеческого. Не везла с собой за море ни дома, ни земли, ни неба, ни трав и цветов, даже Чертову гору рогатинскую не прихватила. Покинутая богом и людьми – крапива у дороги, чертополох с острыми колючками, хищный зверь с ядовитыми когтями, – очутилась среди таких же, как и она, вырванных из отчизны, оторванных от рода своего, брошенных в клетку, никаких надежд, никаких связей, никакой меры для них, а человек ведь измеряется не только собственной сущностью, но и окружением, всем производным от времени, места, происхождения. От прошлого не осталось даже ее собственного имени. Только в снах являлась перед ней рогатинская гора, отцова церковь, и дом родной за ольшаником, и мамуся на пороге, и золотые облака над нею, и рыдания, рыдания… Суровости и мрачности мира, в который попала, ничем не могла одолеть, кроме притворной (но ведь и естественной для нее!) веселости, которою удобно было прикрывать свою растерянность и смятение. Кто бы поверил, что она спасается смехом и песней, что вырвется из униженности, из рабства, собственно, из небытия? Род людской прекрасен. Она докажет это даже врагам. Пусть познают это чудо и пусть содрогнутся их сердца от удивления и восхищения ею.
Безмерное горе и безнадежность одних ломают навсегда, для других неожиданно становятся дорогой к вершинам духа. Когда Хуррем убедилась, что люди и бог оставили ее, что мир бросил ее на произвол судьбы и она предоставлена лишь собственным силам, в ней неожиданно для нее самой открылась такая неукротимая сила духа, такие неведомые ей самой возможности ума, что она даже испугалась. Может, так же пугала она своих гаремных стражей и самое валиде, зато султана удивила и восхитила так, что он не мог уже оторваться от созерцания этой удивительной девушки, в которой вмещалось столько неожиданностей, столько щедрых знаний и дарований, что казалось бы, их не в состоянии была выдержать человеческая природа!
Те два месяца гнилой стамбульской зимы, два месяца их неразлучности, Хуррем была еще и ученицей султана. С ненастырной настойчивостью Сулейман отучал Хуррем от грубых песенок, бережно вводя ее в храм истинной высокой поэзии, где царил дух утонченности, где от простонародного каба тюркче остался разве лишь вспомогательный глагол, зато господствовали слова персидские и арабские, где целые строфы газелей можно было читать, зная скрытый поэтический ключ, попеременно то по-персидски, то по-арабски, то по-турецки. Он читал ей газели Ахмеда Паши, Исы Неджати, знаменитую «Мюреббу» Исы Месцехи, и она мгновенно схватывала не только суть, но и высокие тонкости поэзии, память у нее была цепкая, как глициния, Хуррем могла повторять целые газели вслед за Сулейманом, а то вдруг неожиданно, через несколько дней, когда он уже и забывал, что читал ей, вспоминала из Ахмеда Паши: «Приди, но не войди в шатер соперника, ибо ты ведь знаешь, что там, где собака, – ангел не пройдет, о друг мой…»
Или же мило переиначивала стихи Джелаледдина Руми: «Если уж и вспоминаю о ком-то, то вспоминаю лишь тебя. Если уж раскрываю уста, то лишь затем, чтобы рассказать о тебе. Если мне хорошо, то причиной этого лишь ты. Если мне захотелось слукавить, то что поделаешь, этому научил меня ты».
Эта маленькая гяурка, упрямо не снимавшая свой золотой крестик с шеи (султану было приятно это упорство), отважилась даже начать богословский спор со своим повелителем.
– Ваше величество услаждает мой слух прекрасной поэзией, – говорила она, – и еще ваше величество рассказывает рабе своей, как великодушны были султаны к поэтам, милуя и щедро осыпая наградами даже самых легкомысленных из них – и за что же? – за слова, только за слова, и более ни за что! А между тем сам пророк ненавидел поэтов, о чем сказано в Коране: «Они извергают подслушанное, но большинство их лжецы. И поэты – за ними следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что они по всем долинам бродят и что они говорят то, чего не делают…» Как это согласовать и можно ли вообще согласовать?
– Ох, маленькая гяурка, – снисходительно вздыхал султан, поглаживая ее по щеке, – у тебя не хватило терпения прочитать дальше. А дальше в Книге написано: «…Кроме тех, которые уверовали, и творят добрые дела, и поминают аллаха много». Еще ты не знаешь хадиса[64 - X а д и с – пересказы высказываний и деяний Магомета.], который передает слова пророка: «Почему бы тем, кто защищает алл ахова посланника с оружием в руках, не защищать его также и своим словом?» Пророк давал повеления своим ансарам[65 - А н с а р – сторонник, последователь пророка Магомета.] убивать каждого из поэтов, высмеивающих его учение, но милостиво относился к тем, кто прославлял его, и даже тех, кто писал оскорбительные слова, но затем покаялся. Такова история поэта Каба ибн Зухайра, который заслужил смерть за свое злое стихотворение против пророка и был даже ранен в столкновении с правоверными, но впоследствии свет ислама пролился и на него. Он сочинил большую поэму в честь пророка, явился на утреннюю молитву в мединскую мечеть и там стал читать перед посланником свое произведение, и когда дошел до слов: «посланник – это сверкающий меч из индийской стали, обнаженный самим аллахом», – растроганный Магомет накинул на плечи поэта собственный плащ, после чего эта поэма так и называется «Аль-Бурда» «Плащ». И в этой поэме есть слова, написанные словно бы о тебе, Хуррем. Вот они: «Когда она улыбается, показываются ее влажные от слюны передние зубки, точно они – источник сладкого вина, к которому приятно припасть дважды, вина, смешанного с холодной чистой водой, взятой из змеившегося в долине потока, над которым летят северные ветры».
Я скажу тебе: «О моя госпожа, ты измучила меня!»
Она ответила: «О боже! Мучь тогда и ты меня!»
Через два месяца Хуррем несмело сказала султану, что она ждет ребенка. Растроганность его была столь безмерна, что он неожиданно даже для самого себя стал читать ей в полузабытьи стихи древних суфийских поэтов Джелаледдина Руми и Юнуса Эмре, и вся ночь у них прошла в стонах блаженства, в радости, в приглушенном звучании таинственных слов о слиянии человеческих душ друг с другом и с высшей сущностью.
В счастливый миг мы сидели с тобой – ты и я,
Две формы и два лица – с душой одной, – ты и я.
Дерев полутень и пение птиц дарили бессмертием нас,
В ту пору, как в сад мы спустились немой – ты и я.
Восходят на небе звезды, чтоб нас озирать,
Появимся мы им прекрасною луной – ты и я.
Нас двух уже нет, в экстазе в тот миг мы слились,
Толпе суеверной и злой ненавистны – ты и я.
В эту ночь султан хотел быть особенно великодушным. Может, сожалел, что поздняя ночь, и не может он немедленно проявить все величие своего великодушия к Хуррем и вынужден ждать утра, чтобы сообщить валиде и кизляр-аге, сообщить всему гарему, всему Стамбулу и всему миру, как дорога ему эта маленькая девочка, от которой он теперь ждет сына, наследника и которую он сделает султаншей, царицей своей души и царицей всех душ его империи, но до утра было еще далеко, до сына – еще дальше, поэтому он должен был довольствоваться одними словами, и он щедро лил их из неисчерпаемых источников своей памяти, с которой пока еще не могла состязаться даже цепкая, как глициния, память Хуррем: «Все равно приходи, все равно будь той, какая ты есть, если хочешь – будь неверной, огнепоклонницей, идолопоклонницей, если хочешь – будь хоть тысячу раз раскаявшейся, если хочешь – будь сто раз нарушительницей раскаяния, эти врата не врата безнадежности, какая ты есть, такой и приходи».
И уже когда Хуррем уснула, он бормотал над спящей, точно колыбельную, из Юнуса Эмре, слишком простого для султанов поэта, но такого уместного для данного мгновения:
Станем мы оба идущими по одному пути,
Приди, о сердце, пойдем к другу.
Станем мы оба людьми одной судьбы,
Приди, о сердце, пойдем к другу.
Не разлучимся мы с тобой,
Приди, о сердце, пойдем к другу.
Пока не пришла весть о смерти,
Пока не схватила смерть за ворот,
Пока не напал на нас Азраил,
Приди, о сердце, пойдем к другу.
Спящая Хуррем казалась ему бессмертной. Несмело прикасался к ее шелковистым персям и ощущал ее бессмертие. Она спала, точно корабль на тихих водах, полный жизни, огня и скрытого движения. Словно змея, она никогда не потела, сухой огонь бил из нее даже спящей, обжигал Сулеймана, обращал в уголь, в пепел. Наконец-то нашел он женщину, которая убедила его, что существует на свете нечто более важное, более ценное, нечто выше его самого во всей его недосягаемости. Что же? Она сама. Только она. Была для него утолением жажды, забытьем и воскрешением, давала высвобождение от всего, похожее на сладкую смерть. Тогда он забывал даже о себе самом, освобождался от себя, знал лишь одно: без этой женщины не сможет жить, без любви к ней, без ее любви мир утратит всю свою прелесть, все краски свои, самое же страшное – потеряет свое грядущее. Ибо любовь, как искусство, охватывает и то, что реально существует, и то, что должно когда-то наступить.
Кому об этом расскажешь? Хуррем знала и без того, а больше никто не поймет, не с кем ему поделиться. Разве что с Ибрагимом, с которым давно уже не уединялся, увлекшись ночами с Хуррем, а его оставив для утех с молодою женой.
Словно бы затем, чтобы дать Хуррем полностью прочувствовать счастье нести в себе султанское семя, Сулейман приказал, чтобы ее никто не трогал в гареме, даровал ей отдых и одиночество на несколько дней и ночей, сам же обратился с усердием, могущим показаться чрезмерным, к делам государственным, затем, возобновив давний свой обычай, заперся в покоях Фатиха с любимцем своим Ибрагимом. У них не часто были такие затяжные разлуки, новая встреча всякий раз щедро орошалась вином, выпив же первые чаши, они разыгрывали на два голоса иляхи дервишей ордена руфаи. Так было и на этот раз. Сулейман, лукаво поглядывая на Ибрагима из-за края золотой чаши, начал то, что в их игре принадлежало ему:
– «Упал мой взгляд, полюбил красавчика араба». Ох! Ох!
– «Хоть и араб он, но очень изысканный», – мгновенно ответил Ибрагим.
Сулейман отставил чашу, прижал руку к сердцу:
– Я сказал: «Мальчик Шамуна, ты не из Дамаска?» Ох! Ох! Ибрагим, улыбаясь, медленно покачал головой:
– «Нет! Нет! Родом я не из Дамаска, а из Халеба». Ох! Ох!
Один спрашивает, другой отвечает, обязанности распределены давно и твердо, распределение это еще больше укрепилось после вступления Сулеймана на престол, в сущности, Ибрагим своим положением Сулейманова любимца и наперсника обязан был тому обстоятельству, что никогда не давал воли своей врожденной наглости, умел сдерживаться, к тому же делал это незаметно, всегда уступая своему повелителю первое место и всячески склонял того к мысли, будто они во всем равны и никто из них в этих ночных беседах не имеет никаких преимуществ.
После песенки дервишей можно было бы почитать что-нибудь из скабрезной поэмы Джафара Челеби или из хмельных стихов Ильяса Ревани, но начинать должен был султан, а если уж не начинать, то хотя бы намеком показать Ибрагиму, чего он от него ждет.
– Ты забыл обо мне, – укоризненно произнес Сулейман.
– Я скорее забыл бы собственное имя, ваше величество, – всплеснул руками Ибрагим, искренне обиженный таким упреком.
– Разве может сравниться нудный султан со сладкой Кисайей? – прищурил глаз Сулейман, склоняя Ибрагима к простецкой игривости, в которой находил отдых от постоянного напряжения власти.
Ибрагим одним из первых при дворе узнал о неожиданном увлечении султана рабыней-роксоланкой и тревожился по поводу этого увлечения, может, даже больше, чем валиде, ибо это могло коснуться не только его дальнейшей судьбы, но и самой его жизни. Знает ли уже султан о том, что роксоланка подарена для его гарема именно им, Ибрагимом? А если еще не знает, то когда, и от кого, и как узнает? Ладно, если увлечение пройдет так же необъяснимо, как и началось, и Сулейман забудет о маленькой рабыне и не станет доискиваться, откуда она взялась в Баб-ус-сааде. А если случится непредвиденное? Если этот непостижимый человек приблизит Хуррем к себе надолго, сделает ее кадуной? До сих пор Ибрагим был в руках валиде, теперь зависел и от Хуррем. Вдруг она вспомнит, как была куплена на Бедестане, как привел ее Ибрагим в свою ложницу, как, уже отдавая в султанский гарем, пожелал увидеть ее молодое девственное тело? Как немилосердно ревнив Сулейман во всем, что касается его женщин, Ибрагим знал еще со времен Манисы. Однажды, увидев, как молодой мерин пытается залезть на кобылу, шах-заде с удивлением спросил у конюха: это случайно или у мерина в самом деле может что-то быть с кобылой.
Грубый конюх только захохотал на такую наивность принца.
– Бывает, мерин справляется лучше жеребца, бывает, и жеребец неспособен в этом деле заменить мерина.
– Но ведь он лишен пола? – не отставал шах-заде.
– Но не лишен «снасти»!
– А как же евнухи? – спросил тогда Сулейман Ибрагима, словно бы тот должен был разбираться в таких вещах лучше урожденного мусульманина.
Ибрагим пожал плечами. Но у Сулеймана голова была устроена так, что если уж в нее что-нибудь западало, то крепко и надолго. Он стал расспрашивать своего воспитателя Касим-пашу, докапываться, как кастрировали рабов в Мысре, откуда происходил этот нечеловеческий обычай при дворах персидских шахов, сельджукских султанов и его предшественников из рода Османов, а потом велел провести осмотр всех евнухов и безжалостно лишить их всего мужского, чтобы не осталось и следа. Когда Касим-паша осторожно намекнул, что не все выдержат столь тяжелое испытание, особенно евнухи пожилые, то есть самые преданные и опытные, испытанные в службе, Сулейман только покривился:
– Тем хуже для них.
То же проделал и в Стамбуле, переполовинив евнухов и в Баб-ус-сааде и при дворе. Не грозили теперь султанским женам ничем, даже малую нужду не имели чем справлять и вынуждены были носить в складках своих тюрбанов серебряные трубочки для этой цели.
Так что легко было представить, что ждало бы Ибрагима, если бы султан узнал о происхождении своей возлюбленной и о ночах, которые она провела в его доме на Ат-Мейдане. Спасение было разве в том, что рабыня надоест султану прежде, чем он станет интересоваться, как она к нему попала, или же в том – и на это надо было надеяться более всего, – что Ибрагима не выдадут ни валиде, ни сама Хуррем: одна – чтобы не быть в соучастии с греком, другая – чтобы навсегда остаться перед султаном вне всяких подозрений. Но это были все же одни только надежды, а как будет на самом деле, никто не мог знать наперед, даже сам Ибрагим, несмотря на его проницательность и остроту ума. Утешало то, что султан не изменил пока своего отношения к любимцу, значит, еще не знал ничего. Иначе бы не простил. И если не повелел бы немедленно уничтожить неверного друга, то пред царственные очи свои не пустил бы никогда и ни за что – это уж наверное.
О молодой жене Ибрагима заговорил султан тоже, видимо, неспроста.
Может, увлеченность его маленькой Хуррем была такой сильной, что не терпелось похвалиться ее красотой и прелестями, но положение султана не позволяло сделать этого даже перед Ибрагимом, и Сулейман призывал к откровенности своего любимца: пусть тоже хвалит свою Кисайю, и в тех восхвалениях отразится, как в зеркале, увлеченность султана. Для этого достаточно было бы Ибрагиму прочитать строки из Ахмеда Паши: «Локон, кокетничающий на твоей щеке, о друг мой, прекрасный павлин, распускающий крылья и перо, о друг мой…» Но в то же время заставлять султана сравнивать свою любимую с любимой его подданного (пусть и приближенного, пусть и любимца!) – не будет ли это оскорбительным для его высокого достоинства, особенно же принимая во внимание тяжелый Сулейманов характер? Султан не нуждается в свидетелях своих любовных утех, ему не нужны поверенные в его мужской страсти, женщина, которую он полюбил даже на несколько дней, для него выше всех женщин на свете, так что если уж говорить при нем о них, то разве что пренебрежительно или насмешливо.
Все эти мысли, опасения и сомнения пронеслись в голове хитрого грека так быстро, что он ответил на укор Сулеймана почти без задержки, почти мгновенно, и ответил именно так, как хотелось услышать Сулейману.
– Кисайя? – воскликнул Ибрагим, расширяя глаза, словно безмерно удивляясь напоминанию султана о какой-то там не стоящей его внимания личности. – Та дочка набитого дукатами дефтердара Скендер-челебии? Но ведь вы не поверите, ваше величество: она пахнет золотом!
– Золотом? – усмехнулся султан. – Ты сказал – золотом? Я еще никогда не слыхивал о таких женщинах. Может, амброй или мускусом?
– Да нет, именно золотом, ваше величество! Если бы я был старым и она так же стара и от нее пахло золотом, то я утешался бы мыслью, что это запах благополучия. Когда же золотом пахнет от молодой, так и знай – это уже не женщина, а лишь дочь главного дефтердара. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно – только дочь дефтердара: это опротивеет даже самому терпеливому, а я не отношусь к терпеливым, особенно в любовных утехах. К тому же она держит меня в объятиях так крепко, как держит кредитор своего должника. Разве это жизнь, ваше величество?
– Пожалуй, придется подумать о настоящей жене для такого доблестного мужчины, как ты, мой Ибрагим, – сказал султан, по всему видать, довольный сокрушенностью Ибрагима, мысленно сопоставляя свое высокое счастье с куцым счастьем своего любимца. – Но подумаем мы об этом после похода, – добавил султан, не давая Ибрагиму возможности даже поблагодарить, зато удивляя его, как умел удивлять только этот загадочный повелитель.
– После похода?! – воскликнул Ибрагим. – Ваше величество, но мы ведь никуда не отправляемся? Мы сидим в Стамбуле!
– Заветы моих предков требуют, чтобы я выполнял их волю.
Ибрагим молча смотрел на Сулеймана. Уж кто-кто, а он знал беспредельную алчность Османов и не пытался отгадать, о каком же завете султану пойдет речь на этот раз.
Султан отпил из чаши, наполненной Ибрагимом, помолчал, потом кинул коротко:
– Остров!
Объяснения были излишни. Ибрагиму слишком хорошо было известно, что ненавистным для Османов островом, дразнившим и манившим их еще со времен Мехмеда Фатиха, был Родос, неприступная крепость христианских рыцарей-иоаннитов, которые строили ее и укрепляли уже двести лет, превратив остров в приют для всех христианских кораблей, в убежище корсаров, которые терзали побережье Османской империи, нападали на корабли Порты, захватывали в рабство паломников, плывущих в Хиджаз, на поклонение святым местам, не брезгали поживой, достававшейся им с христианских судов, особенно с венецианских, – а их на море было едва ли не больше всего, так что Пресветлая Республика, когда речь заходила о рыцарях Родоса, всякий раз не могла преодолеть колебаний, считать их друзьями или врагами, принимать их сторону или присоединиться к могучим султанам.
Для Ибрагима султановы слова про остров были не только неожиданными, но и угрожающими. Замахнувшись на остров рыцарей святого Иоанна, султан как бы уничтожал те никчемные остатки личной свободы, которые Ибрагим сохранял глубоко в душе, вспоминая иногда свое детство и свой маленький остров на краю Греции, посреди теплого моря с удивительно прозрачной водой. Был рабом этих исконных сынов материка, жил среди них, приспособился к их обычаям и в то же время чувствовал себя выше них, может, благодаря своему островному происхождению. Когда же непобедимый вал жилистых османских тел зальет и острова, тогда конец его душевной независимости и неведомо в чем придется искать ему опору. Каждый человек стремится быть островом, и властители, наверное, отдают себе в этом отчет и ни за какую цену не хотят позволить людям такую неприступность и независимость.
– Ваше величество, – воскликнул Ибрагим, – я верю, что вы исполните завет ваших великих предков!
– Иначе и не может быть, – спокойно ответил Сулейман, не уловив ни малейшей неискренности в Ибрагимовом голосе, – и мы начнем готовиться к этому если не сегодня, то уже завтра. Ты первый, кому я открылся в своем намерении. Не знаю только, выпустит ли тебя из своих цепких объятий Кисайя, которая держит тебя, как кредитор должника.
Они долго смеялись над Кисайей и над самим Ибрагимом и ночь ту закончили чтением таких скабрезных стихов Джафара Челеби, что даже одной строки, услышанной султаном из чьих-либо иных уст, было бы достаточно, чтобы тот человек лишился головы. Но даже великий султан имеет право на отдых от государственных дел, и единственный человек, кому дано было об этом знать, был Ибрагим.
В походе против Родоса он оставался великим сокольничим и надзирателем покоев султанских дворцов, а также любимцем падишаха, человеком, которому была дарована честь ехать возле правого султанова стремени. Он не стал ни визирем, ни советником султана, да и не домогался этого положения, разумно уступая место уже прославленным воинам, особенно тем, кто выказал чудеса отваги на стенах Белграда. Правда, породнившись со Скендер-челебией и став еще большим другом Луиджи Грити, Ибрагим теперь мог считать себя одним из самых богатых людей Высокой Порты и охотно вкладывал и свои средства в приготовления к великому походу, уповая если и не на немедленные прибыли, как поступали Скендер-челебия и Грити, то уж на укрепление султановой благосклонности наверняка. Так что когда рубились деревья, плелись канаты, ткались полотна для парусов, ковались якоря, отливались пушки, изготовлялся порох, вялилось мясо, натягивались боевые барабаны, шились зеленые и красные стяги, то делалось все это не только на средства, выданные из султанской казны в Эди-куле, но и на средства Ибрагим-паши. Бывал теперь с султаном ежедневно. Принадлежали ему не только дни, но часто и ночи, пожалуй, страсть Сулеймана к роксоланке шла на убыль, Ибрагим одерживал очередную победу, а это стоило даже острова, всех островов его родного моря!