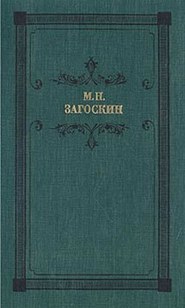 Полная версия
Полная версияИскуситель
Пока мой хозяин писал, я развернул большую рукописную книгу, которая лежала на столе: это было собрание разных изречений и выписок из духовных и философических сочинений.
– Вы смотрели мой сборник, – сказал старик, подавая мне запечатанное письмо. – В нем много есть хорошего, и если вы дадите мне слово хотя изредка посещать меня, – прибавил он с улыбкою, – то я оставлю вам в наследство эту рукопись, только с уговором: не делайте из нее мертвого капитала, а берите проценты, хоть самые маленькие, по страничке в неделю, – право, слюбится!
Мой Егор пришел доложить, что лошади готовы, я простился с хозяином, дал слово навещать его и отправился к Арбатским воротам. Дорогою Егор сказал мне, что он расспросил у старого слуги обо всем. Этот почтенный человек, мой первый московский знакомец, назывался Яковом Сергеевичем Луцким, имел полковничий чин и жил небольшим пенсионом, который получил при отставке.
– Барин-то, говорят, очень добрый, – продолжал Егор, – только глуповат немного.
– Вот вздор какой! – прервал я.
– Нет, сударь, не вздор! Его старик-слуга порассказал мне такие диковинки, что и, господи!.. Ведь ему досталось от отца и матери душ двести крестьян, да вотчины-то какие знатные!.. Так что ж? Отдал их своей двоюродной сестре да внучатному брату. У них, дескать, детей много, а я один-одинехонек, как перст! Они, дескать, меня на старости не покинут. Да! Подставляй карман! И сестрица и братец живут теперь припеваючи, а ему подчас перекусить нечего. Сначала присылали ему хлебца, круп, того-другого, да как узнали, что он все чужим людям раздает, так и полно! Что, дескать, ему давать, коли впрок нейдет? Глупому сыну не в помощь богатство. А ведь какой мотоватый! Чуть завелась лишняя копейка, так он ее и побоку! Кто ни попроси, всякому даст. То-то и есть, сударь! Дожил до седых волос, а ума-то, видно, не нажил.
Напрасно мой Егор истощал свое красноречие: я даже не потрудился сказать ему, что он врет, все внимание мое было обращено на великолепную панораму, которая постепенно развертывалась перед моими глазами. Вот город с своими бесконечными рядами, вот знаменитая Красная площадь с своим Лобным местом и дивным храмом Василия Блаженного, этим архитектурным капризом, в котором попраны все правила искусства, в котором все дико, тяжело и даже безобразно, но который, несмотря на это, поражает вас невольным удивлением. Вот безмолвные свидетели и славы и бедствий нашей родины, высокие стены Кремля, огромные башни, соборы, Иван Великий и древние чертоги царей русских. Мы въехали в Кремль Спасскими воротами. Восторг мой удвоился, когда, поравнявшись с Архангельским собором, я взглянул прямо вниз по скату Кремлевской горы: передо мной тихо струилась светлая река, направо она бушевала и пенилась под тяжелыми сводами Каменного моста, вдали за ним сверкали позлащенные главы Донской обители, еще далее подымались увенчанные рощами Воробьевы горы. Прямо за рекою расстилалось покрытое церквами обширное Замоскворечье, далеко, по изгибистому берегу реки, тянулись: стена Китай-города, огромный Воспитательный дом, и взор упирался в высокий, унизанный домами холм, у подошвы которого речка Яуза впадает в Москву-реку. Я недолго любовался этим очаровательным видом: мы спустились Боровицкими воротами на Неглинную. Боже мой! Какой переполох!.. Я заткнул нос, зажмурил глаза!.. Говорят, теперь это одна из лучших частей города. Там, где прежде мутный и зловонный ручей пробирался медленно по грязному дну заваленного нечистотою оврага, теперь цветут роскошные сады, вместо запачканных безобразных лавок, возвышаются красивые дома, выстроенный под одну кровлю железный ряд и огромнейший в мире манеж, или экзерциргауз, который, по необъятной величине своей, может назваться крытой площадью, а по изящной наружности – прекрасным и великолепным зданием.
Построенный на высоком месте против самого Кремля трехэтажный дом с бельведером[50] помирил меня опять с Москвою. Я думаю, знаменитый Петергофский водомет Самсона не столько бы удивил меня теперь, как удивлялся я тщедушным фонтанчикам, которые били из бассейнов, украшавших сад этого дома. Толпы зевак стояли у железной решетки и с немым восторгом любовались и на эти трехаршинные фонтаны колодезной воды, и на белоснежных лебедей, которые плавали или, лучше сказать, кружились на одном месте в небольших бассейнах из дикого камня. Через несколько минут мы доехали до Арбатских ворот, то есть до того места, где некогда в стене, окружавшей Белый город[51], были Арбатские ворота. Мне нетрудно было отыскать дом купца Правикова. Он принял меня очень ласково и, прочитав письмо своего приятеля, тотчас отвел мне три чистенькие комнаты, убранные весьма опрятно и снабженные всем нужным для холостого хозяйства. Яков Сергеевич Луцкий сказал правду: хозяева мои были люди истинно добрые, и я, прожив в их доме несколько месяцев, так с ними свыкся и так полюбил их, что мне и в голову не приходило искать себе другой квартиры, до тех пор, пока я не встретился с этим… Ну, воля ваша, и теперь не знаю, как его назвать! Мне не хочется, чтоб вы смеялись надо мною, любезные читатели, а назвать его человеческим именем я, право, не могу.
Здесь должен я предуведомить читателей, что первые два года и шесть месяцев, проведенных мною в Москве, не заключают в себе ничего любопытного, следовательно, о них и говорить нечего. Конечно, описания и самых обыкновенных приключений человека знаменитого имеют в себе какую-то неизъяснимую прелесть и возбуждают в высочайшей степени наше любопытство, мы с удовольствием читаем, что Фридрих Великий нюхал испанский табак, а Наполеон любил носить белое исподнее платье и не терпел духов, что лорд Байрон возил с собою петуха и обезьяну, а Вольтер принимал своих гостей в халате, – все это чрезвычайно как занимательно, но я человек самый обыкновенный, и подробное описание моего домашнего быта, образ мыслей и занятий, вероятно, не будет забавно даже и для самых снисходительных читателей, и потому, для соблюдения необходимой связи между происшествиями, я полагаю достаточным сказать только несколько слов об этих двух с половиною годах, проведенных мною в Москве. Я не успел познакомиться с Алексеем Семеновичем Днепровским, который вместе с женою отправился прямо из своей подмосковной за границу. По милости рекомендательных писем моего опекуна, я очень скоро был помещен в число чиновников, служащих в канцелярии московского главнокомандующего. Около года я жил весьма уединенно: бывал каждый день в должности, почти всегда обедал дома и очень любил ездить в театр, а особливо когда давали «Отца семейства», «Графа Вальтрона», «Эмилию Галотти»[52] и другие чувствительные драмы, в которых Плавильщиков[53] приводил меня в ужас, а Померанцев[54] заставлял плакать как ребенка. Сначала знакомых было у меня очень мало, потом число их стало умножаться приметным образом, и я к концу второго года попал в круг молодых людей, хотя принадлежащих к самому лучшему обществу, но которых правила и образ мыслей перепугали бы до смерти моего доброго опекуна. Их веселая и разгульная жизнь, их забавы, удовольствия и даже самые пороки были так пленительны, так любезны!..
Буйная компания распутной и необразованной молодежи никогда не была для меня опасною: порок в безобразной наготе своей казался для меня всегда отвратительным, но, прикрытый блестящим покровом всех светских приличий, остроумный и раздушенный, усыпанный цветами, он незаметным образом вкрадывался в мою душу. Я не имел понятия о каком-нибудь полыньковом вине и, верно бы, не отличил хорошего рома от скверной французской водки, но зато очень любил шампанское и никогда не смешивал шатомарго с лафитом[55], не стал бы ни за что проигрывать деньги на трактирном бильарде, но знал, однако ж, сколько надобно загнуть углов, чтоб поставить на десять кушей с транспортом, не гонялся под вечер на Тверском бульваре за каждым хорошеньким личиком, не заглядывал под шляпки, но, не смотря на мою любовь к Машеньке, начинал понемногу убеждаться, что верность вовсе не мужская добродетель и что для мужчины довольно и того, когда он постоянен, – одним словом, если я не привык пить шампанское как воду, не стал игроком и не сделался вовсе недостойным любви моей невесты, то, конечно, был обязан за это не столько прежнему моему воспитанию, сколько дружеским советам и наставлениям Луцкого, которого, несмотря на мою рассеянную жизнь, я посещал довольно часто.
Теперь я должен сообщить моим читателям одно письмо, которое по содержанию своему принадлежит к этой первой половине моего рассказа. Каким образом это письмо, писанное к женщине совершенно мне незнакомой, попалось мне в руки за несколько месяцев до моего отъезда из Москвы, на это отвечать может только тот, кто мне его отдал. Конечно, я догадываюсь, что ему вовсе нетрудно было достать его из шифоньерки или бюро, в котором оно хранилось – он подчас и не такие чудеса делает, – да знаю наперед, что мои догадки покажутся невероподобными, и потому советую вам, любезные читатели, потрудиться самим придумать что-нибудь и, если можно, изъяснить это естественным образом, а лучше всего вовсе об этом не думать.
Вот это письмо:
«Ах, Лиза, Лиза! Ах, друг мой!.. Что ты сделала со мною?.. Ты не хотела верить моим предчувствиям – ты называла их дурачеством, сумасшествием… Послушай! Помнишь ли ты, когда два года тому назад, гуляя с тобою в слободском саду, я рассказала тебе мой сон? Ты улыбалась, когда я говорила тебе, что этот идеал красоты, созданный моею душою, существует, что он являлся мне во сне и неизъяснимо приятным голосом шептал: «Падина, мы встретим друг друга!» Ты умирала со смеха, когда я описывала тебе его голубые, блестящие глаза, его темно-русые кудри, этот мужественный, исполненный задумчивости взор, – ты называла меня мечтательницею, и, когда Днепровский предложил мне свою руку, ты первая была за него. Ни воля отца моего, ни желание всех родных – ничто не заставило бы меня согласиться быть его женою, я не могла только устоять против тебя. «Что ты делаешь, Падина? – говорила ты мне. – Отказать человеку умному, любезному и богатому, который истинно тебя любит, и отказать ему для того только, чтоб не изменить какому-то мечтательному существу, которое ты видела во сне и с которым, без всякого сомнения, ты никогда не встретишься». Никогда – боже мой!.. Лиза, друг мой, я его видела! Да! Я его видела!.. Кто он? Куда ехал? Увижу ли его опять? Не знаю, но он существует, этот идеал, который ты называла мечтою! Мы встретились, мы нашли друг друга!
Я часто говорила тебе, что сердце мое спокойно, – ты этому радовалась. Ах, Лиза, Лиза! Спокойно! И мертвые спокойны, мой друг! Вчера оно в первый раз забилось снова в груди моей. Мой муж, отправляясь с визитом к одному из соседей, уговорил меня ехать верхом. Утро было прекрасное, но, несмотря на это, я с трудом согласилась исполнить его желание, не знаю, какое-то темное предчувствие опасности, какая-то грусть наполняла мое сердце. Вот я выехала из рощи, гляжу – на большой дороге идет шагом откидная кибитка, перед нею идет какой-то мужчина высокого роста, в дорожном платье… Увидев меня, он остановился, я стала переезжать через дорогу – взоры наши встретились… Праведный боже! Это он!.. Вот эти давно знакомые черты, этот задумчивый взгляд, эта пленительная улыбка!.. Я прочла в глазах его и удивление и радость… Казалось, он хотел что-то сказать мне… но я не остановилась, проехала мимо, и этот второй сон исчез, как первый… О, Лиза, Лиза! Я не сомневаюсь: он также искал меня – он, верно, свободен… а я!..
Прощай, мой друг! Мы послезавтра отправляемся за границу: третьего дня эта мысль приводила меня в восторг, а теперь… О, нет! Не верь мне!.. Я и теперь радуюсь этому. Думать, мечтать о нем я могу везде, но быть с ним вместе, видеть его, слышать его голос и не забыть, что я принадлежу другому, – о, это невозможно!.. Нет, Лиза, нет!.. Твоя Надина может быть несчастлива, но преступною никогда не будет».
NB. Ах, мой друг! Как хорошо написан «Остров Борнгольм!»[56] Какой слог!.. Какая истина!.. Прочти эту повесть: она разогреет и твое холодное сердце…
Законы осуждаютПредмет моей любви;Но кто, о сердце! МожетПротивиться тебе!Часть вторая
I. КОЛОМЕНСКОЕ
Нас было пятеро. Обо мне говорить нечего, но я должен сказать несколько слов о моих товарищах. Первый: сиятельный сослуживец мой, Григорий Владимирович Двинский, московский природный князь, русский не русский, француз не француз, а так, существо какого-то среднего рода, впрочем, острый малый, избалованный женщинами повеса, большой шалун, но только самого хорошего тона. Второй: Антон Антоныч фон Нейгоф, магистр Дерптского университета[57], ипохондрик, ужасный чудак, последователь мистической школы Сведенборга[58], фанатик, мечтатель, всегда живущий в каком-то невещественном мире, отъявленный защитник всех алхимиков, астрологов, духовидцев, и даже известного обманщика итальянца Калиостро[59]. Третий: капитан Архаровского полка[60], Андрей Андреевич Возницын, человек не больно грамотный, но честный, простодушный и веселый малый, и, наконец, четвертый: Василий Дмитрич Закамский, очень умный и замечательный молодой человек. Он много путешествовал и только что воротился из чужих краев, но это вовсе не расхолодило его чистую и просвещенную любовь к отечеству. Встречая дурное на своей родине, он горевал, а не радовался, не спешил указывать пальцем на каждое черное пятно и не щеголял перед иностранцами своим презрением к России. Совершенно чуждый этой исключительной и хвастливой любви к отечеству, которою гордились некогда наши предки, он любил все прекрасное, какому бы народу оно ни принадлежало, но только прекрасное свое радовало еще более его сердце, а он находил это прекрасное и в своем отечестве, потому что не искал в нем одного дурного. Одним словом, этот молодой человек, несмотря на свое европейское просвещение, вовсе не походил на этих жалких проповедников европеизма, для которых все сряду хорошо чужое и все без исключения дурно свое. Он живет теперь в моем соседстве. Сколько раз, читая вместе со мною какую-нибудь новую выходку против русских художников и писателей, он смеялся от всей души над пустословием и бессильной злобою этих грозных судей, которые стараются из-за угла забросать всех своей природной грязью. «Бедные мученики! – говорит он всегда. – Ну из-за чего они хлопочут? Их имена или исчезнут вместе с ними, или передадутся потомству как условные названия скупых и лицемеров, оставленные в наследство нашему веку бессмертным Мольером[61], который, к сожалению, не успел заклеймить никаким общим и позорным названием этих литературных трутней, оскверняющих все своим прикосновением».
Время было прекрасное, несмотря на то что дело шло уже к осени и что у нас сентябрь месяц почти всегда смотрит сентябрем, день был жаркий, на небе ни одного облачка, и самый приятный, летний ветерок чуть-чуть колебал осенний лист на деревьях, мы все согласились ехать в Коломенское[62], хотя это историческое село, которое долго почиталось колыбелью Петра Великого, не далее пяти верст от заставы, но мне не удалось еще побывать в нем ни разу. Сначала древняя церковь Вознесенья и разбросанные кое-где остатки знаменитых Коломенских чертогов, которым некогда дивились послы и гости иноземные, обратили на себя все мое внимание, но когда мы обошли временные палаты, построенные Екатериною Второй, на самом том месте, где в старину возвышались шестиярусные терема и красивые вышки любимого потешного дворца царя Алексея Михайловича[63], то очаровательный вид окрестностей села Коломенского заставил меня забыть все. Внизу, у самой подошвы горы, на которой мы стояли, изгибалась Москва-река, за нею, среди роскошных поемных лугов, подымались стены и высокая колокольня Перервинской обители; далее обширные поля, покрытые нивою, усеянные селами, рощами и небольшими деревушками. Верст на десять кругом взор не встречал никакой преграды: он обегал свободно этот обширный, ничем не заслоняемый горизонт, который, казалось, не имел никаких пределов.
– Какой очаровательный вид! – вскричал я. – Да это прелесть! И я живу третий год в Москве, а не бывал здесь ни разу?
– То-то и есть, – подхватил Возницын, – мы, видимо, все на один покрой: ездим за тридевять земель, чтоб посмотреть на что-нибудь хорошее, а не видим его, когда оно близехонько у нас под носом.
– Да неужели ты думаешь, – сказал с улыбкою князь Двинский, – что этот обыкновенный и пошлый вид в самом деле очарователен? Небольшая горка, ничтожная река, монастырь, в котором строение не греческое, не готическое, не азиатское, а бог знает какое, несколько десятин лугов и сотни две разбросанных по полю безобразных изб – ну, есть чем любоваться!.. Ох вы, господа русские!.. Вам все в диковинку!
– Русские! – повторил Возницын. – А ваше сиятельство француз, что ль?
– Не француз, а побольше вашего видел. Посмотрели бы вы Швейцарию…
– Да к чему тут Швейцария? – сказал Закамский. – И что общего между альпийскими горами и берегом Москвы-реки? Конечно, и в Саксонии множество видов лучше этого…
– Ну, вот слышите! – закричал князь.
– Да только это ничего не доказывает, – продолжал Закамский, – и в чужих краях, и в самой России есть местоположения гораздо красивее, но и этот веселый сельский вид весьма приятен, и я всякий раз им любуюсь.
– Из патриотизма! – сказал Двинский с насмешливой улыбкою.
– Да погляди кругом, князь! Разве это дурно?
– Конечно, не дурно, потому что у нас нет ничего лучше…
– Вокруг Москвы? Быть может! Но поезди по России…
– Нет, уж я лучше останусь в Москве. Послушай, фон Нейгоф, ведь ты философ, скажи: не правда ли, что из двух зол надобно выбирать то, которое полегче?
– Неправда! – отвечал магистр. – Где более зла, там более и борьбы, а где борьба, там есть и победа.
– Вот еще что выдумал! – вскричал Возницын. – А если я не хочу бороться?
– Не хочешь! Да вся наша жизнь есть не что иное, как продолжительная борьба, и, чем гениальнее человек, тем эта борьба для него блистательнее. Развитие душевных сил есть необходимое следствие…
– Бога ради! – прервал князь. – Не давайте ему говорить, а не то он перескажет нам Эккартсгаузена[64] от доски до доски.
– Не смейся, князь! – сказал Закамский. – Наш приятель Нейгоф говорит дело, да вот, например, не всю ли жизнь свою боролся с невежеством этот необычайный гений, который родился здесь в селе Коломенском?
– Неправда! – прервал Нейгоф. – Историк Миллер[65] доказал неоспоримыми доводами, что Петр Великий родился в Кремле.
– Быть может, – продолжал Закамский, – только здесь, в Коломенском, он провел почти все свое детство. Здешний садовник, Осип Семенов, рассказывал мне, что он сам частенько играл и бегал с ним по саду.
– Какой вздор! – подхватил Возницын. – Сколько же лет этому садовнику?
– Да только сто двадцать четыре года[66].
– Miséricorde![67] – закричал князь. – Сто двадцать четыре года!.. Да разве можно прожить сто двадцать четыре года?
– Видно, что можно.
– Ах, батюшки!.. Сто двадцать четыре года!.. Ну, если мой дядя… Да нет, нынче не живут так долго.
– А ты, верно, наследник? – спросил Возницын.
– Единственный и законный, – отвечал князь, вынимая свои золотые часы с репетициею. – Господа! – продолжал он. – Половина второго, теперь порядочные люди в городе завтракают, а мы в деревне, так не пора ли нам обедать?
– А где мы обедаем? – спросил Закамский.
– Разумеется, здесь, на открытом воздухе! – отвечал Возницын. – Я велел моему слуге приготовить все – вон там внизу, в роще.
– Как! В этом овраге? – сказал князь.
– Так что ж? Там гораздо лучше, здесь печет солнцем, а там, посмотрите, какая прохлада, что дерево, то шатер – век солнышко не заглядывало.
Мы все отправились за Возницыным, прошли шагов сто по узенькой тропинке, которая вилась между кустов, и не приметным образом очутились на дне поросшего лесом оврага, или, лучше сказать, узкой долины, которая опускалась пологим скатом до самого берега Москвы-реки. Колоссальные кедры, пихты, вязы и липы покрыли нас своей непроницаемой тенью, кругом все дышало прохладою, и приготовленный на крестьянском столе обед ожидал нас под навесом огромной липы, в дупле которой можно было в случае нужды спрятаться от дождя.
– В самом деле, как здесь хорошо! – сказал Двинский, садясь за стол. – Совсем другой воздух, жаль только, что эту рощу не держат в порядке: она вовсе запущена.
– А мне это-то и нравится, – прервал Нейгоф. – Не ужели вам еще не надоели эти чистые, укатанные дорожки и гладкий дерн, на котором ни одна травка не смеет расти выше другой? Признаюсь, господа, эта нарумяненная, затянутая в шнуровку природа, которую мы, как модную красавицу, одеваем по картине, мне вовсе не по сердцу, я люблю дичь, простор, раздолье…
– А эти полусгнившие, уродливые деревья также тебе нравятся? – спросил князь.
– Прошу говорить о них с почтением! – прервал Закамский. – Они живые памятники прошедшего. Быть может, под самой этой липой отдыхали в знойный день цари: Алексей Михайлович и отец его, Михаил Федорович[68], быть может, под тенью этого вяза Иоанн Васильевич Грозный беседовал с любимцем своим Малютою Скуратовым[69] и пил холодный мед из золотой стопы, которую подносил ему с низким поклоном будущий правитель, а потом и царь русский, Борис Годунов[70].
– Все это хорошо, – сказал князь, принимаясь за еду, – а попробуйте-ка этот паштет: он, право, еще лучше.
Когда мы наелись досыта и выпили рюмки по две шампанского, фон Нейгоф закурил свою трубку, а мы все улеглись на траве и начали разговаривать между собою.
– Закамский! – сказал князь. – Знаешь ли, кого я вчера видел, – отгадай!
– Почему мне знать? Ты знаком со всей Москвою.
– Как она похорошела, как мила! Она спрашивала о тебе, и даже очень тобою интересовалась. Ты, верно, к ней поедешь?
– Непременно, если ты скажешь, кто она.
– Отгадай, ты виделся с нею в последний раз два года тому назад… Мы оба познакомились с нею в Вене… Ее зовут Надиною… Ну, отгадал?
– Неужели?.. Днепровская?..
– Она.
– Так она приехала из чужих краев? Давно ли?
– Около месяца. Помнишь в Карлсбаде[71] этого англичанина, который влюбился в нее по уши?
– Как не помнить.
– Помнишь, как он каждое утро являлся к ней с букетом цветов?
– Который она всякий раз при нем же отдавала мужу.
– Бедный Джон-Бул[72] чуть-чуть не умер с горя.
– Мне помнится, князь, и ты был немножко влюблен в эту красавицу.
– Да, сначала! Но это скоро прошло. Целых две недели я ухаживал за нею, потом мы изъяснились, и она…
– Признала тебя своим победителем?
– Нет, Закамский, предложила мне свою дружбу.
– Бедненький!
– Да! Это была довольно грустная минута.
– И ты не взбесился, не сошел с ума, не заговорил как отчаянный любовник?
– Pas si bête, mon cher![73] Я не привык хлопотать из пустого.
– Ага, князь! Так ты встретил наконец женщину, которая умела вскружить тебе голову и остаться верною своему мужу.
– Своему мужу! Вот вздор какой! Да кто тебе говорил о муже?
– Право! Так это еще досаднее. И ты знаешь твоего соперника?
– О, нет! Я знаю только, что она скрывает в душе своей какую-то тайную страсть, но кого она любит, кто этот счастливый смертный, этого я никак не мог добиться. А надобно сказать правду, что за милая женщина! Какое живое, шипучее воображение! Какая пламенная голова! Какой ум, любезность!.. В Карлсбаде никто не хотел верить, что она русская?
– Постойте-ка! – сказал я. – Днепровская?.. Не жена ли она Алексея Семеновича Днепровского?
– Да! А разве ты его знаешь?
– У меня есть к нему письмо от моего опекуна.
– Теперь ты можешь отдать его по адресу.
– Не поздно ли? Оно писано с лишком два года назад. Да и к чему мне заводить новые знакомства? Я и так не успеваю визиты делать.
– Что, Нейгоф, молчишь? – сказал Закамский. – Я вижу, ты любуешься этими деревьями?
– Да! – отвечал магистр, вытряхивая свою трубку. – Я люблю смотреть на этих маститых старцев природы: ожившие свидетели давно прошедшего, они оживляют в моей памяти минувшие века, глядя на них, я невольно переношусь из нашего прозаического века, в котором безверие и положительная жизнь убивает все, в эти счастливые века чудес, очарований – пленительной поэзии…
– И немытых рож, – подхватил князь, – небритых бород, варварства, невежества и скверных лачуг, в которых все первобытные народы отдыхали по уши в грязи, если не дрались друг с другом за кусок хлеба.
– Не правда ли, Закамский, – продолжал Нейгоф, не обращая никакого внимания на слова Двинского, – здесь можно совершенно забыть, что мы так близко от Москвы? Какая дичь! Какой сумрак под тенью этих ветвистых дерев! Я думаю, что заповеданные леса друидов[74], их священные дубравы, не могли быть ни таинственнее, ни мрачнее этой рощи.
– Я видел в Богемии, – сказал Закамский, – одну глубокую долину, которая чрезвычайно походит на этот овраг, она только несравненно более и оканчивается не рекою, а небольшим озером. Тамошние жители рассказывали мне про эту долину такие чудеса, что у меня от страха и теперь еще волосы на голове дыбом становятся. Говорят, в этой долине живет какой-то лесной дух, которого все записные стрелки и охотники признают своим покровителем. Он одет егерем, и когда ходит по лесу, то ровен с лесом.

