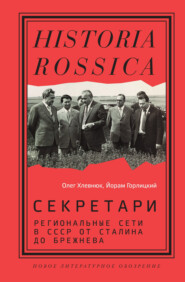
Полная версия:
Секретари. Региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева
В конечном счете для оценки реального отношения центра к положению на местах определяющее значение имели повседневные практики контроля и взаимодействия с секретарями. Они же в первые послевоенные годы скорее свидетельствовали о том, что Москва требовала от секретарей результаты, не обращая особого внимания на методы их достижения. Хотя создание Управления по проверке партийных органов имело черты усиления централизации, другие решения, принимаемые в этот же период, можно трактовать как тенденции противоположного свойства. Например, в связи с созданием Управления по проверке партийных органов встал вопрос о целесообразности сохранения института уполномоченных Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), которые к апрелю 1947 года работали в 50 областях и краях РСФСР, четырех областях Украины и семи союзных республиках – Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане[205]. 21 апреля 1947 года эта структура была ликвидирована. Такой размен – расширение московских структур ЦК ВКП(б), надзирающих за регионами, вместо аппарата уполномоченных КПК – был выгоден местным руководителям. В отличие от чиновников аппарата ЦК уполномоченные КПК постоянно находились в регионах, были в силу этого лучше осведомлены о делах на подведомственных им территориях и нередко стремились занять лидирующие позиции в региональных руководящих сетях. По этим причинам между региональными секретарями и уполномоченными КПК нередко вспыхивали конфликты[206]. Можно не сомневаться, что ликвидацию института уполномоченных КПК региональные руководители встретили с одобрением.
Создание Управления по проверке партийных органов не привело также к заметным строгостям в кадровых вопросах. Даже в отношении тех секретарей, которые подвергались критике во внутренних документах аппарата ЦК за неправильные методы работы, проявлялась заметная терпимость[207]. Хорошим примером этого может служить ситуация вокруг первого секретаря Калужского обкома партии И. Г. Попова[208].
Попов был назначен в Калугу с момента организации области в июле 1944 года переводом с должности ответственного организатора ЦК ВКП(б). Осенью 1944 года этот преимущественно сельскохозяйственный регион выполнил план сельскохозяйственных заготовок, что было записано Попову в актив. Однако вскоре Попов проявил себя как грубый администратор, который подавлял окружавших его работников, включая и секретарей обкома. В августе 1945 года ответственный организатор организационно-инструкторского отдела ЦК, который занимался Калужской областью, направил своему руководству первый сигнал о «неправильном стиле и методах руководства» Попова[209]. В апреле 1946 года тот же чиновник направил очередную записку по этому вопросу Н. С. Патоличеву, недавно назначенному заведующим организационно-инструкторским отделом. В ней говорилось о плохом положении дел в Калужской области, о массовых приписках и о материальных злоупотреблениях Попова, который занял под свое жилье лучший дом в центре города, выселив из него горком партии[210]. В мае 1946 года в ЦК поступило письмо от корреспондента «Правды», который также сообщал о скандальной истории с захватом здания горкома и о том, какой негативный отклик это имеет в полуразрушенной Калуге[211].
В июле 1946 года карьера Попова, казалось, висела на волоске. В Калугу выехала бригада сотрудников ЦК, которая выявила многочисленные злоупотребления, в связи с чем был снят с должностей ряд руководителей сельскохозяйственных органов, входивших в непосредственное окружение Попова. Более того, в материалах комиссии содержался вывод о том, что Попов не в состоянии обеспечить руководство областью[212]. В том же июле председатель Калужского облисполкома пробился на прием к секретарю ЦК А. А. Кузнецову и пожаловался ему на «неправильные методы руководства» Попова и его плохое отношение к руководящим кадрам[213]. В область со специальным заданием был послан ответственный организатор Управления кадров ЦК, который подтвердил истинность всех обвинений и вновь порекомендовал снять Попова[214].
Однако все эти обвинения против Попова не привели к его смещению. Более того, в 1947 году он добился отзыва из области уполномоченного КПК и второго секретаря обкома, которые пытались сопротивляться Попову, а также поставил вопрос о снятии председателя облисполкома[215]. Поскольку обстановка в калужском руководстве не улучшалась, с августа 1947 года в Управлении кадров ЦК начали готовить новые предложения о снятии Попова. В проектах записок по этому вопросу, составленных на имя секретарей ЦК, отмечалась плохая работа сельского хозяйства и промышленности области, недостатки Попова как руководителя, не сумевшего наладить отношения с другими областными работниками. В качестве замены Попову назывались разные кандидатуры[216]. В декабре 1947 года руководство Управления кадров в общей записке на имя А. А. Кузнецова сформулировало свои предложения по поводу Попова. Его обвинили в плохом руководстве хозяйством области, а также в создании «нездоровых отношений» со многими работниками, «что серьезно сказывается на работе обкома ВКП(б)», и предложили снять с должности[217].
На этот раз сам Попов помог своим критикам в Москве. Видимо, уверовав в свою безнаказанность, он совершил серьезное правонарушение. 14 декабря 1947 года, в период проведения денежной реформы, с помощью начальника областного управления сберкасс Попов задним числом оформил вклад на себя, своего брата и сына на значительную сумму с целью сохранения денег при обмене старых купюр на новые[218]. 13 марта 1948 года Политбюро исключило Попова из партии[219]. Таким образом, для снятия Попова понадобилось почти полтора года и серьезное нарушение закона с его стороны. Впрочем, номенклатурная система удержала Попова на плаву. Вскоре он был отправлен на работу директором швейной фабрики в г. Чкалов, в 1950 году был назначен председателем Чкаловского областного комитета радиоинформации, а затем занимал в Чкалове другие руководящие должности[220].
Терпимость к недостаткам секретарей проявлялась не только в РСФСР, но и в других республиках. Например, несмотря на громкий скандал в начале 1948 года, как говорилось ранее, сохранил свое место первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Юсупов. Долгое время продолжали работать пять секретарей обкомов Украины, которых Управление кадров ЦК предлагало заменить во второй половине 1947 года[221], и т. д.
Все эти инциденты и промедления, несмотря на свою показательность, имели все же сравнительно частный характер. Однако летом 1948 года произошли события, которые можно считать символом послевоенной «секретарской вольности» и мягкой региональной политики Москвы.
В мае 1948 года на основании решения Совета Министров СССР Министерство госконтроля СССР начало ревизию финансово-хозяйственной деятельности Совета Министров Азербайджана[222]. Причиной ревизии являлись многочисленные сигналы о злоупотреблениях, приходившие из этой республики. Прибыв в Азербайджан с существенной порцией материалов о коррупции, контролеры из Москвы выявили многочисленные злоупотребления. Речь шла о воровстве чиновников, строительстве дач за государственный счет и т. д. Одними из наиболее скандальных были злоупотребления со стороны заместителя председателя Совета Министров Азербайджана А. М. Азизбекова. Еще в 1944 году он приобрел в личную собственность 3,5 га земли и построил за государственные средства дом. На даче Азизбеков организовал хозяйство, продукция которого реализовывалась через государственные магазины, а деньги поступали на его личный счет[223].
Осознавая нависшую над ним угрозу, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Багиров начал контратаку, используя при этом любые способы для компрометации самих контролеров. Подручные Багирова организовали для руководителя группы контролеров, заместителя министра государственного контроля, свидания с женщинами, которые скрыто фотографировали[224]. Собранные компрометирующие материалы Багиров послал Сталину. Сталин приказал организовать проверку, для чего была создана комиссия. В нее наряду с членами Политбюро вошли Багиров и министр государственного контроля Л. З. Мехлис[225].
Судя по выводам комиссии, Сталин дал указание поддержать Багирова. Причем сделано это было в демонстративной форме. Сравнительно частный конфликт послужил поводом для существенной реорганизации деятельности Министерства государственного контроля. 30 июля 1948 года Политбюро при участии Сталина и Багирова[226] приняло постановление, в котором говорилось, что проверка в Азербайджане была организована неправильно, что «министр госконтроля СССР т. Мехлис без всякой нужды… придал ревизии большой размах» и что «ревизия носила тенденциозный характер». Центральным пунктом обвинений против московских контролеров было то, что «они проявили особую заботу к „жалобщикам“, игнорируя в то же время ЦК КП(б) Азербайджана, в результате чего имел место поток всякого рода заявлений и обращений в Госконтроль со стороны сомнительных лиц». Особое значение имел тот факт, что в связи со скандалом в Азербайджане Политбюро приняло решение, существенно ограничивающее права Министерства госконтроля при проведении проверок ведомств и регионов[227]. Это было тем более показательно, что в 1940 году создание Наркомата госконтроля и наделение его широкими полномочиями произошло именно по инициативе Сталина[228]. Хотя в упомянутом постановлении от 30 июля 1948 года содержалось некоторое количество обвинений в адрес азербайджанских властей, в целом результаты разбирательства в Москве правильнее рассматривать не как компромисс, а как победу Багирова над могущественным министром госконтроля.
Закрепляя эту победу, 24 сентября 1948 года бюро ЦК КП(б) Азербайджана приняло постановление «Об анонимных заявлениях на руководящих партийных и советских работников в Азербайджанской ССР». В нем утверждалось, что возросший поток анонимных заявлений и жалоб был результатом злонамеренной деятельности группы «нечистоплотных и вражеских элементов». Прокурору республики и министру юстиции было поручено в десятидневный срок закончить следствие по делам клеветников, организовать над ними показательные судебные процессы с публикацией приговоров в печати. Карательным органам республики вменялось в обязанность и в дальнейшем бороться с клеветниками, «привлекая их к самой суровой ответственности»[229]. Воспользовавшись благоприятной ситуацией, Багиров расправлялся с недовольными и запугивал действующих и потенциальных критиков. Такие действия – прямой результат «умеренной» региональной политики Сталина – наблюдались и в других местах.
По какой причине послевоенный период отмечен распространением авторитарного типа руководителей и присущих им практик управления? Немалую роль, несомненно, играл опыт войны, а также трудности послевоенного восстановления в условиях голода и холодной войны, растущих экономических планов и требований, выдвигаемых центром. Жесткие административные меры и репрессии были в этих условиях привычным и фактически единственным из проверенных на практике способов решения многочисленных задач. Периодически критикуя административные перегибы и грубость секретарей, центр тем не менее исходил из приоритетов достижения целей. Обычный для системы централизованный контроль над регионами сочетался с уступками секретарям и терпимостью к местным злоупотреблениям, если они не выходили за некоторые, впрочем не очень четко очерченные, пределы.
Действуя в таких обстоятельствах, секретари широко применяли методы авторитарного контроля (административное давление, увольнения и аресты) в отношении низовых работников. Сценарии авторитарного разделения власти в руководящих группах регионального уровня подразумевали более тонкие формы воздействия. Самыми распространенными среди них были компромат, неформальное исключение, внеочередные повышения. Фиксируя наличие и характерные черты таких способов манипулирования сетями, мы, конечно, не можем оценить степень их распространенности и соотношение между ними в точных цифрах. Из известных примеров следует, что секретари обращались к этим практикам как по отдельности, так и в их совокупности. Но само по себе их применение было основой регионального авторитаризма.
Выполняя задачи консолидации и подчинения сетей секретарям, авторитарные методы были тем не менее обоюдоострым оружием. Использование компромата или внеочередные повышения могли способствовать укреплению сети, но в то же время вызвать обвинения в сокрытии компрометирующей информации (если секретарь не пускал ее в ход, а использовал как потенциальную угрозу) или протекции. Следствием неформального исключения работников номенклатуры могли стать жалобы и нежелательное вмешательство центра. Таким образом, применение, тем более чрезмерное применение, каждого из этих методов было чревато рисками. Однако, не прибегая к ним, секретари не имели возможности укрепить свои сети и консолидировать свое влияние.
Глава 3
Сдержки и противовесы
Когда Н. С. Патоличева как первого секретаря обкома перевели из Ярославля в Челябинск, его, как отмечает один комментатор, «никто не спрашивал заранее; он просто получил по телефону приказ на следующий день явиться в Кремль»[230]. Такой подход к назначениям опирался на общепризнанные номенклатурные правила. Они позволяли центру достаточно жестко контролировать перемещения значительной части республиканских и региональных руководителей, однако не предоставляли возможности в такой же степени проникать в глубины местных сетей, где номенклатурная политика получала свои реальные очертания.
Советская система решала эту проблему посредством контролируемого делегирования полномочий. Получателями таких полномочий были прежде всего первые секретари региональных партийных комитетов. В свою очередь, их действия, как мы видели, опирались на различные институты: сбор информации, исключения из партии, социальные исключения, создание собственных кадровых сетей. Впрочем, в институциональной картине советской системы партийные секретари имели на руках не все карты. Они могли столкнуться с вызовом в своей среде, с конфликтующим и амбициозным ближним кругом сотрудников, особенно если они чувствовали слабости секретаря и были готовы ими воспользоваться. Партийный аппарат представлял собой ядро многослойной, хотя и взаимосвязанной властной структуры, охватывавшей многочисленные организации. Министерства и крупные предприятия распоряжались ресурсами, государственные учреждения исполняли административные функции, госбезопасность осуществляла надзор и репрессии. В некоторых случаях даже самый опытный первый секретарь мог столкнуться с противодействием со стороны местных акторов, чьи институты и ресурсы подчинялись ему не в полной мере.
Мы изучаем этих акторов, исходя из того, что основу их влияния составляли не только активы, находившиеся в их распоряжении, но и тесное сотрудничество с региональными руководителями. И те и другие оценивались по одинаковым критериям выполнения планов и указаний центра, а значит, нуждались друг в друге. Более того, в некоторых случаях партийные секретари в этом взаимодействии вынужденно принимали правила, ограничивающие их возможности, больше обычного считаясь с интересами экономических ведомств и предприятий.
Не был абсолютно послушной и лояльной массой актив – многочисленные низовые руководители различных структур местной власти. Акции отдельных «возмутителей спокойствия», писавших жалобы в центр, периодически дополнялись коллективными демонстрациями протестов. Местные чиновники использовали, например, формальные механизмы тайного голосования на партийных выборах, позволявшие посылать в Москву сигналы о своем недовольстве действиями высших региональных руководителей. Руководство страны поощряло такие механизмы обратной связи, видя в них институциональные сдержки, позволяющие оценить эффективность региональных лидеров, а также контролировать их. Еще более серьезные последствия для секретарей могло иметь неповиновение ближайшего окружения, если оно играло на слабостях своего формального лидера и предпочитало неформальные способы усиления собственного влияния.
В совокупности такие институты местной власти создавали сдержки и противовесы потенциальным или реальным устремлениям секретарей к единовластию и жесткому подчинению местной номенклатуры. Эти тенденции нет оснований как переоценивать, так и игнорировать. В совокупности они закладывали некоторые предпосылки для изменений, постепенно происходивших внутри преобладающей модели региональных диктатур сталинского периода.
Конкурентное окружение
Изучение факторов, ограничивающих власть и влияние секретарей на местах и затрудняющих превращение их в полноценных автократов, целесообразно начать с анализа феномена оспариваемых секретарей – секретарей, которые так или иначе подчинялись своему ближайшему окружению. И хотя этот феномен не был широко распространенным, он тем не менее демонстрировал важные тенденции развития сетей и представлял потенциальную угрозу единоначалию, которая исходила от руководящей региональной группы (бюро обкома) – в том случае, если она по разным причинам не признавала авторитет и силу первого секретаря. Справки отделов ЦК ВКП(б), контролировавших регионы, описывают несколько таких ситуаций в послевоенный период.
В феврале 1946 года ответственный организатор организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б) Л. М. Энодин, докладывая секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову о результатах своей командировки в Ростовскую область, сосредоточился на критике «либерализма» первого секретаря обкома П. И. Александрюка. В записке говорилось, что Александрюк всячески тормозит вынесение взысканий в отношении ряда провинившихся работников, а также нерешителен в руководстве:
Бюро обкома партии проходит неорганизованно. Во время заседаний бюро работники аппарата обкома устраивают беспрерывное хождение, раздаются многочисленные реплики в адрес докладчиков и выступающих со стороны членов бюро обкома и присутствующих. Все курят. Между тем, т. Александрюк безучастно относится к происходящему на бюро и не пытается навести порядок. На заседания бюро т. Александрюк приходит с опозданием. Причем, часто бюро обкома руководит второй секретарь т. Пастушенко, а т. Александрюк сидит в стороне, словно посторонний человек. Его выступления не отличаются заостренностью, не содержат анализа обсуждаемого вопроса… Как правило, т. Александрюк ограничивается пересказыванием уже сказанного предыдущими членами бюро, общими словами, вроде: «Надо сделать, выполнить. Так дальше работать нельзя. Нас за это не похвалят. Надо выполнять указания обкома, работать лучше. Видимо, вы хотите и дальше тянуть дело» и т. д.
Энодин сообщал также, что Александрюк часто уступает другим членам бюро, ему «ничего не стоит внести свое предложение и поспешно отказаться от него, если кто-нибудь из членов бюро не согласится с ним». Так, на заседании бюро 30 декабря 1945 года Александрюк внес предложение сделать указание уполномоченному Наркомата заготовок одного из районов области. Однако второй секретарь обкома партии заявил, что он не согласен и считает необходимым объявить выговор. Александрюк немедленно сдал свои позиции: «Я ведь не настаиваю на своем предложении, я внес его, чтобы обсудить. Давайте обсудим, давайте ваши предложения. Пожалуй, можно согласиться, объявим выговор, возражений нет? Принято». 18 января 1946 года Александрюк предложил снять с должностей и объявить выговоры некоторым руководителям одного из заводов. Однако, столкнувшись с возражениями третьего секретаря обкома, он отказался от своего предложения: «Я же не сказал, что мое предложение окончательное». Второй секретарь обкома, по сообщению Энодина, характеризовал своего шефа так: «Петр Ильич у нас очень мягкотелый человек»[231].
Эти колоритные зарисовки московского инспектора подводили к очевидному выводу, сделанному в его записке: Александрюка нужно снимать с должности. Маленков поддержал это мнение и дал поручение готовить замену. Однако процесс этот, что бывало нередко, затянулся. В справке, составленной в аппарате ЦК ВКП(б) в 1947 году, вновь говорилось о том, что, несмотря на свои положительные качества, Александрюк «не охватывает всего объема работы в такой большой и сложной области, какой является Ростовская область». «В отношении к работникам, – говорилось в этом документе, – т. Александрюк обычно прост и общителен. Но он не проявляет достаточной твердости и прямоты в своих требованиях к руководителям. В его действиях наблюдается инертность, недостаток инициативы при решении хозяйственно-политических задач. Он нередко обходит острые вопросы и медленно реагирует на сигналы о недостатках в работе партийных организаций». В вину Александрюку, в частности, ставилось попустительство действиям секретарей Новошахтинского и Шахтинского горкомов ВКП(б) и хозяйственных руководителей, которые расходовали государственные средства и материалы на строительство собственных домов. В течение пяти месяцев обком «тянул рассмотрение дела о неправильном расходовании премиальных средств на Северо-Кавказской железной дороге», защищая начальника дороги, который был членом бюро обкома[232].
Итак, судя по приведенным характеристикам, Александрюк принадлежал к типу оспариваемого секретаря, высшее образование которого (в 1931 году закончил Кубанский пединститут по специальности преподаватель политэкономии) сочеталось с относительной мягкостью характера. Не закалил Александрюка даже значительный опыт работы в аппарате в экстремальных условиях. На руководящую работу в Ростовскую область он попал в 1933 году, в период страшного голода, поразившего в числе прочих и этот регион. Причем карьеру он начинал в политотделах МТС, чрезвычайных органах управления, которые жесткими, преимущественно репрессивными методами усмиряли деревню после голода. В годы войны Александрюк работал третьим, а затем вторым секретарем Ростовского обкома. На пост первого секретаря Ростовского обкома был назначен в сентябре 1944 года в 40-летнем возрасте[233].
Александрюк был освобожден от должности в августе 1947 года с благоприятной формулировкой: «отозван в распоряжение ЦК ВКП(б)». Вместо него был назначен «сильный секретарь» – Н. С. Патоличев, который, как уже говорилось, делал в послевоенные годы стремительную карьеру. Александрюк был назначен вторым секретарем в Рязанский обком. Несомненно, учитывая свой печальный опыт в Ростове, Александрюк попытался на новом месте вести себя более жестко. Но и здесь не прижился. Через восемь месяцев после прибытия в область на партийной конференции его обвинили, с одной стороны, в недостаточной активности, а с другой – в высокомерии и грубости в отношении районных работников. В ходе тайного голосования при избрании в состав обкома он получил 53 голоса против (13 % голосовавших)[234]. Это обстоятельство, несомненно, сыграло свою роль в том, что вскоре Александрюка отправили на учебу в Москву. В 1950 году он был назначен в аппарат ЦК ВКП(б), а затем в течение нескольких лет занимал руководящие посты в Центральном союзе потребительских обществ СССР[235].
К категории оспариваемых секретарей, судя по информации, имеющейся в документах ЦК ВКП(б), принадлежал также руководитель Смоленского обкома ВКП(б) Д. М. Попов. В октябре 1947 года в Управлении кадров ЦК ВКП(б) для секретаря ЦК А. А. Кузнецова[236] была подготовлена записка, в которой систематизировались наблюдения работников Управления за деятельностью Попова, который занял этот пост в 40-летнем возрасте в 1940 году. Отдавая должное Попову («активный партийный работник, политически грамотный, имеет хорошую теоретическую подготовку, знает хозяйство и руководящие кадры области, в парторганизации и среди трудящихся пользуется авторитетом»), сотрудники Управления кадров докладывали также о его недостатках. Они отмечали отсутствие у Попова необходимых «организационных способностей», «решительности», требовательности к подчиненным. Попов знал, что ряд секретарей обкома и руководителей облисполкома плохо работали, но не ставил вопрос об их замене. Принятые обкомом решения часто не выполнялись. При обсуждении ряда вопросов на заседаниях бюро обкома между секретарями обкома возникали «длительные споры и разногласия». При этом Попов в некоторых случаях оставался в меньшинстве[237]. Общий вывод записки звучал так:
Имеет слабые организационные способности, нетребовательный, излишне доверчив, нерешителен, в работе проявляет вялость. Несмотря на то, что т. Попов на руководящей партийной работе находится уже длительное время, чувствуется, что он больше преподаватель, чем организационный работник[238].
Обвинения в «мягкости» предъявлялись Попову несмотря на то, что еще в апреле 1947 года Управление кадров ЦК ВКП(б) подвергло Смоленский обком критике за большую текучесть руководящих работников. В течение 1946 года в области сменилось 30 % из 2 тысяч функционеров, входивших в номенклатуру обкома, в том числе 52 % секретарей райкомов ВКП(б), 76 % председателей райисполкомов, 39 % председателей колхозов. Многие из этих работников снимались за плохое выполнение обязанностей, а некоторые даже отдавались под суд[239]. Причины такого парадоксального поведения «слабого секретаря» могли быть разными. Не исключено, например, что массовые увольнения низовых работников были результатом отсутствия единоначалия на областном уровне и рассредоточения полномочий на применение репрессивных мер между значительным кругом руководителей.

