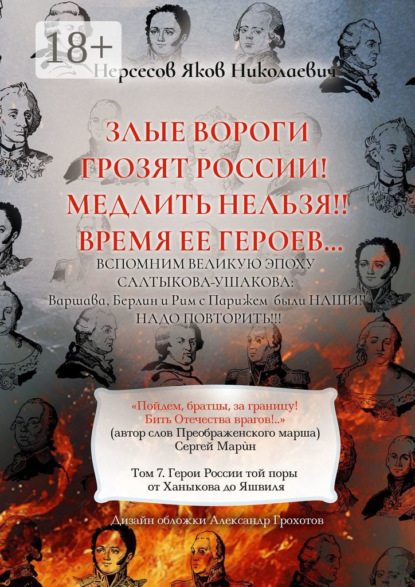
Полная версия:
Злые вороги грозят России! Медлить нельзя!! Время ее героев… Том 7. Герои России той поры от Ханыкова до Яшвиля
Получил превосходное образование.
13 ноября 1813 г. поступил на военную службу с назначением в Арзамасский конно-егерский полк.
В составе 2-й бригады 1-го конно-егерской дивизии принял участие во Французской кампании 1814 г.
13 марта 1814 г. – поручик, состоял адьютантом при генерал-майоре Иване Алексеевиче Хрущове, сражался при Лаоне, Фер-Шампенуазе и при взятии Парижа.
1 июля 1816 г. – адъютант командира 4-го резервного кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта графа Павла Петровича Палена 2-го.
В августе 1816 г. определён с чином корнета в лейб-гвардии Гусарский полк.
13 ноября 1820 г. – поручик гвардии.
2 февраля 1819 г. – ротмистр.
13 ноября 1820 г. – адъютант командира Гвардейского корпуса генерал-адьютанта Иллариона Васильевича Васильчикова.
1 января 1821 г. прикомандирован в качестве адьютанта к начальнику Главного штаба генералу от инфантерии князю Петру Михайловичу Волконскому.
…Кстати, с 1825 г. он был женат на Елене Григорьевне Строгановой (1800—1832), от которой имел пятерых детей: Александра (1827—1898), Григорий (1828—1884), Михаил (1829—1905), Елена (1830—1891) и Софья (1832—1837)…
1 января 1825 г. возвратился в полк.
28 января 1826 г. – полковник.
27 ноября 1826 г. – адъютант Великого князя Михаила Павловича.
Принимал участие в русско-турецкой войне 1828—29 г., отличился при взятии крепости Браилов.
Участвовал в подавлении Польского восстания 1831 г..
1 января 1833 г. перешёл в гражданскую службу с переименованием в действительные статские советники и назначением шталмейстером Двора Его Императорского Величества, состоял членом Комитета о коннозаводстве, Попечительного совета заведений общественного призрения в Санкт-Петербурге и попечителем Александринского сиротского дома.
22 октября 1834 г. – почётный член Демидовского дома призрения трудящихся.
21 декабря 1836 г. – почётный опекун Санкт-Петербургского Опекунского совета.
12 апреля 1837 г. – управляющий Мариинским сиротским отделением при Соборе всех учебных заведений.
1 ноября 1838 г. – член комитета Главного Попечительства детских приютов.
20 апреля 1840 г. – шталмейстер Двора Его Императорского Величества.
С 1848 по 1856 г.– управляющий Московской детской больницей.
Умер кавалер орд. Св. Георгия IV-го кл. (1 декабря 1835 г.), Св. Анны 4-й ст. (12 февраля 1814 г.), Св. Владимира 4-й ст. с бантом (18 марта 1814 г.), Св. Анны 2-й ст. (1827 г.), Св. Владимира 3-й ст. (1829 г.), Св. Анны 1-й ст. (5 декабря 1835 г.), Св. Станислава (1833 г.), а также Золотой сабли «За храбрость» (1831 г.) 6 февраля 1865 г. в Москве в возрасте 67 лет.
Чертков, Николай Дмитриевич
(1794—1852) – генерал-лейтенант (8 ноября 1845 г.).
…Он – младший брат – полковника Александра Дмитриевича Черткова (1789—1858)…
Происходил из старинного дворянского рода, известного с XVI-го века. Родился 18 июля 1794 г. в Воронеже в семье предводителя губернского дворянства Дмитрия Васильевича Черткова (1758—1831) и его супруги Авдотьи Степановны Тевяшовой (1770—1827).
Получил превосходное образование.
В 1813 г. поступил на военную службу с назначением в резервный эскадрон Александрийского гусарского полка.
24 декабря 1813 г. присоединился к действующей армии.
Под командой полковника Андрея Александровича Ефимовича участвовал во Французской кампании 1814 г., отличился в сражениях при Бриенне и Фер-Шампенуазе.
В 1815 г. принимал участие во Втором походе во Францию.
После возвращения в Россию определён в лейб-гвардии Кавалергардский полк.
В 1819 г. – ротмистр.
В 1820 г. переведён с чином подполковника в Ольвиопольский гусарский полк.
Принимал участие в русско-турецкой войне 1828—29 г., состоял адьютантом при генерал-фельдмаршале Иване Фёдоровиче Паскевиче, награждён чином полковника с назначением командиром Тверского драгунского полка.
В 1834 г. вышел в отставку с производством в генерал-майоры.
В 1836 г. пожертвовал 1. 500 000 рублей ассигнациями и тысячу душ крестьян на строительство в Воронеже кадетского корпуса, после чего был назначен состоять при Главном начальнике Военно-учебных заведений Великом князе Михаиле Павловиче и получил почётную должность попечителя корпуса.
При торжественном открытии Воронежского кадетского корпуса 8 ноября 1845 г. произведён в генерал-лейтенанты.
Умер обладатель орд. Св. Владимира 3-й ст. (1830 г.), Св. Владимира 2-й ст. (1836 г.) и Св. Анны 1-й ст. (1845 г.) 14 ноября 1852 г. в Санкт-Петербурге в возрасте 58 лет.
Похоронен в церкви Святого Духа Александро-Невской лавры.
Чеченский, Александр (Али) Николаевич
(1780—1834) – генерал-майор (30 августа 1822 г.).
Родился в родовом селе шейха Мансура Алды в Чечне (мать Рахимат умерла при родах).
В 1787 г. его отец Алхазур был убит при обороне аула от российских войск, после чего мальчик был взят на воспитание подпоручиком, будущим генералом от кавалерии Николаем Николаевичем Раевским (1771—1829) и окрещён Александром Николаевичем Чеченским, воспитывался в селе Каменке на Украине.
Образование получил в Московском Университете.
В 1794 г. поступил на военную службу вахмистром Нижегородского драгунского полка в Кизляре.
Принимал участие в боевых действиях против персов на Каспии и в Кабардинском походе.
В 1796 г. – прапорщик.
В 1804 г. – подпоручик.
В 1805 г. переведён в Гродненский гусарский полк.
Принял участие в кампаниях 1805—07 г. против французов, отличился в сражениях при Гутштадте, Аккендорфе, Пассарге и Эйлау.
В 1811 г. уволен от службы «за болезнею с мундиром».
С началом Отечественной войны 1812 г. возвратился к активной службе с назначением командиром 1-го Бугского казачьего полка в составе кавалерийского корпуса Матвея Ивановича Платова, сражался при Смоленске и Бородино.
11 сентября 1812 г. вместе со своим полком присоединился к отряду Дениса Васильевича Давыдова, сражался при Вязьме, Смоленске, Гродно и Вильно.
В ходе Саксонской кампании 1813 г. отличился в сражении при Калише.
9 марта 1813 г. взял без боя Дрезден.
Из доклада Дениса Давыдова генерал-майору Сергею Николаевичу Ланскому: «Вчерашнего числа я сделал сильную рекогносцировку в окрестностях города Дрездена. Ротмистр Чеченский, предводительствовавший Бугским полком, с известною его храбростью атаковал неприятеля и гнал его до города, и вогнал за палисады».
Отличился в сражениях при Рейхенбауме, где пленил подполковника, двух офицеров и около 100 нижних чинов, а также полковое знамя, при Бауцене и Люцене, награждён чином подполковника с назначением командиром лейб-гвардии Гусарского полка, захватил без боя Оснабрюк, сражался при Лейпциге, после чего командирован в Северный Брабант, где, объединившись с тремя казачьими полками, взял штурмом крепость Бреда.
В 1814 г. участвовал в штурме Суассона, сражался при Лаоне, где получил ранения в руку и ногу, но не оставил строя, отличился при штурме Парижа, произведён в полковники.
После окончания боевых действий служил в Царском Селе.
В январе 1816 г. – командир Литовского уланского полка.
30 августа 1822 г. произведён в генерал-майоры с назначением состоять при начальнике 2-й гусарской дивизии.
В 1824 г. уволен «в отпуск к Карлсбадским минеральным водам до излечения с производством жалованья и с отчислением из кавалерии».
…Кстати, он был женат на Екатерине Ивановне Бычковой, от которой имел сына и пятерых дочерей…
По свидетельству Дениса Васильевича Давыдова: «Состоявшийся по кавалерии ротмистр Чеченский, вывезенный из Чечни младенцем и возмужавший в России. Росту малого, сухощавый, горбоносый, цвет лица бронзового, волосу чёрного, как крыло ворона, взора орлиного. Характер ярый, запальчивый и неукротимый, предприимчивости беспредельной, сметливости и решительности мгновенной. Он мог быть только другом или врагом, середины у него не было. Правда, характером он был добрым, великодушным, хотя нос был орлиный, вид грозный, и сам «выходец из Чечни».
Умер кавалер орд. Св. Георгия IV-го кл. (23 декабря 1812 г.) («В воздаяние ревностной службы и отличия, оказанного в сражении против французских войск, где, находясь в отряде партизана Давыдова, около города Вязьмы, при селении Покров, напал храбро на сильное прикрытие неприятельского транспорта, состоящего из 41 больших фур, и принудил оное укрыться в лес, потом, с отличною неустрашимостию окружив оный и сильно ударив на неприятеля, часть онаго взял в плен, а остальных положил на месте; в сражении при отбитии и сожжении при селении Юреневе артиллерийского парка, поступал храбро, да и во всех случаях в продолжении кампании действовал с отличною храбростию, мужеством и неустрашимостию при поражении неприятеля»), Св. Владимира 4-й ст. с бантом (1807 г.), Св. Владимира 2-й ст. (1814 г.), Св. Анны 3-й ст. (1804 г.), Св. Анны 2-й ст. с алмазами (1814 г.) и Золотой сабли «За храбрость» (1807 г.) в январе 1834 г. в своём имении Савкино Кудеверского уезда Псковской губернии в возрасте 53 лет.
Похоронен в ограде Георгиевского храма села Кудеверь.
Чирков, Николай Александрович
(1734—1806) – генерал-майор (1 июля 1796 г.).
Происходил из дворян.
15 апреля 1771 г. поступил на военную службу солдатом лейб-гвардии Преображенского полка.
1 января 1777 г. – прапорщик
1 января 1778 г. – подпоручик.
1 января 1779 г. – поручик.
1 января 1782 г. определён из гвардии в армию подполковником Ядринского пехотного полка, переименованного 1 мая 1784 г. в Черноярский полевой батальон.
11 августа 1785 г. назначен в сформированный из двух полевых батальонов Оренбургский драгунский полк.
Принял участие в русско-турецкой войне 1787—92 г.
Под командой принца Нассау-Зигена (Karl Heinrich Otto, prince Nassau-Siegen) (1745—1808) отличился в сражении 7 июня 1788 г. при Очакове, где командовал гренадёрским батальоном на лодках, 17 июня атаковал неприятеля с правого фланга и взял 110 пленных, за что награждён чином полковника, 18 июня атаковал фрегаты и малые суда на лимане Очакова и поджёг неприятельские корабля, взяв 160 пленников, 1 июля 1788 г. командовал отрядом из 20 десантных лодок при нападении на Очаков и истреблении остатков флота.
21 октября 1789 г. переведён в Старооскольский пехотный полк.
В 1790—91 г. участвовал в боевых операциях Черноморского флота и в десантах на побережье Кавказа.
7 июня 1791 г. назначен командиром Оренбургского драгунского полка.
1 января 1793 г. – бригадир.
…Кстати, в 1792 г. он был женат на Елизавете Петровне Татищевой (1766—1823), от которой имел четверых детей: Екатерина (1794—1840), Софья (1795—1880), с 1819 г. супруга генерал-майора Дениса Васильевича Давыдова (1784—1839), Елизавета (-1862) и Никанор…
22 февраля 1796 г. из-за болезни передал командование полком полковнику Василию Максимовичу Ладыженскому и, получив отпуск, удалился в свои имения в Симбирской губернии.
1 июля 1796 г. – генерал-майор.
3 декабря 1796 г. определён в Кавказский корпус с назначением шефом Тифлисского пехотного полка.
22 октября 1797 г. вышел в отставку.
Умер кавалер орд. Св. Георгия IV-го кл. (31 июля 1788 г.) («За отличные подвиги, оказанные в поражении морских сил в 1788 году на лимане при Очакове») и Золотой шпагой с надписью «За мужество, оказанное в сражении 7-го июня 1788 года на Лимане Очаковском» в декабре 1806 г. в Москве в возрасте 72 лет.
Чичагов, Павел Васильевич
(27.6.1765/67, С.-Петербург – 20.8.1849, Париж) – весьма неординарная личность в военной иерархии российской империи начала XIX в. Умный и образованный адмирал (10.7.1807), генерал-адъютант (1801).
Он был потомственным моряком: его отец Василий Яковлевич Чичагов (1726—1809) тоже был адмиралом, причем, весьма успешным.
Большую часть своей военной карьеры П. В. Чичагов провел в военно-морском флоте, где много и с успехом сражался за родину, в частности, со шведами на войне 1788—90, где и получил не только Золотую наградную шпагу «За Храбрость», но и ор. Св. Георгия IV-го кл.!
Рассказывали, что во время правления Павла I его дважды увольняли в отставку и (потом снова возвращали). Более того, во втором случае Чичагова – уже контр-адмирала – намеренно унизили, можно даже сказать «опустили» по приказу неадекватного императора (публично сорвали ордена, сняли мундир, отобрали шпагу и в одном нижнем белье под усмешки придворной знати провели по коридорам Павловского дворца), а затем на год посадили в Петропавловку.
Люди, хорошо знавшие Павла Васильевича, отмечали его излишне резкий характер, нежелание считаться с авторитетами, нетерпимостью к мздоимству, пренебрежение к придворному миру, что вызывало естественное озлобление окружавшей его камарильи, платившей ему «звонкой монетой».
Но так угодно было судьбе, что известен широкой публике и потомкам он стал своей одной единственной… сугубо сухопутной операцией в самом конце Отечественной войны 1812 г. Ему довелось быть главнокомандующим Дунайской, а потом 3-й Зап. армией, действовавшей против южного фланга стремительно отступавших из Москвы наполеоновских войск.
Осталось немало версий того, что случилось на Березине, где – по мнению некоторых историков – можно было бы покончить с «корсиканским выскочкой» раз и навсегда. Но ни одна из них так и не внесла ясности, как так случилось, что Бонапарт смог унести ноги из «капкана» на Березине!
Не исключено, что Спаситель Отечества, «старая лисица севера», главнокомандующий русской армией М. И. Кутузов очень ловко подставил недолюбливаемого им Павла Васильевича своим явным нежеланием поспешать пленить Наполеона на территории России. Михаила Илларионовича потом много критиковали, за недостаточную энергичность и непоследовательность решений по ликвидации остатков Великой армии во время ее бегства к Березине и Неману. (Впрочем, трудно было ожидать этого от полубольного и крайне осторожного старика, так и не изжившего в себе лукавого царедворца и имевшего свой взгляд на то, как следует окончить войну с Наполеоном). Оказалось, что проделать это все же весьма сложно: одно дело проводить теоретические раскладки, другое – осуществить это практически! К тому же, новобранцы, а их было немало армии в Кутузова, все же уступали в ратной прыти последним суворовским ветеранам, чьи кости уже покоились на полях Европы (в долинах Италии, горах Швейцарии, под Аустрелицем, Эйлау и Фридляндом) и, в частности, на поле Бородина. Более того, сами русские тоже несли потери, причем не только в боях с отступающей Великой армией. Русская армия тоже сократилась от лишений: не хватало не только зимнего обмундирования, но и продуктов питания. Потери главных сил русской армии за счет больных превышали боевые потери. Так после трехдневного боя под Красным в наличии у Кутузова оставалось уже не более 50 тысяч боеспособных солдат. Именно им надлежало держать заданный темп наступления-преследования. В русском штабе всерьез рассчитывали, что Бонапарт сам угодит в расставленный ему силами Чичагова, Витгенштейна и Тормасова на западных рубежах мешок. Но, как говорится, «надежды вьюношей питают…»
Поскольку Тормасов опоздал к днепровским переправам у Орши и Наполеону с его Великой армией все-таки удалось не только благополучно их проскочить, но и уничтожить, то предполагалось полностью окружить и добить остатки наполеоновского воинства (около 20 тысяч еще относительно боеспособных солдат и… 40-тысячную вереницу больных и калек!) на следующем водном рубеже – р. Березине. До этой естественной преграды терпеливый и осторожный Кутузов мудро не стремился форсировать события. Историки полагают, что он прекрасно понимал: по дороге к Березине наполеоновская армия сама по себе ослабнет еще больше и нет смысла гробить своих солдат, которым во время преследования тоже пришлось несладко. Он берег их для решающих схваток, когда удастся прижать остатки Великой армии к водной преграде. «Старая лиса» Кутузов вел себя как острожный рыбак, который не приближается к умирающему киту, а терпеливо ждет своего часа.
Несмотря на оттепель превратившей дороги в жидкое месиво, Наполеон из последних сил рвался к Борисову, где надеялся переправиться через реку Березину. «Медвежий капкан» на переправе у Борисова грозил захлопнуться, и пробивавшиеся с боями (каждый день случались отдельные стычки между парой-тройкой сотен еще готовых постоять за себя французов и круживших вокруг казаков) к Березине остатки Великой армии во главе с самим императором Франции Наполеоном казалось вот-вот попадут в плен.
Тем более, что русские успели взорвать единственный мост через Березину, которая еще не замерзла и перейти ее по льду не представлялось возможным. А паводок кое-где размыл берега и превратил реку в еще большее препятствие, потому что грязевые болота около воды делали движение по берегам крайне трудным. Казалось, что русские и… природа уже замкнули ловушку и Бонапарт безнадежно попал в западню.
Но французский император воспользовался тем, что корпус П. Х. Витгенштейна промедлил, а войска Кутузова отстали от него на три перехода (двое суток?). Легендарный гусар-партизан Денис Давыдов не исключал, что Кутузов весьма намеренно стремился «избежать встречи с Наполеоном и его гвардией, он не только не преследовал настойчиво неприятеля, но, оставаясь на месте, находился все время далеко позади». Примерно так же считал и, «державший руку на пульсе событий» по царскому приказу, А. П. Ермолов. С помощью войск маршала Удино Наполеон ловко сымитировал переправу за Борисовым у Ухолода. Чичагов купился на уловку Бонапарта и с частью сил кинулся к Удино; потом из-за этого промаха из русского адмирала сделают главного «козла отпущения», а зря – специфика морского боя не сопоставима с особенностями сухопутных операций. Тем временем Бонапарт приказал саперам восстанавливать разрушенный мост через Березину у Борисова, а сам воспользовавшись тем, что у деревни Студенка польские уланы из бригады генерала Корбино отыскали брод, приказал своим саперам генералов Шасслу и Эбле, собрать все деревянное, не останавливаясь даже перед разборкой изб Студенки и как только стемнеет максимально быстро наводить три моста.
В течение 14—16 ноября наполеоновская армия (вместе со свежими корпусами Удино и Виктора она могла насчитывать до 50 тысяч солдат разной степени боеготовности с 250—300 пушками) переправлялась на правый берег реки. «Я перехитрил русского адмирала Чичагова!» – радостно воскликнул французский император, обращаясь к своему свитскому генералу Раппу.
…Между прочим, в России провал уничтожения Наполеона или его захвата в плен вызвал огромный резонанс! Россияне «разных мастей», были страшно раздосадованы тем, как мастерски облапошил их генералов Последний Демон Войны. Начались нападки на Чичагова, Тормасова, Витгенштейна и… одноглазую «старую северную лису» Кутузова! Лучше всех суть происшедшего отразил в своей бессмертной басне «Лебедь, Рак, да Щука» русский «дедушка» Крылов! Любопытно, что и Бонапарт тоже отреагировал на то, как ему дали унести ноги из негостеприимной России. По словам Армана де Коленкура его размышление было сколь философски, столь и фривольно: «Что сделал Кутузов во время нашего отступления, когда перед ним не было никого, способного воевать, а были лишь полуживые существа и ходячие призраки? … Все другие генералы стоили гораздо больше, чем эта престарелая придворная дама…»…
Впрочем, у Чичагова было от 25 до 33 тыс. солдат (данные сильно разнятся) и перекрыть фронт в 100 километров и к тому же в глубину он был не в состоянии. Хотя и так именно его войска успели нанести неприятелю на Березине самый тяжкий урон. И сколько бы потом на него не «спускали собак» «знатоки военного дела», но реальные участники тех событий, такие люди как А. П. Ермолов, М. Ф. Орлов, Е. И. Чаплиц, Д. В. Давыдов и др. потом встали (правда, в разной мере и различной форме) на защиту честного имени профессионального… адмирала!
Итак, Бонапарту удалось ускользнуть, и агония его империи затянулась на два с лишним года. Потом поговаривали, что, узнав о случившемся, вроде Кутузов с сожалением воскликнул: «Эх! Не все сделано! Если бы не адмирал, то простой псковский дворянин сказал бы: «Европа, дыши свободно!»
…Кстати! Не кривил ли тогда душой «старый северный лис» Кутузов!? Будучи опытным царедворцем, он не раз и не два, говорил одно, а поступал по-другому! Так, по словам А. П. Ермолова, Кутузов приказал ему составил докладную записку о том, как на самом деле складывались события при Березине, но, чтобы никто не знал об этом! Если верить Алексею Петровичу, такая записка – оправдывавшая П. В. Чичагова – была-таки составлена, но «была, вероятно, умышленно затеряна светлейшим» Михаилом Илларионовичем. Сам Павел Васильевич писал потом своему другу Семену Романовичу Воронцову, что «… Самая большая моя вина в том, что я пришел на место, указанное императором; другие же, кто не пришел туда, все оказались правы». Ходили разговоры, что Чичагов, принимая дела у Кутузова в Молдавской армии летом 1812 г. мог узнать очень много интересного о делах «престарелой придворной дамы», где шашни с несовершеннолетней валашкой были всего лишь «цветочками» – лишь «вишенкой» на «вершине айсберга»! Михаил Илларионович не слишком стремился бросать все свои силы на то, чтобы обязательно уничтожить Наполеона в открытом бою, когда тот с остатками его некогда «Великой армии» бежал из России! Не исключено, что у «старого северного лиса» были большие сомнения в необходимости полного разгрома Наполеона для интересов России!? Недаром же, в своих мемуарах британский офицер связи при русской армии генерал Вильсон, написал, что как-то услышал от русского фельдмаршала весьма любопытное замечание, брошенное как бы вскользь: «Я ни в коей мере не уверен, что полное уничтожение императора Наполеона и его армии будет таким уж благодеянием для всего мира: первенство достанется не России и не какой-нибудь другой континентальной державе, но только той, что уже и так является царицей морей (имеется ввиду Великобритания – прим. Я.Н.), чье владычество тогда станет невыносимым». Как покажет время, «престарелая придворная дама» знала, что говорила! Впрочем, это всего лишь «заметки на полях», оставляющие за читателем право на свои собственные выводы…
Адмирал Чичагов, ставший главным «козлом отпущения», виновником «упущения» Наполеона Бонапарта из России в 1813 г. предпочел взять отпуск в Италию и Францию по болезни с сохранением содержания. Обвиненный на родине в конфузе на Березине (особо постарался всегда «неспеша-поспешавший» Михаил Илларионович Кутузов), Павел Васильевич предпочел остаться во Франции. Он отказался повиноваться указу императора Николая I о 5-летнем сроке пребывания за границей и требованию вернуться на родину, где все его имущество было секвестрировано, а сам он уволен в отставку. Став изгоем, слепой П. В. Чичагов доживал свой век у дочери в Париже, где и скончался спустя много лет после провала «Березинского капкана», на много пережив главных участников той столь эффектной на бумаге, но оказавшейся столь неэффективной на деле операции.
Так Павел Васильевич Чичагов и вошел в историю, как адмирал «прошляпивший» на Березине, бежавшего из России Бонапарта.
Так бывает… с сухопутными адмиралами!
Не так ли!?.
Чичерин 1-й, Николай Александрович
(1771—1837) – генерал-майор (15 ноября 1807 г.).
Происходил из дворян Тульской губернии. Родился в семье бригадира Александра Денисовича Чичерина и его супруги графини Екатерины Петровны Девиер.
14 января 1782 г. поступил на военную службу сержантом лейб-гвардии Преображенского полка.
7 февраля 1787 г. переведён в лейб-гвардии Конный полк с чином вахмистра.
1 января 1794 г. – корнет.
3 января 1797 г. – подпоручик.
9 августа 1797 г. – поручик.
18 августа 1798 г. – штабс-ротмистр.
26 октября 1798 г. вышел в отставку.
12 февраля 1802 г. возвратился к активной службе с производством в подполковники и назначением адьютантом цесаревича Константина Павловича.



