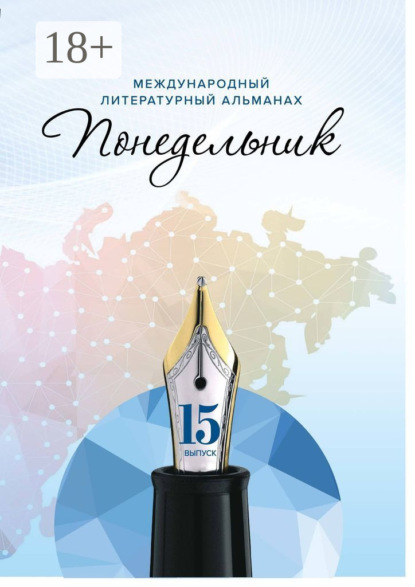
Полная версия:
Международный литературный альманах «Понедельник». Выпуск 15
Кажется, автором клише «лихие девяностые» стал писатель Михаил Веллер, употребивший это выражение в романе «Кассандра».
И мне оно показалось весьма удачным после Августовской комедии абсурда с громким названием «Путч», обесцениванием сбережений граждан, невыплаты заработной платы, пенсий и так далее, и тому подобное.
И носило меня по редакциям разных газет: от партийного «Вечернего Ростова» до криминального «Ростовского курьера». Одни газеты закрывались, другие открывались. Но несмотря на нестабильность, разгул бандитизма и полное безвластие, мы чувствовали себя свободными и делали всё, что позволяла фантазия. Для меня девяностые реально были лихими, наполненными незабываемыми впечатлениями от опасных приключений.
А главное, есть, что вспомнить и рассказать не только внукам, но и правнукам.
Хотя было страшно. Очень страшно. За дочь, за семью, за коллег по работе и, естественно, за себя лично.
Я ощущала этот страх кожей. Страх, тщательно прикрытый ростовскими понтами и куражом.
Особенно тяжело мне давались материалы про военный госпиталь, который находился почти за чертой города, в районе Военведа. Именно туда привозили «груз номер 300» из Чечни и других горячих точек. Но больше всего я боялась, когда по заданию редакции отправлялась в ростовскую лабораторию по идентификации останков. Туда привозили неопознанный, безымянный «груз номер 200».
И я на всю жизнь запомнила глаза родителей, которые приезжали из разных городов нашего свободного Отечества и месяцами стояли, сидели, лежали в очереди в надежде получить хоть какую-нибудь информацию о своих детях.
Я возвращалась домой и заливала боль водкой. Но водка после двух литров превращалась в воду и очень быстро заканчивалась.
И очень быстро наступил тот момент, когда фразы начали рассыпаться на слова, слова на буквы, а я осознавала всё больше и больше, что не могу писать.
Это случилось в середине октября 1992 года на одном из последних заседаний Суда над Чикатило, начатого 14 апреля того же года. Заседание проходило в зале №5 Ростовского дома правосудия. Объём материалов уголовного дела №18/59639—85 составил 220 томов.. Андрея Чикатило обвиняли в 56 зверских убийствах несовершеннолетних. Его самого, во избежание возможного самосуда со стороны родственников погибших, поместили в большую железную клетку.
Я смотрела на клетку, на мерзкого сморчка с рыбьими глазами, на слюни, которые капали у него из рта и думала: «Чего же стоит наш ростовский уголовный розыск, который не мог поймать столько лет этого говнюка. Это ж надо было, вызывать целый отряд следователей из Москвы, которые привезли с собой специально обученных женщин, чтобы поймать маньяка на живца. Господи, где я живу, где работаю, что делаю».
А за окном летали паутинки тополей. Приближался день рождения дочери, и появилось первое смутное желание уехать из России.
Продолжение следует…
Михаил КИТАЙНЕР, Россия, Ярославль

Родился в 1950 году в Ярославле, где и живёт до сих пор. Учился в Ярославском технологическом институте, но инженером так и не стал. Окончил Ярославский педагогический институт, но учителем не стал тоже. Профессиональный журналист, поэт, писатель, издатель. Автор пяти поэтических книг и двух книг прозы.
Когда-то давно мой шеф – начальник транспортного управления, где я работал заведующим пресс-центром, на вопрос, «кем у тебя работает Китайнер?», подумав, ответил: Китайнером. Наверное, поэтому материал обо мне в областной газете так и назывался: «Профессия – Китайнер».
Возможно это потому, что чем бы я ни занимался, где бы ни работал, я всегда старался оставаться самим собой. И не только в работе, а и в творчестве тоже. Я мог бы долго рассказывать о себе, но лучше всего обо мне и моём творчестве расскажет стихотворение, с которого начинается моя подборка.
***Литературных институтовЯ не кончал. Не довелось.Меня пригревших, почему-тоСреди маститых не нашлось.Никто не передал мне лиру,Не целовал мой пылкий лоб…Ну, не нашлось в подлунном миреСходить желающих во гроб.Что ж, окрылившись не «под сенью»И возмужавший не «среди»,Пишу стихи по вдохновенью,А не затем, чтоб угодить.Как бог мне на душу положит,Так и пишу, так и пишу.О том, что ранит. Что тревожит.На что надеюсь. Чем дышу.Не член. Да я и не пытался.Не состою. Желанья нет.Каким я был, таким остался…Вот это точно – обо мне.Мой путь к строке тернист и труден,Касаюсь чистого листа.Но верю в то, что жизнь рассудитИ всё расставит по местам.И пусть в стихах не видно блеска,В них честно всё. В них фальши нет…В них – я. Не очень-то известныйИ без диплома. Но поэт.ПОНЕДЕЛЬНИКИ
Иногда, назвав себя бездельникомИ решив, что в жизни сделал мало,Твердо намечаешь с понедельникаВ новой жизни новое начало.Но идут недели за неделями,И, глядишь, ничто иным не стало:Как в дороге вехи – понедельники —Навсегда забытые начала.Но года отнюдь не беспредельные —Их считать когда-нибудь придется.Каждый раз всё меньше понедельниковДня начал нам в жизни остается.И однажды, всё ж замыслив дельное,Прочь откинув прежние заботы,Жизнь начать захочешь с понедельника,А дотянешь… только до субботы.ДИАЛОГ С РАВВИНОМ
Мы с раввином обсуждали Тору —Избранные, так сказать, места.Мне с ним было очень трудно спорить:Он всё знал, а я – и не читал.Обсужденье двигалось тоскливо,Без эмоций, бьющих через край.И тогда я предложил «по пиву».Он подумал и кивнул: «Давай!»С пивом дело двинулось. И робкоАргументы зазвучали в такт,А потом, к концу второй коробки,Спор дошел до избранных цитат.А когда, исполнив песнь Эсфири,Наши души выпали в экстаз,Взяли водки – три или четыре,Точно не скажу, но в самый раз.А под вечер снег посыпал с небаМелкой и противною крупой.И тогда сказал ему я: «Ребе,Хватит пить, а то уйдем в запой».Он меня окинул взглядом мудрым,Глаз открыв на несколько минут.«Хорошо, – сказал, – оставь на утро,Утром будем обсуждать Талмуд».АТЛАНТ МОНЯ
Моня всё слышал.
Опутанный проводами с присосками, тянувшимися к целой куче разнообразных медицинских приборов, он лежал на широкой койке в просторной больничной палате и всё слышал. Люди, стоящие вокруг, считали, что он не может ничего слышать и уж тем более чувствовать. А он всё слышал. Он слышал, как распахнулась дверь палаты и несколько человек вошли в комнату. Он слышал, как они остановились возле его кровати, глядя на его маленькое тщедушное тело и на мониторы приборов. Он слышал, как они молчали. Наконец один из них, видимо самый главный, сказал:
– Покажите мне последние показатели.
Так и сказал, не пытаясь правильно построить фразу: «Покажите показатели».
После этого ещё какое-то время все сохраняли молчание, нарушаемое только шелестом переворачиваемых страниц. Очень громким шелестом, как казалось Моне.
– Нет, – сказал наконец тот же голос. – Практически – никаких шансов. Думаю, в лучшем случае – до утра. Но, скорее всего, умрёт ночью.
– Думаете? – переспросил его немолодой женский голос.
– Практически уверен, – без нажима, но твёрдо ответил тот, первый.
– Ну, посмотрим, – сказал кто-то ещё, и они вышли.
«Нет, – подумал Моня, мысленно грустно усмехнувшись. – Вот тут ты не прав, Главный. Я не могу умереть этой ночью, поскольку уже умер. Умер сорок лет назад…».
…Тогда ему было двадцать. В двадцать лет все девушки кажутся прекрасными, но когда он встретил Розочку, он понял, что всё это полная чушь! Девушки, окружавшие его до этого, были, без сомнения, хороши. Но прекрасной была только она —
Розочка! Моня сразу же решил, что она обязательно станет его женой. Хотя – и он это чётко понимал – шансов у него было ноль, помноженный на… Чёрт знает, на что помноженный, но шансов не было вообще. При своём росте чуть ниже ста семидесяти, несколько мешковатой фигуре и маловыразительном лице, на котором особо выделялись большой нос и такие же большие круглые очки, Моня не пользовался успехом у женской половины человечества. А Розочка… Розочка была само совершенство! Миниатюрная – даже ниже Мони, с прекрасной точёной фигуркой, огромными, в пол-лица, чёрными глазами, она блистала на фоне окружавших её девушек, как солнце на фоне поблекших звёзд.
Моня тогда даже не попытался к ней подойти. Наоборот, он намеренно отступил за спины своих сокурсников, чтобы она даже случайно его не заметила. Но он мог бы этого и не делать. Купаясь в волнах повышенного внимания и откровенного восхищения молодых людей, она вряд ли бы заметила неказистого паренька, даже попадись он ей на глаза…
Да, Моня не был красавцем. Но он был умным. На мехмате университета, куда он с блеском поступил, несмотря на свою «пятую графу», он был, пожалуй, самым умным студентом на курсе. Он блестяще успевал по всем предметам, участвовал в общественной жизни факультета – пел, аккомпанируя себе на гитаре, и имел ещё массу прочих нагрузок. Преподаватели им гордились, а сокурсники относились с уважением. Словом, всё было замечательно. Но Розочка…
Розочка училась на историческом факультете. Её будущей специальностью была этнография, и в обычное время Моня с Розочкой не пересекались: даже лекции у них читались в разных корпусах. А вот на общеинститутских мероприятиях Моня всегда находил её взглядом и, незаметно для себя, оказывался почти рядом с ней. Рядом, но почти…
Скрипнула дверь палаты.
– Ну, как он? – спросил мужской голос. Не тот, который Главный, а какой-то другой.
– Без изменений, – ответил ему голос женский, почти девичий.
«Медсестричка», – догадался Моня…
Развязка наступила на четвёртом курсе. Был какой-то очередной межфакультетский вечер, Розочка, как всегда, купалась в море внимания, а Моня, тоже как всегда, стоял где-то почти рядом. И вдруг… Отмахнувшись от многочисленных ухажёров, Розочка подошла к Моне и сказала:
– Мне кажется, что прелюдия несколько затянулась. Скоро мы уже и дипломы защитим, а ты так и не решишься ко мне подойти. Пойдём танцевать!
И они пошли танцевать. А потом – ещё. И ещё, и ещё, и ещё… А потом они гуляли по городу. А потом, спустя два месяца, поженились.
Розочка утверждала, что обратила на него внимание ещё тогда, при первой встрече. Но Моня ей не верил. Она ведь не могла знать тогда, что он умный. Она могла только видеть, что он некрасивый. Но Розочка смеялась и говорила, что для неё он всегда был самым красивым, а в его уме она до сих пор сомневается: был бы умным, подошёл бы к ней сам, а не ждал этого от неё…
– Мы всегда будем вместе, – говорила ему Розочка. – Только ты меня никогда не предавай. Никогда-никогда…
Дипломы они защитили одновременно. Моня, как лучший выпускник факультета, был оставлен на кафедре, а Розочка распределилась в Институт истории, где ей предстояло заниматься этнографическими исследованиями. С жильём им тоже повезло: Розочкина бабушка переехала жить к Розочкиным родителям, а её однокомнатная квартирка на Бульварном кольце досталась молодым. Одним словом, грядущая жизнь представлялась прекрасной и безоблачной.
Где-то в апреле того года Розочка пришла домой и сказала, что её на две недели командируют на Кавказ изучать «этногенез, состав, расселение, культурно-бытовые особенности, а также материальную и духовную культуру» некой народности. Так было написано в бумаге, приложенной к командировочному удостоверению. Моня не хотел её отпускать, тем более – на две недели, тем более – на Кавказ, тем более – одну. Но Розочка смеялась и говорила, что будет там не одна, а с большим дружным коллективом, что на Кавказ они чуть позже обязательно поедут вдвоём, а две недели – не такой уж большой срок…
Две недели оказались вечностью. На обратном пути, когда группу учёных забрали из горного селения, где они проводили исследования, автобус сорвался в пропасть. В этом никто
не был виноват: прямо под колёсами автобуса произошёл обвал породы. Не выжил никто.
Вот тогда Моня и умер. Умер вместе с ней.
– Обстановка? – спросил голос с порога. На этот раз спрашивал Главный. Его голос Моня запомнил хорошо.
– Без изменений, – ответила медсестра. – Какая-то подозрительная стабильность.
– Ну-ну, – только и сказал Главный и, не подходя к Мониной кровати, прикрыл дверь.
«Не посчитал нужным», – грустно подумал Моня и опять провалился в прошлое…
После похорон Моня подал заявление об уходе с кафедры. Оставаться в университете, где всё напоминало ему о Розочке, он не хотел. Его, конечно, уговаривали, говорили, что всё пройдет, боль уляжется, а впереди большая жизнь и наука, которой он служит… Но Моня знал, что ничего не пройдёт и ничего не забудется. А наука… Что ж, науке придётся обойтись без него. Потому что всё, о чём он мечтал, ассоциировалось с Розочкой. А без Розочки никакая наука была ему не нужна. Он и из квартиры хотел выехать, но Розочкины родители настояли. И он остался.
Не особо привередничая, Моня устроился программистом в конструкторское бюро. Зарплата была относительно приличной, график работы – стандартным, да и находилась организация всего в трёх автобусных остановках от дома. Можно было доехать и на метро, но метро Моня не любил. В новую работу он вошёл быстро: была она совсем несложной для него, с его-то университетским образованием, и монотонной, что Моню особенно устраивало. Он легко определял содержание и форму исходных и конечных данных, проверял программы, продумывал оптимальные схемы и макеты ввода, сохранения, методы контроля исполняемых машиной операций, отлаживал уже имеющиеся программы… Но главное, эта работа занимала все мысли и позволяла не думать о том, что случилось. Не думать о Розочке. О том, что её больше нет.
Иногда Моне даже казалось, что он сам стал некой компьютерной программой с неизменной функцией: утром подъём, душ, завтрак, пять минут до автобуса, десять – на автобусе, три минуты до работы. Восемь часов за монитором или письменным столом, и обратно: три минуты до остановки, десять – на автобусе и так далее…
– Маша, вы что, спите?
«Опять этот Главный. Что он бегает каждые пять минут?»
– Что вы, Геннадий Петрович, я не сплю. Я слежу за приборами.
– И что приборы?
– Всё без изменений. Показатели как и два дня назад…
«Ого! Два дня? А мне казалось, что прошла всего пара часов…» – Моня хотел вздохнуть, но у него не получилось.
– Удивительно! Четвёртые сутки организм сопротивляется. Хотя, по всем показателям, он должен был умереть ещё три дня назад. Такое впечатление, что его что-то тут держит, какое-то незавершённое дело.
«А что меня тут держит? – подумал Моня. – Меня уже давно ничего не держит на этом свете. Разве что что-то случилось перед тем, как я здесь очутился. А как, кстати, я здесь очутился?».
То утро ничем не отличалось от предыдущих: подъём, душ, завтрак, пять минут до автобуса, десять – на автобусе… Подождите… Десять минут на автобусе…
…Моня очень удачно вскочил в автобус, буквально за секунду до того, как дверцы захлопнулись. И, хотя он оказался почти прижатым к дверям, это было лучше, чем ждать следующий, который, без сомнения, ещё и опоздает. «В тесноте, да не
в обиде», – подумал Моня и посмотрел, кто это давит на него всем весом. Давящим объектом оказалась девушка лет двадцати. Моня глянул на её лицо и замер. Перед ним была Розочка.
Та Розочка, которую он увидел в самый первый раз. Лёгкая, миниатюрная, с прекрасной точёной фигуркой, огромными, в пол-лица, чёрными глазами… Моня не мог поверить увиденному. Никогда за эти почти сорок лет, прошедшие с того рокового дня, Моня не засматривался на девушек. И хотя его, молодого вдовца с отдельной квартирой в центре и приличной зарплатой, неоднократно пытались сосватать, Моня стойко держал оборону и уклонялся от подобных знакомств. Он на всю жизнь запомнил слова Розочки: «Мы всегда будем вместе. Только ты меня никогда не предавай. Никогда-никогда…». И Моня не предавал…
И в этот раз в автобусе Моня не предавал свою Розочку. Просто девушка, которая в этот момент невольно прижималась к его груди, была ею. И Моня смотрел на неё, смотрел и не мог оторвать взгляда. А девушка, словно почувствовав его внимание, повернулась к Моне, намереваясь сказать ему что-то…
И в этот момент Моня почувствовал удар. Автобус словно натолкнулся на какую-то стену, и передняя часть его остановилась, а задняя всё ещё продолжала двигаться, сминая
в плотную массу людей, находящихся между кабиной водителя и задней частью автобуса.
«Мы сейчас рухнем, мы сейчас рухнем в пропасть! – в ужасе подумал Моня. – Как же так? Розочка, моя Розочка, ты не должна ещё раз погибнуть!». И он ухватился за выгибающийся поручень и прикрыл собой кричащую от ужаса девушку…
– Видно, что-то его тут держит, – опять сказал Главный. – Держит и не отпускает. Дай-то бог. Пусть держит. Может, выкарабкается?
А Моня знал, что его тут держит. Потому что из последних сил удерживал многотонную массу тел, стремящихся смять, раздавить эту хрупкую девушку. Его Розочку… Ну, пусть почти Розочку… Он стоял, как Атлант, распрямив свои старческие плечи, он ощущал огромный груз, навалившийся на них, но стоял и не мог позволить себе скинуть этот груз с плеч. Потому что тогда небо бы упало, и все, все, кто был дорог ему, погибли…
А потом стало темно, и он больше ничего не помнил…
Моня открыл глаза и, с трудом разомкнув сухие губы, хрипящим шёпотом спросил у Главного:
– Розочка… Девочка та – жива?
– Ты гляди-ка! – удивлённо воскликнул Главный. – Заговорил! Ну, теперь выкарабкается. Обязан выкарабкаться!
А Моня и сам знал, что выкарабкается. Потому что если он не выкарабкается, то кто будет держать небо?
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В начале семидесятых годов прошлого века жизнь в СССР была спокойной и размеренной. В каждой семье всё было расписано на несколько лет вперёд. У детей – школа, институт, престижная работа, отдельная квартира. У взрослых – престижная работа, хорошая зарплата, отдых в Гаграх или, если повезёт, в Болгарии, ценный подарок от коллектива, достойная пенсия. По телевизору рассказывали о достижениях тружеников народного хозяйства, все были за мир, дружбу и братское сотрудничество.
По натуре своей Соломон Маркович был домоседом. Он и на дачу-то выбирался редко, и то когда лишь дети настаивали. Ну, не любил он ни дачи, ни санатории, ни поездки всякие из разряда «мир посмотреть». Весь мир его заключался
в уютной однокомнатной квартирке в тихом районе, куда они с Машей переехали после размена с сыном. Вот его квартирка и жена Маша – это и был весь мир Соломона Марковича. А когда Маши не стало, этот мир расширился до могилки на городском кладбище, куда он, невзирая на время года и капризы погоды, ездил регулярно. Сначала каждый день, потом раз в неделю, потом раз в месяц. Он бы и чаще ездил, да здоровье уже не позволяло.
Ещё, раньше, он ездил в гости к сыну. На праздники, на семейные даты или так – с внуками пообщаться. Правда, внуки этого общения не слишком жаждали, в основном интересовались, что им дед привёз в подарок. В детстве подаркам радовались, повзрослев, разочарованно вздыхали, а теперь и вовсе – вежливо благодарили и, даже не разворачивая принесённые свёртки, откладывали их в сторону: ну что такое мог подарить им дед с его мизерной пенсией? Да и неинтересно было им – шестнадцатилетним оболтусам – с ним, стариком, возиться. Правда, вслух они об этом не говорили: всё же в интеллигентной семье выросли.
Со снохою Соломон Маркович тоже общался редко. Особенно теперь, когда его любимый сын Боренька умер. Соломон Маркович всё не мог понять: почему так получилось? Он, без малого семидесятилетний старик, живёт и здравствует, а его Боренька, которому ещё и пятидесяти не было, вдруг взял и умер. Не от болезни какой, не в аварии погиб: просто однажды вечером лёг спать, а утром не проснулся. Врачи говорили – тромб. Оторвался, мол, и – в сердце. А откуда ему было взяться, тромбу? Не болел ведь ничем его Боренька. Да…
Вот после смерти Бореньки Соломон Маркович и замкнулся. Сноха, Марина, поначалу пыталась его взбодрить или делала вид, что пыталась, а когда он раз за разом стал отказываться от приглашений в гости или поездок на дачу, бросила это дело. И Соломон Маркович стал жить сам по себе.
Нельзя сказать, что жил он бирюком. С соседями по дому он здоровался и даже иногда мог поговорить о погоде или ценах на продукты, но тесной дружбы ни с кем не заводил. Ну, не нужна ему была эта тесная дружба. Его миром была его квартирка, старенький телевизор «Рекорд», по которому он регулярно смотрел программу «Время», Машенькина могилка на кладбище да редкие поездки на бывшую работу в НИИ, где его ещё помнили и уважали. Вот ради этого уважения-то он туда и ездил…
Казалось бы, ничто не могло нарушить этот сложившийся распорядок. Но тут…
Однажды, было это в канун Нового года, 1976-го, к Соломону Марковичу неожиданно приехала в гости Марина. Одна, без внуков. Но с бутылочкой армянского коньяка, который Соломон Маркович особенно уважал. Три звезды. Пятизвёздочный ему не нравился – слишком резкий, а вот три звезды – самое то! Да… Так вот, приехала к нему Марина, поинтересовалась, как он живёт, спросила о здоровье, поздравила с наступающим Новым годом, преподнесла эту самую бутылочку и сразу взяла быка за рога.
– Соломон Маркович, – спросила его Марина, – а вы никогда не задумывались о выезде на историческую родину?
Сказать, что Соломон Маркович был ошарашен, значит – ничего не сказать. Он поначалу даже не понял, о чём идёт речь, а когда наконец понял, то от волнения открыл принесённую бутылочку и налил себе полную рюмку коньяка. И выпил залпом. Потом помолчал, налил вторую и выпил опять.
До сего момента Соломон Маркович никогда не пил коньяк залпом. Более того, если бы ему рассказали, что кто-то пьёт залпом этот божественный напиток, Соломон Маркович искренне пожалел бы этого человека… А тут выпил. И потянулся к бутылке, чтобы налить третью рюмку. Но Марина решительно отодвинула бутылку в сторону и повторила:
– Так что насчёт выезда?
Соломон Маркович задумчиво причмокнул губами. Послевкусие было приятным. Хороший, стало быть, коньяк. Не поддельный. Он ещё раз причмокнул, посмотрел на Марину и придвинул к себе бутылку.
– А оно мне надо?
Он вновь налил себе в рюмку коньяк – в этот раз на треть рюмки (надо бы в коньячный бокал, да ладно!) – и выпил. Медленно и со вкусом, как и положено.
– Чего я там забыл, на этой исторической родине? – спросил он у Марины. – Мне и здесь хорошо.
– Ну как же? – растерялась Марина. – Вы же здесь совсем один! А там… А там люди, близкие вам по духу. Евреи…
– Вот именно, – сказал Соломон Маркович, – евреи. А я, знаешь ли, привык к местному окружению. Чтобы и евреи, и не евреи. У меня, Марина, национальный вопрос никогда не стоял во главе угла. Я, если помнишь, член партии с 1941 года. Ещё на фронте вступал. Я, Мариночка, всю жизнь агитировал за советскую власть. Так чего это ради я туда поеду? Никого тут нет, говоришь? Есть! Друзья у меня тут есть… пока. Могилка Машенькина. Внуки. Ты. Соседи, в конце концов… А там?
– Как вы не понимаете, Соломон Маркович, – заволновалась Марина. – Сейчас все едут. На днях Рабинович с семьёй уехал. Рахманы подали документы… А Аранович ещё три года назад выехал…
– При чём тут Аранович? – удивлённо спросил Соломон Маркович и решил было ещё плеснуть себе коньяка, но передумал. – При чём тут Аранович? Аранович – всемирно известный дирижёр. Ему там целую филармонию дали. А я – пенсионер.
– А вам и там будут пенсию платить, – сказала Марина. – Там всем, кто из СССР приезжает, платят…
– Так мне и здесь платят, – усмехнулся Соломон Маркович и вновь плеснул в рюмку коньяк. На четверть.
– Ну как же… – начала было вновь Марина, но Соломон Маркович её перебил.
– А чего это ты, голубушка, меня вдруг решила в Израиль выпроводить? Квартирка, что ли, моя понадобилась?
– Да что вы, что вы, – нарочито возмутилась Марина, – какая квартирка! Разве мы вас одного отпустим? Мы с вами поедем!
– Вот те и помидоры на засолку! – охнул Соломон Маркович и сам удивился сказанному. Какие помидоры? На какую засолку? Такое выражение вообще было не из его лексикона. Но тут оно пришлось как нельзя кстати. – Какого это рожна вы со мной поедете? Вы же не евреи?
– Так в том и дело, – засуетилась Марина и налила чуть коньяка в свою рюмку. – В том-то всё и дело, что выпускают сейчас на ПМЖ в Израиль только евреев. А вот с ними могут выехать и члены их семей. Ведь вы же еврей?
– Еврей, – подтвердил Соломон Маркович и выпил.
– Вот, – сказала Марина и тоже выпила. – А мы – члены вашей семьи…
– Вот оно что… – наконец понял суть происходящего Соломон Маркович и с сомнением посмотрел на бутылку. Та была уже пустой на треть. «Достаточно, пожалуй», – подумал он. – Вот оно что… Значит, вы хотите уехать, а меня, значит, определили на роль паровоза…



