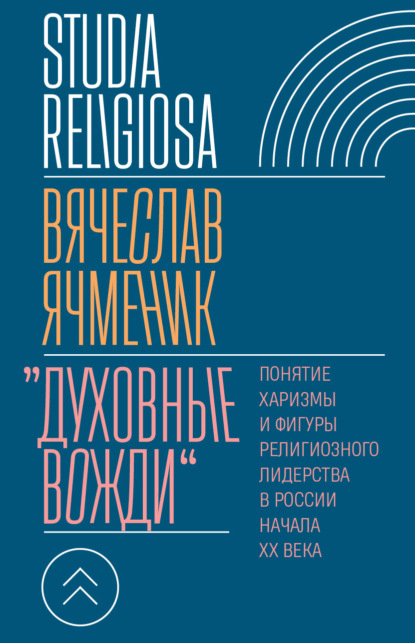
Полная версия:
«Духовные вожди». Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века

Вячеслав Ячменик
«Духовные вожди». Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века
© В. Ячменик, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
* * *Предисловие
Мой интерес к понятию харизмы был связан с исследованиями проблем религиозного лидерства в России. Часто в этом контексте приходится сталкиваться с разного рода исследовательскими схемами, основной из которых является оппозиция личности и института. В историографии, касающейся проблем власти в церковном сообществе, это противопоставление, как правило, выражается категориями должности и харизмы. В такого рода модели легко укладываются отдельные сюжеты из истории религии, однако эта оппозиция кажется не объективно данной, а скорее культурно обусловленной.
В ходе исследования культурных истоков дихотомии харизмы и института нам (прежде всего моим коллегам из Лаборатории исследований церковных институций ПСТГУ) удалось одновременно указать на рождение этой оппозиции в специфическом для культуры и религии контексте рубежа XIX и XX веков и увидеть, что эта схема является лишь одной из множества логик описания феномена религиозной власти.
В ходе чтения главных теоретиков харизматического лидерства выяснилось, что отечественные дореволюционные ученые не были изолированы от зарождающихся академических дискуссий вокруг концепта харизмы в социологии и истории религии начала XX века. Мне показалось, что на фоне относительно исследованного контекста протестантских дискуссий о харизме (тем более полемики о харизме в наследии М. Вебера) не изученные вовсе представления о харизме в текстах русских исследователей могут стать подходящим кейсом для иллюстрации тезиса о формировании новых и об усложнении старых моделей религиозного лидерства.
Мое исследование выстроено вокруг тезиса о связи между интересом к понятию харизмы в начале века и возникновением новых описаний религиозной власти. В первой главе восстановлен интеллектуальный контекст, в рамках которого исследователи обращаются к понятию «харизма» на рубеже XIX и XX веков в немецком протестантском и русском православном богословии. Во второй главе представлена попытка русских религиозных мыслителей рассмотреть харизму как основание для личностной власти, не связанной с должностью. Здесь показывается, как на уровне понятийного аппарата впервые в русской среде возникает оппозиция харизмы и должности. Сознательный разрыв этих двух оснований власти приводит, во-первых, к формированию дискурса о различных носителях харизматической власти – фигурами религиозного лидерства становятся диакониссы, пророки, старцы и другие герои церковной истории, «воскресить» которых в своей реальности пытаются интеллектуалы начала XX века. Во-вторых, если «харизматическое» и «должностное» оказываются разделены, то естественным шагом в дискуссиях о них становится продумывание разного рода моделей взаимодействия между носителями харизмы и носителями должности, будь то подчинение, подавление или независимое сосуществование одних с другими. В третьей главе проанализированы тексты, в которых при попытке описания церковной власти харизма и должность определяются как единый феномен. Фигурой, в отношении которой эти два элемента дискурса отождествляются, оказывается патриарх. Дискуссии о должностной харизме патриарха становятся реакцией церковного сообщества на условия реформирования церковного устройства в предреволюционные годы и вместе с тем стимулом для его консолидации в условиях советских репрессий.
Благодарности
Публикация этой книги стала возможной благодаря конкурсу Русского религиоведческого общества и издательства «Новое литературное обозрение». Я крайне благодарен членам общества и редактору серии Studia Religiosa С. Елагину за предоставленную мне возможность и их комментарии к работе. Неоценимый вклад в улучшение этой книги внес научный редактор книги – А. Л. Беглов, его замечания и комментарии остались важны для моей научной работы в целом.
Путь к подготовке книги был связан с участием в нескольких исследовательских проектах Российского научного фонда и фонда «Живая традиция». Именно в этой общей работе я ощутил огромную поддержку своих коллег. В секции исследований религиозного лидерства Лаборатории исследований церковных институций ПСТГУ С. Воронцов, о. Е. Лютько, о. А. Чёрный, Е. Рещикова, М. Биркин, А. Кольцов, Э. Канаева и Н. Антонов приложили множество усилий, чтобы помочь мне в выстраивании моего исследования. Все это оказалось возможным благодаря нашим руководителям, которым я выражаю свою крайнюю признательность, – о. П. Ермилову и о. Н. Емельянову.
Такую же уникальную возможность работать в коллективе выдающихся специалистов предоставил нам о. П. Хондзинский – мой научный руководитель. Его бесконечный вклад в научную работу своих учеников выразился в научном семинаре, который стал для всех нас средой погружения в проблематику русской богословской мысли. Я очень благодарен участникам этого семинара, и особенно А. Макаровой и А. Малышеву.
Поскольку в основе этой книги – кандидатская диссертация, я хотел бы поблагодарить своего научного руководителя и всех, кто принимал участие в защите работы. Отзыв ведущей организации был подготовлен на кафедре истории Церкви МГУ им. М. В. Ломоносова, и за внимательное чтение моей работы я благодарю А. Г. Зоитакиса и Г. М. Запальского. Обстоятельные и глубокие отзывы оппонентов были подготовлены О. Т. Ермишиным и С. Ю. Акишиным. Все их замечания и рекомендации я постарался учесть в этой книге. Я очень признателен проявившим интерес к моей работе и поставившим к ней важные для меня вопросы А. П. Козыреву, И. В. Борщ, К. М. Антонову и И. В. Забаеву.
В процессе работы над книгой меня очень поддерживали мои родители, друзья и коллеги. Я благодарю за помощь Ф. Угланова, о. И. Мыздрикова, А. Саитбаталову, А. Савинова, И. Суркова, К. Алексина, А. Дружинина и О. Хайлову. Нет слов, которыми я бы мог поблагодарить мою жену Веру, без ее поддержки и внимания этой книги не было бы.
Введение
В XIX веке Российская церковь столкнулась с повсеместной критикой базового для нее принципа иерархичности. Епископат воспринимался как часть бюрократической системы империи, а священство осмыслялось скорее в функциональном (необходимом для поддержания порядка и выполнения соответствующих обрядов), чем в пастырском ключе. Поскольку статус духовенства в обществе стремительно снижался, возник запрос на расширение возможного круга носителей властных полномочий в церковном сообществе. По крайней мере, на учительную роль иерархов начинают претендовать и те, кто не встроен в традиционную иерархическую структуру церкви. Этот процесс был связан не только с расширением круга потенциальных носителей власти, но и с одновременной критикой ее традиционных представителей. Обнаруживающий себя таким образом кризис доверия к церковной власти, как видится, затрагивал широкий культурный контекст[1].
Те тенденции европейской мысли fin de siècle, которые описываются в категориях неформального и личностного, ставили тогда новые вопросы перед теологией. Прежде всего это влияние сказалось на интеллектуальных поисках новых оснований в области учения о церкви (экклезиологии), предпринимаемых как внутри церковного сообщества, так и вне его. Эти поиски, с одной стороны, вполне вписываются в тот процесс, который можно было бы обозначить как антиинституциональный поворот в русской религиозной мысли. В это время критика обмирщения церкви, ее бюрократизации и замкнутости развивается даже внутри богословской школы, которая еще в середине XIX века находилась в антагонизме с представителями внеакадемического богословия или философской теологии[2]. Вслед за критикой бюрократической модели государства подвергся критике и образ церкви как клерикальной корпорации, в рамках которого церковные должности воспринимались как часть политического аппарата. В раннее Новое время категория должности уже соотносится с фигурой священника[3], но к началу XX века эта категория приобретает отрицательные коннотации, связанные не столько с долгом и обязанностями, сколько с занимаемым административным положением[4]. С другой стороны, феномен церковной власти проблематизируется в связи с трансформацией представлений о церковности как априорной социальной данности. К концу XIX века в России принадлежность к церковному сообществу перестала считаться заданной изначально: хотя формально она оставалась частью юридического статуса до 1917 года, участие в церковной жизни все чаще становилось делом личного выбора[5]. Многие русские интеллектуалы этого времени мотивировали свой выбор в пользу церкви на основании личного религиозного обращения[6]. Сложившаяся ситуация требовала от церковной иерархии обосновывать свои полномочия в полемике с теми, кто отныне сам определял свою религиозную принадлежность. Культурный контекст эпохи тем самым вынуждал преодолеть разрыв между традиционным для академического богословия пониманием власти и ее современным переосмыслением. Поэтому вопрос о религиозном лидерстве стал более интенсивно обсуждаться среди церковных интеллектуалов.
В России начала XX века вопрос об основаниях церковной власти был связан еще и с обсуждением практических проблем церковного устройства и подготовкой к собору, на котором они должны были быть решены. В предсоборный период как на официально организованных площадках для дискуссии (таких, как Предсоборное присутствие 1906 года, которое имело колоссальное значение для эпохи[7]), так и в разного рода печатных органах активно обсуждались вопросы о церковной реформе. В качестве наиболее кризисного рассматривался вопрос об управлении в церкви – на уровне высшей церковной власти, епархии и прихода[8]. На всех этих уровнях обсуждались вопросы демократизма и выборности, что отражало влияние политического контекста и идей соборности и общинности, в которых сначала славянофилы, а потом и академические богословы увидели возвращение к утерянному идеалу церковного устройства. Впрочем, поводы для дискуссий подпитывались не только возвышенными идеями, но тесно были завязаны на экономические конфликты вокруг распределения приходского бюджета. Под влиянием этой проблемы все более обострялось недоверие между прихожанами и клиром, а внутри клира – между священниками и причетниками и т. д. Институциональный кризис проецировался и в обсуждение проблем пастырской практики, затрагивающих представителей церкви от приходского духовенства до проектируемого в это время патриаршества[9]. Остро в церковной жизни этого времени встал и женский вопрос[10]. Желание возродить женские церковные служения в современной практике побудило по-новому оценить памятники древнехристианской истории и предложить их богословское осмысление. В это же самое время в культурной жизни общества возрастает значение православных монастырей, и церковная интеллигенция обращает свое пристальное внимание на феномен старчества[11]. Старцы, не противопоставлявшие себя церковной иерархии, многими воспринимались как представители неофициального, или живого, православия[12]. Такой же ажиотаж у церковных людей (прежде всего простого народа) вызвала неординарная фигура прав. Иоанна Кронштадтского[13]. Интерес к православной культуре в сочетании с критическими оценками современного положения церкви и ее иерархии в предсоборный период аккумулировался в желание преобразований в церковной жизни[14]. Однако если социальный контекст церковных реформ начала XX века изучен достаточно подробно, то неясным остается пока вопрос, какие идеи и понятия (как теологические, так и политические) владели умами, которые эти реформы осуществляли[15]. Ведь проблемы церковного реформирования были вызваны в том числе и общественным непониманием (в основе которого были как осознанный отказ от понимания, так и расхождение культурных языков) традиционных концептов, с помощью которых описывалась церковная власть в академическом богословии[16]. В связи с этим формировался новый теологический понятийный аппарат, позволяющий на современном языке описать феномен власти в церковном сообществе. Отсюда возникает интерес к понятию «харизма».
Понятие харизмы в науке на рубеже веков
Категория харизмы в современном ее широком употреблении восходит к социологической традиции и, конкретно, Максу Веберу[17]. Вряд ли Вебер, привлекший для построения своей концепции власти понятие «харизма» из протестантской научной литературы, мог ожидать, что к концу XX века его интерпретация этого концепта станет настолько популярной, что Филип Рифф решит назвать свою книгу «Харизма: дар благодати и как мы были его лишены», намекая на необходимость переосмысления веберианской парадигмы (Рифф отождествляет ее с протестантским подходом к определению харизмы)[18]. Призывая вернуться к библейскому значению харизмы, он обратил внимание на явный разрыв в понимании этого понятия в Новом Завете и в ее трактовках в XX веке[19]. Тем самым были обозначены два полюса понимания харизмы, которые необходимо учитывать при анализе дискуссий вокруг этого понятия.
Библеисты могут подтвердить, что греческое слово χάρισμα принадлежит к корпусу апостольских посланий и его значение в них включает широкий спектр коннотаций и не специфицируется в отношении церковной власти[20]. По мысли Павла, харизма – это прежде всего выражение божественных действий благодати в отношении членов церкви для реализации служения друг другу (1 Кор 12). Понятие харизмы позволяет ему обозначить локальную церковную общину не только как сообщество людей с их лишь социальными связями, но и как мистически руководимую Духом церковь.
К понятию харизмы как к термину, связанному с проблемой религиозного лидерства, исследователи обратились лишь в рамках внутрипротестантской полемики о сущности церковного устройства. В русский контекст понятие харизмы в его новом значении проникает из этих же теологических дискуссий к концу XIX века, а в начале XX века уже сама эта категория становится предметом полемики, которая распространяется и на обсуждение практических проблем Российской церкви. Тем самым, обращаясь к понятию харизмы, русские религиозные мыслители и теологи сталкивались с библейским контекстом, его актуальной интерпретацией протестантскими авторами и наработками историков и социологов.
Став востребованным в России начала XX века, понятие харизмы не ушло в прошлое с участниками церковных дискуссий и деятелями религиозно-философского ренессанса. Оно использовалось в церковных спорах об июльской декларации митр. Сергия (Страгородского) о лояльности церкви советской власти и нашло себе применение в религиозной мысли представителей русской диаспоры, в частности в «евхаристической экклесиологии» протопр. Николая Афанасьева. Можно констатировать, что и сегодня оно входит в число наиболее употребительных терминов в теологии, хотя и не имеет при этом ни четкого определения, ни ясной истории своего вхождения в поле религиозной мысли эпохи модерна. Не претендуя на разрешение всех связанных с понятием харизмы проблем, это историко-понятийное исследование позволит дать необходимую начальную «точку опоры» в современных дискуссиях о власти в церкви и поможет понять их в свете трансформаций русской религиозной культуры.
Источники и границы исследования
Работа строилась на гипотезе, что за введением понятия «харизма» стояла попытка придать новое значение концепции церковной власти. Выборка основных источников обусловлена тем, употреблял ли тот или иной автор понятие «харизма» в своих текстах или нет. Дополнительные источники, привлекаемые для раскрытия внутреннего контекста развития понятия харизмы, в свою очередь, диктовались основными источниками: привлекались преимущественно те тексты, на которые указывали авторы для объяснения своих концепций харизматической власти[21].
Некоторые из стратегий использования понятия «харизма» были рассмотрены у авторов конца XIX века: Н. Ф. Красносельцева, И. С. Бердникова, Т. И. Буткевича и А. П. Лебедева. Источниками, на основании которых реконструировались дискуссии о харизме в протестантской теологии рубежа XIX и XX веков, стали тексты А. фон Гарнака, Р. Зома, К. Холля и Х. Ахелиса.
В начале XX века понятие харизмы использовали профессора МДА И. В. Попов, С. И. Смирнов, П. А. Флоренский, Н. А. Заозерский, В. А. Троицкий, профессор СПбДА Н. Н. Глубоковский, профессора различных российских университетов Н. С. Суворов, П. А. Прокошев, П. В. Гидулянов, а также авторы, аффилиация которых так или иначе менялась по ходу их интеллектуальной деятельности, т. е. В. Н. Мышцын, Н. Н. Фиолетов, С. Н. Булгаков, А. В. Карташев и М. П. Фивейский, – тексты перечисленных авторов составляют основные источники этого исследования.
В качестве источников, отображающих использование понятия харизмы в контексте обсуждения реформ церкви, были использованы «Отзывы епархиальных архиереев», протоколы Предсоборного присутствия и Поместного собора 1917–1918 годов. Чтобы проследить возникшую на соборе идею харизмы патриарха, необходимо было обратиться к послереволюционным текстам полемики вокруг июльской декларации митр. Сергия (Страгородского).
Первое двадцатилетие XX века тем самым определяется как основные хронологические рамки исследования, поскольку именно в это время выходят основные тексты, в которых понятие харизмы используется по отношению к проблеме власти в церкви. Вместе с тем, чтобы выявить контекст возникшего интереса к понятию харизмы в протестантском и православном богословии, приходится обращаться к текстам конца XIX века. Чтобы проиллюстрировать развитие концепта харизмы, актуализированного в практической плоскости на Поместном соборе 1917–1918 годов, затрагиваются дискуссии церковных иерархов о власти в Российской церкви в 1930-х годах.
Подходы к изучению российских дискуссий о харизме
Для западной русистики вполне характерно было использование веберианской модели в изучении феномена харизматической власти[22]. Такой подход стал очень продуктивным и среди отечественных исследователей (Б. А. Успенский, В. М. Живов и др.[23]). Российские социологи и антропологи, как правило, тоже рассматривают старцев православной традиции как харизматические фигуры в русле веберианского подхода[24]. Новым на этом фоне видится подход И. Пярт, которая в своей монографии «Духовные старцы: харизма и традиция в Российском Православии» (2010) использует веберианскую модель харизмы, но переосмысляет ее, во-первых, снимая противопоставление харизмы старцев и института церковной власти, во-вторых, используя теоретические наработки о харизме русских историков начала XX века[25]. Анализу этих наработок российских ученых конца XIX – начала XX века не уделялось в литературе достаточного внимания ни среди критиков веберианской парадигмы, ни среди исследователей, работающих в ее рамках.
В России начала века понятие харизмы не вышло за рамки теологии и религиозной философии (как это произошло на Западе благодаря социологии). Но исследования осмысления харизмы в русском православном богословии не развиты, чего нельзя сказать о протестантском и католическом контекстах[26]. Весь XX век складывался критический аппарат вокруг формирующихся концепций харизмы, а его влияние впоследствии отразилось и на изучении проблематики харизмы в православном богословии. В частности, нередко утверждается, что именно протестантские теологи оказали влияние на богословие знаковых экклезиологов XX века – протопр. Николая Афанасьева и митр. Иоанна (Зизиуласа)[27]. А использование ими понятия харизмы способствовало его распространенности в православном богословии XX века[28].
Процесс критического изучения истории понятия харизмы в русском контексте начался сравнительно недавно. В 2003 году К. Фельми поставил проблему влияния идей одного из основателей дискурса о харизме Рудольфа Зома на православное богословие[29]. И. Дестивель в 2009 году в своем обзоре идей дореволюционной русской экклезиологии указывал на внимание богословов начала XX века к понятию харизмы и на полемику вокруг тезисов Р. Зома: автор рассматривает ее в ракурсе поиска новых моделей осмысления церкви[30]. В близком ключе полемику представителей отечественного церковного права с Зомом рассматривала В. Шевцова в 2021 году[31]. В статьях В. Кулаги, опубликованных в том же году, обращается внимание на процесс рецепции в русской богословской школе протестантских концепций харизматического устройства церкви (не только Р. Зома, но и А. фон Гарнака)[32]. Более подробно, но в иных хронологических рамках описан русский контекст рецепции дискурса о харизме в диссертации И. В. Борщ «Харизма и право в миссии Церкви: в диалоге с С. Булгаковым и Э. Корекко» (2012)[33].
Меня, однако, интересует не рецепция идей протестантских теологов[34], но скорее такой подход к истории понятия харизмы, который позволил бы понять причины возникновения и развития этого концепта в России. Соответственно, видится важным выявить не то или иное влияние, а функцию понятия «харизма» в дискуссиях о власти в церкви. Такой подход требует пристального внимания как к анализу истории понятия харизмы, так и к фигурам религиозного лидерства, к котором оно применяется[35].
Зафиксировать случаи употребления понятия «харизма» и корректно их систематизировать позволяет подход истории понятий (Begriffsgeschichte). Анализируя понятие харизмы в его неразрывной связи с социальной историей, я пытаюсь следовать за классиком Р. Козеллеком[36]. Но, обращаясь к этому методологическому направлению, я опираюсь на него в рамках проведенной уже апробации применительно к российскому контексту[37]. Как видится, именно история понятий позволяет обозначить процесс, в ходе которого понятия не только становятся нормативными, но и обретают практическую значимость для эпохи[38].
Понятие «харизма» в этой работе рассматривается не только как языковая единица в своем контексте; важным оказывается и то, как возникает единый дискурс о харизме с многообразием стратегий его использования. В рамках такого единства важно обратить внимание не на попытки определить понятие «харизма», которое зависело от разных контекстов и не было строго определено, а на его функцию в текстах. Выстроить это позволяет не только Begriffsgeschichte (в опоре, например, на идею «борьбы за именование» Г. Люббе с присущим ему вниманием к полемике о нормативном значении понятий[39]), но и проект интеллектуальной истории, предложенный Кв. Скиннером и его коллегами[40]. В этой оптике для нас важно выявить конфликт риторических стратегий, в которых личность автора, употребляющего понятие «харизма», и его терминологический аппарат оказываются неразрывно связаны.
Понятие харизмы возникает прежде всего в богословских текстах, что требовало бы применения к их анализу и теологического подхода. Если, по словам Дж. Б. Рассела, «история концептов, независимая от богословия, устанавливает, каким путем шло развитие концепта», а «историческое богословие задает следующий вопрос: законно ли это развитие?»[41] – то понятно, что ответ на второй вопрос требует соотнесения смыслового наполнения концепта харизмы с содержанием этого понятия в Новом Завете[42]. Выше уже было кратко упомянуто о многовековой дистанции между начальным появлением понятия «харизма» в посланиях Павла и его спецификацией, в связи с вновь пробудившимся к нему интересом в дискуссиях конца XIX – начала XX века. Хотя такого рода историческая дискретность принципиально затрудняет выстраивание концептуальных связей, тем не менее константой этого понятия и в I веке, и в начале XX века становятся заданные ему в Новом Завете мистические коннотации, которые существенно важны для осмысления содержания и итогов представленных в исследовании дискуссий.
Глава 1. Понятие «харизма» в контексте дискуссий о власти. Из протестантской Германии в православную Россию
Понятие харизмы после ап. Павла возникало в разных контекстах, но до XIX века обращения к нему были скорее спорадическими. Это понятие популяризируют ряд протестантских исследователей, но можно ли кого-нибудь из них назвать автором концепции харизматического лидерства? М. Фуко указал на ту форму авторства, которая создает не столько текст, сколько «возможность и правило образования других текстов»[43]. Как З. Фрейд «установил бесконечную возможность дискурсов» о бессознательном, а К. Маркс явился «основателем дискурсивности» об отчуждении[44], так и Р. Зом, сформулировав концепцию харизматической организации, открыл путь разнообразным высказываниям о харизме. Идеи этого немецкого теолога и правоведа активно развивались как внутри теологии (вне зависимости от конфессиональности, которая лишь придавала свою специфику рецепции его идей), так и за ее границами – в социологии и истории. Именно в этом контексте возникает понятие «харизма» как термин, затрагивающий проблематику власти в церковном сообществе. Такое значение этого понятия вызывало различные дискуссии о харизме, а их своеобразная линия уходит в русскую религиозную мысль и теологию рубежа XIX и XX веков, где возникают вариативные модели харизматического лидерства и отдельные проекты исследований этого феномена. Но чтобы понять специфику рецепции идеи харизмы в России, необходимо хотя бы кратко представить контекст, в котором две эти линии – немецкая протестантская и русская православная – пересекаются.

