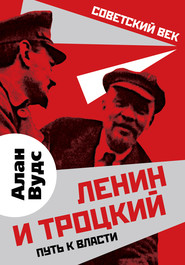скачать книгу бесплатно
Поддержка европейской социал-демократии, однако, была не до конца искренней. Долгие годы социал-демократы укрепляли дружеские отношения с народниками, в частности с Лавровым. Вожди социал-демократического движения искоса смотрели на группу Плеханова, воспринимая её не более чем эксцентричную отколовшуюся политическую группировку сектантского типа. Резкая полемика между Плехановым и всемирно известными фигурами народнического движения вызывала панику в рядах социал-демократов.
«По правде говоря, – писал Плеханов, – наша борьба против бакунистов вызывала иногда опасения даже среди западных социал-демократов. Они находили её несвоевременной. Они боялись, что наша пропаганда, вызвав раскол в революционной партии, ослабит энергию её борьбы против правительства»[43 - Плеханов Г. В., Засулич В. И. Доклад рабочему социалистическому конгрессу в Брюсселе в 1891 г. // Соч.: В 24 т. / Г. В. Плеханов. М., Пг.: Госиздат, 1923. Т. 9. С. 343.].
Обращали на себя внимание оговорки, высказанные Энгельсом в переписке с Верой Засулич. За отправную точку своего анализа Энгельс принял невозможность построения социализма в такой отсталой стране, как Россия. Маркс же в предисловии к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» (1882) и в других изданиях не исключал возможность создания бесклассового общества в России на основе сельской общины (мира), но прочно связывал этот процесс с перспективами социалистической революции в развитых странах Западной Европы.
«Если русская революция, – писал он, – послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития»[44 - Маркс К., Энгельс Ф. Предисловие ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» // Соч.: В 50 т. 2-е изд. М.: Политиздат, 1961. Т. 19. С. 305.].
В письме к Вере Засулич от 23 апреля 1885 года Энгельс осторожно высказался о книге Плеханова «Наши разногласия». Здесь же немецкий философ выразил гордость за то, что «среди русской молодёжи существует партия, которая искренне и без оговорок приняла великие экономические и исторические теории Маркса и решительно порвала со всеми анархистскими и несколько славянофильскими традициями своих предшественников»[45 - Энгельс Ф. Письмо к В. И. Засулич от 23 апреля 1885 года // Соч.: В 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. М.: Политиздат, 1964. Т. 36. С. 260.].
Другие же лидеры Второго интернационала лишь искоса смотрели на крошечную горстку русских марксистов.
Вожди западного рабочего движения, привыкшие к могучим партиям с массовой поддержкой, с искренним скепсисом относились к возможности создания революционной рабочей партии в России. Открыто выказывая уважение к группе Плеханова, в глубине души они недоумевали: «К чему все эти бесконечные споры о неразъяснённых моментах в теории? Была ли реальная необходимость в расколе из-за таких вопросов? Почему русские не могут действовать сообща?»
На фоне малочисленности и медленного развития группы Плеханова эти сомнения казались небезосновательными. Те же народники, к примеру, имели куда более прочную организацию, владели большим количеством ресурсов и обладали безграничным влиянием в России и за её пределами. Как бы то ни было, группа Плеханова представляла собой зародыш могущественной революционной партии – партии, которая спустя тридцать четыре года, в сравнительно небольшой промежуток времени, приведёт российских рабочих и крестьян к власти и установит первое в истории демократическое рабочее государство.
Группа «Освобождение труда»
«Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может!»[46 - Плеханов Г. В. Речь на Международном рабочем социалистическом конгрессе в Париже (14–21 июля 1889 г.) // Избранные философские произведения: В 5 т. М.: Политиздат, 1956. Т. 1. C. 419.]
«Там, где мы желаем видеть дуб с его могучим стволом, с его разросшимися ветвями, с массой его листвы, – сказал однажды Гегель, – мы выражаем неудовольствие, когда вместо него нам показывают жёлудь»[47 - Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. С. 13.]. Однако зародыш всякого здорового растения или животного, как известно, всегда содержит всю генетическую информацию о дальнейшем развитии организма. Эти же слова справедливы к развитию революционных течений. «Генетической информацией» здесь является теория, которая содержит в себе богатство обобщений, основанных на опыте прошлого. Теория первична: всё последующее развитие связано с ней. Группа «Освобождение труда», несмотря на малочисленность, примитивность организации и в целом непрофессиональные методы работы, совершила великое дело, обнажив теоретические корни рабочего движения в России. Обстоятельства вынуждали группу сосредоточить свои усилия прежде всего на воспитании и подготовке кадров, а именно, на разъяснении основополагающих принципов марксизма.
«При всём своём желании, – писал Плеханов, – работать на пользу создания литературы, доступной пониманию всей крестьянско-рабочей массы, мы, тем не менее, вынуждены пока ограничить свою народно-литературную деятельность тесным кругом более или менее интеллигентных читателей рабочего класса»[48 - Плеханов Г. В. Об издании «Рабочей библиотеки» // Литературное наследие Г. В. Плеханова. М.: Соцэкгиз, 1940. Сб. VIII. Ч. 1. С. 66–67. – Курсив А. В.].
Сочинения Плеханова этого периода заложили теоретический фундамент для здания новой партии. Многие из них по сей день являются классическими, хотя и не получают должного внимания со стороны изучающих марксизм. Не случайно Ленин после революции настоятельно рекомендовал к переизданию философские труды Плеханова, несмотря на то, что два этих человека долгое время вели политическую борьбу. Такие работы Плеханова, как «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия» и главным образом его блестящий труд «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», мастерски излагают ключевые идеи диалектического и исторического материализма.
Нападки Плеханова вызвали смятение в рядах народнического движения. В № 2 «Вестника “Народной воли”» за 1884 год утверждалось, что «для них [марксистов] полемика с “Народной волей” более своевременна, чем борьба с русским правительством и с другими эксплуататорами русского народа»[49 - Лавров П. Л. За пределами России // Вестник “Народной воли”. Женева, 1884. № 2. C. 65.].
Как же часто марксистам доводилось слышать подобное! За стремление к теоретической ясности, за попытку провести чёткую разграничительную линию между собой и другими политическими тенденциями марксизм неоднократно обвиняли то в «сектантстве», то в борьбе против «левого единства», то в чём-либо другом. Случаются в истории и удивительные парадоксы: один из ведущих критиков Плеханова, народоволец Лев Тихомиров, который обвинял группу «Освобождение труда» в крушении революционного единства и покорном принятии ига капитала, позже сам перешёл в лагерь монархической реакции. Не первый и не последний раз блюститель беспринципного «единства» в итоге переходит на сторону врагов рабочего класса.
Проникновение в рабочее движение в России, несмотря на болезненные трудности, продолжалось. Большие проблемы возникли с нелегальным переправлением литературы. Специально обученные люди, часто студенты, обучающиеся за границей, привлекались для перевозки нелегальной литературы по возвращении домой на каникулы. Время от времени сами члены группы Плеханова отправлялись в Россию для установления связей. Такие поездки были чрезвычайно опасными и нередко заканчивались арестами. Во внутренних районах страны крайне немногочисленных людей, которым удавалось установить с группой контакт, ценили на вес золота. В 1887–1888 годах студент Рафаил Соловейчик, бывший в эмиграции с 1884 года, вместе с товарищами предпринял попытку создать «Загранично-русский союз социал-демократов». Разругавшись с группой Плеханова, он вернулся в Россию, был арестован в 1889 году и приговорён ко многим годам тюрьмы, в которой он обезумел и покончил жизнь самоубийством. Ещё один член того же «Союза», молодой студент из Цюриха Григорий Гуковский, был арестован в Ахене и передан царскому правительству. Его приговорили к тюремному заключению, где он тоже свёл счёты с жизнью. История знает много таких случаев. У самодержавия были длинные руки. Группа Плеханова постоянно сталкивалась с риском проникновения в свои ряды шпионов и провокаторов. Одним из таких шпионов был Кристиан Хаупт, рабочий, завербованный полицией для внедрения в эмигрантские российские социал-демократические организации. Разоблачённый немецкими социал-демократами как полицейский шпион, Хаупт был выслан из Швейцарии.
Хуже всего было ощущение полной политической изоляции, подкреплённое неизбежными скандалами и склоками эмигрантской жизни. Политические эмигранты-народники, уязвлённые критикой Плеханова, горячо реагировали на то, что их клеймили «бакунистами», и требовали публичных извинений. Народники, которые составляли подавляющее большинство эмигрантов из России, крайне враждебно относились к новой группе, членов которой они считали предателями и смутьянами. Годы спустя жена Плеханова вспоминала, что «народовольцы и Н. К. Михайловский владели в эту эпоху умами и чувствами женевской эмиграции и русского студенчества»[50 - Cм.: Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода: В 2 т. М.: Изд. Р. М. Плехановой, 1925. Т. 1. С. 87.].
«В 80-е годы, после покушения на Александра II, – пишет Роза Люксембург, – в России наступил период самой жестокой безнадёжности. <…> Кладбищенская тишь царила под свинцовыми крышами правления Александра III. Русским обществом, пришедшим в уныние из-за крушения всех своих надежд на мирные реформы, а также кажущейся безрезультатности революционного движения, овладело подавленное настроение покорности. В этой обстановке апатии и малодушия среди русской интеллигенции возникли метафизически-мистические настроения…»[51 - Люксембург Р. О социализме и русской революции. М.: Политиздат, 1991. С. 273.]
Вот так Роза Люксембург воссоздаёт в памяти холодное десятилетие реакции. Могучее телосложение Александра III позволяло ему ломать руками подковы, но в умственном отношении новый царь был типичным интеллектуальным пигмеем. Фактическим правителем России был Константин Петрович Победоносцев, бывший наставник императора, обер-прокурор Святейшего Синода, полагавший, между прочим, что западная демократия прогнила до основания, а русская патриархальная система наиболее прочна, – что пресса должна молчать, а школы должны находиться под контролем церкви, – и что полномочия царя не должны знать никаких границ. Сельских священников обязали докладывать в полицию обо всех подозрительных с политической точки зрения прихожанах, а проповеди духовенства проходили сквозь сито цензуры. Преследовались все неправославные и нехристианские вероучения. Особо опасными для церкви, к примеру, считались толстовцы, а самого Толстого даже предали анафеме. Студенческие протесты беспощадно подавлялись.
Это были трудные времена. Повсеместно царили отступления, отказы от прежних идеологических убеждений и трусливые измены. Старое народничество зашло в глухой тупик. Обжёгшись на терроризме, «радикальные революционеры» развернулись на сто восемьдесят градусов и оказались прямиком в среде либеральных мещан, робко проповедуя «теорию малых дел» и выступая за безобидную культурно-просветительскую работу. Комментируя разложение народничества, Мартов писал:
«Падение революционной партии “Народной воли” было вместе с тем и крахом всего народничества. Широкие круги демократической интеллигенции были глубоко деморализованы и разочарованы в “политике” и в своей собственной героической миссии. Скромное “культурничество” на службе у либеральной части имущих классов – под этим знаком выступила оставшаяся верною народничеству часть интеллигенции в серую эпоху 80-х годов»[52 - Мартов Ю. О. Общественные и умственные течения в России 1870–1905 гг. Л.—М.: Книга, 1924. С. 48.].
Константин Победоносцев, обер-прокурор Святейшего синода. Член Государственного совета
Первые десять лет своего существования группа «Освобождение труда» настойчиво плыла против течения. Чтобы найти дорогу к молодому поколению, Плеханов стремился к сотрудничеству со всевозможными запутавшимися и полународническими элементами. Одно такое сообщество издавало журнал «Свободная Россия». Передовая статья № 1 этого журнала говорила о невозможности «сорганизовать рабочих и крестьян вокруг революционного дела»[53 - Цит. по: Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода: В 2 т. М.: Изд. Р. М. Плехановой, 1925. Т. 1. С. 60.] и выступала против выдвижения идей, способных напугать сочувствующих либералов. Контакты с Россией напоминали игру в жмурки. Положение изгнанников было отнюдь не легче. Неудовлетворённость сложившейся ситуацией читается в письмах Плеханова к своим ближайшим соратникам. Даже литературная деятельность группы была чревата трудностями. «Освобождение труда» сопровождал непрерывный финансовый кризис. Столь малочисленная группа с ограниченными возможностями для заработка обычно зависела от людей, которых в американском театральном мире называют «ангелами», – от богатых сторонников, готовых финансировать рискованные литературные начинания. Порой эти люди даже не были социалистами, как в случае с Татьяной Гурьевной Гурьевой, выделившей деньги на «ежемесячное» издание сборника «Социал-демократ». Публикации группы, однако, выходили крайне нерегулярно. Время от времени задача казалась почти безнадёжной. Летом 1885 года Плеханов писал в письме к Аксельроду: «…В действительности мы стоим над бездной всяческих долгов и неуплат, каждый день приближает нас к краю этой бездны, а за что ухватиться, чтобы не упасть, – не знаем, да и знать не можем. Плохо»[54 - Плеханов Г. В. Письмо к П. Б. Аксельроду (лето 1885 года) // Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода: В 2 т. М.: Изд. Р. М. Плехановой, 1925. Т. 1. С. 21.].
В мрачные 1880-е годы семья Плеханова жила в крайней нищете. Иногда Георгий Валентинович за скромное жалованье давал частные уроки по русской литературе, а в целом жил на скромную «пенсию» мясника, кормившего его исключительно супом и отварным мясом. Плохое питание и безотрадные условия жизни подорвали здоровье Плеханова. Некоторое время он тяжело болел плевритом, который не отпускал его всю оставшуюся жизнь. Группу «Освобождение труда», работавшую в тяжёлой обстановке и выдерживавшую беспощадное давление со всех сторон, сплачивала не только вера в светлые идеи, но и колоссальный политический и моральный авторитет Плеханова. Главную роль в группе играл именно он. Обособленность группы превратила её в тесный кружок единомышленников, который скреплялся сильными политическими и личными связями. Не зря эту группу впоследствии сравнивали с семьёй. И Плеханов был бесспорным главой этого «семейства». Важную роль здесь сыграло не только интеллектуальное превосходство Плеханова, но и крепкое чувство обоюдной зависимости, выпестованное многолетней борьбой и жертвами во имя общего дела. В этих условиях приватные и политические вопросы подчас переплетались. Плеханов олицетворял собой неприступную крепость духа, оказывая своим товарищам моральную поддержку в периоды их сомнений и личных кризисов.
Трагедия людей, подобных Аксельроду и Засулич, имеет двоякий характер. В иных исторических условиях эти талантливые люди могли бы сыграть более заметную роль в революционных событиях. Долгие годы изоляции самым катастрофическим образом повлияли на их ум и психологию. Находясь в тени Плеханова, они настолько отстали в своём развитии, что не смогли затем приспособиться к новым условиям и были отброшены на обочину революционного процесса. Обстановка, в которой соратники Плеханова работали многие десятилетия, не могла не сформировать у них менталитет узкокружковых пропагандистов. На первых порах, пока велась длительная теоретическая подготовка и создавались крошечные пропагандистские кружки, эти факторы не играли решающей роли. Они стали помехой позднее, когда марксистское движение в России столкнулось с необходимостью преодолеть ограниченную фазу пропаганды.
В течение двух десятилетий члены группы «Освобождение труда» фактически топтались на месте. Один из основателей группы Василий Николаевич Игнатов умер слишком рано и не оказал заметного влияния. Лев Григорьевич Дейч был сердцем и душой организационной стороны работы, отвечая за печать и распространение литературы. Павел Борисович Аксельрод был талантливым пропагандистом, который произвёл большое впечатление на молодых Ленина и Троцкого. Его имя долгое время не отделялось от имени Плеханова. Вера Ивановна Засулич, искренний, участливый и импульсивный человек, страдала больше других изгнанников. Она стремилась максимально сократить разрыв между «Освобождением труда» и новым поколением российских революционеров. Она всегда защищала молодёжь, преодолевая сопротивление Плеханова и поощряя новые инициативы (как правило, неудачные) молодёжных групп в эмиграции.
Терпеливая работа марксистов в конце концов принесла свои плоды. Народники, упрекавшие членов группы Плеханова в сектантстве и смутьянстве, боялись только одного – того эффекта, который производил марксизм на последователей народнических идей. Трудно переоценить влияние таких работ, как «Наши разногласия» (1885), на молодых российских революционеров, которые страстно искали выход из того очевидного тупика, в котором оказалось народничество. Сдвиги в правую сторону среди вождей народнического движения достигли кульминации благодаря открытому ренегатству Тихомирова, который в 1888 году издал брошюру под названием «Почему я перестал быть революционером». Отступничество Тихомирова стало объектом многих полемических работ Плеханова.
Крах былого революционного народничества оказал глубокое влияние на российскую молодёжь, разделив её на пролиберальных сторонников реформ и лучших представителей юного поколения, стремящихся найти дорогу к революции. В конце 1887 года Софья Михайловна Гинсбург, недавно вернувшаяся в Россию, взволнованным тоном писала лидеру народников П. Л. Лаврову:
«“Наши разногласия”, “Социализм и политическая борьба” имеют своё влияние, и влияние сильное, с которым нам придётся считаться. <…> Значение личности, значение интеллигенции в революции совершенно уничтожается ими, и я лично видела людей, разбитых его [Г. В. Плеханова] теориями. И главное – его тон, смелый, как бы уверенный в правоте, его уничтожение всего прежде существующего, низведение деятельности предшественников к нулю – всё это положительно влияет…»[55 - Цит. по: Лавров П. Л. Воспоминания о Софье Михайловне Гинсбург // Голос минувшего. 1917. Кн. 7–8. С. 225–256.]
Письмо Гинсбург показывает, как без прямого участия русских марксистов новые группировки, сконцентрированные внутри страны, обсуждали неудачи прошлого, оценивали соотношение сил и искали новый путь. Идеи Плеханова упали на плодородную почву. К 1890 году группа «Освобождение труда» начала пользоваться большим авторитетом среди марксистской молодёжи, а имя Плеханова гремело в каждом пропагандистском кружке и в каждом полицейском участке России.
Смешанное и неравномерное развитие
К концу 1860-х годов в стране насчитывалось только 1 600 километров железных дорог. За последующие два десятилетия эта цифра выросла в пятнадцать раз. В промежутке между 1892 и 1901 годами было построено не менее 26.000 километров стальных путей. Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом возникли новые промышленные центры: Балтика, Баку и Донбасс. В период с 1893 по 1900 годы нефтедобыча выросла в два раза, а добыча угля – в три раза. Промышленный рост, однако, не имел того органического характера, который был присущ английскому варианту капитализма, описанному Марксом в «Капитале». Освобождение крестьян в 1861 году создало важнейшую предпосылку для развития капиталистических отношений. Но российская буржуазия объявилась на мировой арене слишком поздно, чтобы воспользоваться этой возможностью. Ничтожные и слаборазвитые силы российского капитализма не могли составить конкуренцию мощной, влиятельной буржуазии Западной Европы и Америки. Подобно бывшим колониальным странам, Россия в значительной степени зависела от иностранного капитала, который сокрушительно доминировал в её экономике, контролируя в первую очередь финансово-банковскую систему.
«Слияние промышленного капитала с банковским, – пишет Троцкий, – проведено было в России опять-таки с такой полнотой, как, пожалуй, ни в какой другой стране. Но подчинение промышленности банкам означало тем самым подчинение её западноевропейскому денежному рынку. Тяжёлая промышленность (металл, уголь, нефть) была почти целиком подконтрольна иностранному финансовому капиталу, который создал для себя вспомогательную и посредническую систему банков в России. Лёгкая промышленность шла по тому же пути. Если иностранцы владели в общем около 40 % всех акционерных капиталов России, то для ведущих отраслей промышленности этот процент стоял значительно выше. Можно сказать без всякого преувеличения, что контрольный пакет акций русских банков, заводов и фабрик находился за границей, причём доля капиталов Англии, Франции и Бельгии была почти вдвое выше доли Германии»[56 - Троцкий Л. Д. История русской революции: В 2 т. М.: ТЕРРА, 1997. Т. 1. С. 40.].
Проникновение иностранного капитала в Россию дало резкий толчок экономическому развитию, пробудив спящего гиганта от двухтысячелетнего варварского сна и устремив его в новую эпоху. Но именно это породило в обществе взрывоопасную ситуацию. Огромное число крестьян было вырвано из консервативного деревенского уклада и втянуто в ад крупной капиталистической промышленности.
Марксистская концепция смешанного и неравномерного развития нашла своё блестящее подтверждение в чрезвычайно сложных общественных отношениях России на рубеже веков. Бок о бок с феодальными, полуфеодальными и даже дофеодальными способами производства выросли современные заводы, возведённые французами и англичанами по последнему слову техники. То же самое можно видеть сегодня в странах так называемого третьего мира, наиболее ярко – в Юго-Восточной Азии первой половины 1990-х годов. То, что происходит здесь, удивительным образом напоминает нам о событиях в России столетней давности. Политический результат, к слову, может оказаться таким же. Развитие промышленности в таких условиях выступает как стимул к революции. Пример России показывает, как быстро может произойти революция. Стремительное развитие капитализма в 1880-х и 1890-х годах привело к столь же стремительному пробуждению пролетариата. Волна стачек 1890-х годов играла роль подготовительной школы для революции 1905 года.
Всего за тридцать три года – с 1865 по 1898 годы – число фабрик и заводов, на которых работало больше ста человек, удвоилось: с 706.000 до 1.432.000. К 1914 году более половины всех промышленных рабочих работало на предприятиях с занятостью более 500 человек, а четверть – на предприятиях с занятостью более 1.000 человек. Такого не было ни в одной другой стране мира. Уже в 1890-х годах семь крупнейших фабрик Украины использовали две третьих всех рабочих металлургической промышленности России, а заводы Баку – почти всех нефтяников. До 1900 года Россия была крупнейшим мировым поставщиком нефти[57 - См.: Дан Ф. И. Происхождение большевизма // Два пути. Избранное: В 2 т. / Ф. И. Дан, И. Г. Церетели. М.: РОССПЭН, 2010. Т. 1. С. 84; Sumner B. H. A Survey of Russian History. London: Methuen, 1961. P. 324–331.].
Но, несмотря на бурный подъём промышленности, российское общество в целом характеризовала крайняя отсталость. Масса населения по-прежнему жила в деревне, где в результате европейского аграрного кризиса в 1880-х и в начале 1890-х годов началась глубокая классовая дифференциация. Падение цен на зерно разрушило целые слои крестьянства; пагубный характер этого явления представлен в творчестве А. П. Чехова, например в рассказах «Мужики» и «В овраге». Сельский полупролетарий, лишившись земли, был вынужден продавать свою рабочую силу в окрестных деревнях. Это стало обычным явлением. На другом конце социального спектра возник новый класс сельских капиталистов – кулаки, которые, обогащаясь за счёт бедной деревни, могли себе позволить выкупить землю у прежних землевладельцев. Эта ситуация с большим остроумием и проницательностью отражена Чеховым в пьесе «Вишнёвый сад».
Царский режим прилагал все усилия для укрепления сельской общины. Однако мир, который, по мнению теоретиков народнического движения, должен был стать фундаментом для крестьянского социализма, стремительно приобрёл классовые контуры. Кто не мог найти работу в деревне, шёл в города, пополняя огромный резерв дешёвой рабочей силы для новых капиталистических предприятий. Быстрый рост промышленности привёл к росту классовой поляризации внутри крестьянства, создав класс зажиточных крестьян, или кулаков, и массу безземельных сельских бедняков, которые всё чаще подавались в города в поисках работы. Ожесточённые споры между марксистами и народниками о неизбежности капитализма были в конечном итоге урегулированы самой жизнью. Ранние работы Ленина, такие как «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни», «По поводу так называемого вопроса о рынках» и «Развитие капитализма в России», были написаны для сведения счётов с народниками. Но, в отличие от более ранних сочинений Плеханова, эти работы опираются на неопровержимый язык фактов, цифр и доказательств.
Развитие капитализма в России также означало и развитие пролетариата, который вскоре возвестил всё общество о своём намерении встать в первые ряды борцов за общественные перемены. Высококонцентрированная российская индустрия в кратчайший срок создала промышленную резервную армию труда, состоящую из организованных и дисциплинированных рабочих, размещённых в стратегических точках общества и экономики. Статистика стачечного движения свидетельствует о росте уверенности и классового сознания российских рабочих в этот период[58 - См.: История Коммунистической партии Советского Союза: В 6 т. / под ред. П. Н. Поспелова. М.: Политиздат, 1965. Т. 1. С. 96.].
Таблица 1.1 – Стачечное движение в России
Весной 1880 года промышленность поразил долгосрочный кризис. Началась массовая безработица, работодатели безжалостно урезали и без того мизерную заработную плату. В дополнение к основным проблемам рабочих постоянно угнетали мелкими ограничениями и произвольными правилами, созданными специально для того, чтобы держать пролетариат в подчинении. Так, например, вводились штрафы за целый ряд реальных или мнимых преступлений против работодателей. В 1885–1886 годах возмущённые и недовольные рабочие подняли в Москве, Ярославле и Владимире волну трудовой агитации. Кульминационным моментом стала забастовка на Никольской мануфактуре, принадлежавшей Т. С. Морозову.
Одиннадцать тысяч рабочих мануфактуры выразили недовольство тем, что им пять раз за два года снижали заработную плату. Рабочих не устраивало, что подавляющее число штрафов налагалось на них за пение, громкие разговоры, прохождение мимо кабинета начальства с покрытой головой и т. д. Эти штрафы составляли в среднем четверть заработной платы, а порой и половину. Скрытый гнев и расстройства, накопленные в годы мелких волнений, краж и произвола, разразились стихией 7 января 1885 года. Лидер забастовки Пётр Анисимович Моисеенко (1852–1923), опытный революционер и бывший член «Северно-русского рабочего союза» Степана Халтурина, отбывал срок в сибирской ссылке. Замечательный человек, один из прирождённых вождей рабочего класса, Моисеенко писал впоследствии, что он сначала научился понимать, а потом действовать[59 - Моисеенко П. А. Воспоминания старого революционера. М.: Мысль, 1966. С. 235.].
Разъярённые рабочие разгромили фабричную продуктовую лавку, в которой они были вынуждены покупать еду по завышенным ценам благодаря системе выдачи заработной платы товарами, и дом ненавистного им мастера Шорина. Владимирский губернатор, встревоженный этими актами насилия, отправил на место военный патруль и казаков. Рабочие адресовали губернатору требования, но были встречены репрессиями. Под арест попали шестьсот рабочих. Войска окружили завод и, угрожая рабочим штыками, заставили их вернуться к работе. Подавленный дух рабочих, однако, ещё в течение месяца не позволял фабрике вернуться на прежний уровень производственных показателей.
Морозовская стачка потерпела поражение. Однако она повлияла на умы рабочих по всей России и подготовила почву для массовых забастовок в следующем десятилетии. На суде над бастующими, который проходил во Владимире в мае 1886 года, Моисеенко и другие обвиняемые организовали энергичную защиту и предъявили столь сокрушительные обвинения организаторам текущих фабрично-заводских условий, что все обвинения судом в итоге были сняты, а рабочие получили поддержку. Приговор суда взрывной волной пронёсся по всему российскому обществу. Реакционная газета «Московские ведомости» встревоженно восклицала:
«Но с народными массами шутить опасно. Что должны подумать рабочие ввиду оправдательного приговора Владимирского суда? Весть об этом решении мгновенно облетела весь этот мануфактурный край. Наш корреспондент, выехавший из Владимира тотчас после состоявшегося приговора, уже слышал о нём на всех станциях…»[60 - Цит. по: Ленин В. И. Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах // Полн. собр. соч.: В 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1967. Т. 2. С. 24–25.]
Морозовская стачка выявила огромную потенциальную силу пролетариата. Этот урок не прошёл даром для царского режима, который, несмотря на поддержку фабрикантов, всё-таки пошёл на уступки рабочим. 3 июня 1886 года был принят закон о штрафах, который ограничивал число наказаний и запрещал перевод штрафных денег в прибыль (эти деньги допускалось расходовать только на пособия рабочим). Реформа, как правило, есть побочный продукт революционной борьбы трудящихся за изменение общества. Как и билль о десятичасовом рабочем дне, принятый в Великобритании в XIX веке, закон о штрафах был попыткой умиротворить рабочих и воспрепятствовать их движению в революционном направлении. Одновременно предполагалось заручиться поддержкой рабочих для обуздания требований буржуазных либералов. Столь «доброжелательное» законодательство не отменяло репрессивных мер против забастовок и депортацию активистов из рабочей среды. Но этот закон, вопреки ожиданиям, не достиг желаемого эффекта и не уменьшил масштаб стачечного движения. Морозовская стачка вдохнула мужество в сердца рабочих, а уступки, на которые пошло всемогущее самодержавие, показали, что рабочие могут достигнуть большего, если не прекратят смелую борьбу за свои интересы. В 1887 году общее число стачек превысило таковое за несколько предшествующих лет. Два года спустя заместитель министра внутренних дел В. К. Плеве был вынужден доложить Александру III, что 1889 год был «богаче 87 и 88-го беспорядками, вызывавшимися фабричными условиями»[61 - Цит. по: История Коммунистической партии Советского Союза: В 6 т. / под ред. П. Н. Поспелова. М.: Политиздат, 1965. Т. 1. С. 100.].
Стихийный рост стачечного движения указывает на то, что рабочие всё больше осознают себя как класс и как общественную силу. А если рабочий ещё и прогрессивный, как, например, Моисеенко, то он способен нащупать идеи, проливающие свет на положение рабочих и указывающие им путь вперёд. Это процесс имеет двойственный характер. С одной стороны, спонтанные вспышки недовольства в России часто сопровождались луддизмом[62 - Луддизм – движение английских рабочих в первые годы промышленной революции. Луддиты ломали машины и оборудование, считая их главными причинами безработицы.], что свидетельствовало о некоторой неорганизованности и несознательности российского рабочего класса, вступившего на историческую арену. С другой стороны, забастовочное движение наглядно подтверждало теоретические аргументы Плеханова и группы «Освобождение труда». В раскалённой добела классовой борьбе началось объединение пока ещё малочисленных, слабых сил марксизма с могучим, но не до конца ещё сплочённым российским пролетариатом.
С марксистской точки зрения важность забастовки не ограничивается только борьбой за непосредственное изменение рабочего времени, заработной платы и других условий труда. Действительное значение всякой забастовки, даже неудачной, состоит в том, что рабочие, участвующие в ней, учатся. В ходе стачки рабочие вместе со своими семьями начинают понимать свою классовую роль. Они перестают думать и действовать как рабы и поднимаются до уровня настоящих, сильных умом и духом людей. Благодаря жизненному опыту и борьбе, особенно за нечто великое, массы начинают переделывать себя. Вслед за наиболее активными и сознательными рабочими массы, ощущая свои ограничения, выражают глубокое недовольство своей судьбой. Поражения чаще, чем победы, приводят рабочего-активиста к необходимости чёткого понимания механизмов общественно-политического и экономического развития.
Рост капиталистической промышленности сам по себе создаёт огромную армию пролетариата. Но даже самая лучшая армия будет побеждена, если ей не хватает генералов, майоров и капитанов, хорошо обученных военному делу. Стачечная буря 1880-х годов известила мир о том, что российский пролетариат готов к борьбе. Но она также показала слабость движения, его спонтанный, неорганизованный и бессознательный характер, а также отсутствие руководства. Армия была. Оставалось подготовить генеральный штаб. К такому выводу с необходимостью приходили наиболее сознательные рабочие. И, подобно рабочим-активистам из других стран, они серьёзно и целеустремлённо взялись за учёбу.
Период марксистских кружков
Жестокие идеологические бои предыдущего десятилетия не прошли напрасно. Всё больше молодых людей в России смотрели на марксизм как на средство изменения общества. Юноши и девушки стремились теперь не «в народ», а «к рабочим». Сложившиеся условия вынуждали перейти к строгому подпольному режиму. В заводских и фабричных районах открывались школы, где под видом обучения взрослого населения пропагандисты разъясняли небольшим группам рабочих основные идеи социализма. В этот период появилось много новых имён, о которых современный читатель почти наверняка ничего не знает. Мелкие группы, возникающие в городах одна за другой, должно быть, представлялись царским властям своего рода опасным и необъяснимым вирусом.
Народники, несмотря на все приложенные ими усилия, были абсолютно беспомощны в сближении с «народом». А иначе и быть не могло: народникам мешали ложные теории, программа и методы. Кроме того, эта, казалось бы, прежде неразрешимая проблема отныне с полной непринуждённостью решалась марксистами. В короткие сроки ими был выстроен устойчивый плацдарм для связи с рабочими. Во всех крупных промышленных центрах как грибы поле дождя росли учебные кружки, образовательные классы и «воскресные школы», где, как в парнике, выращивалось новое поколение революционных марксистов из рабочего класса – костяк будущей партии Октября. Так начался тот период пропаганды, который получил название «кружковщина». Закончив тяжёлый, утомительный рабочий день, многие пролетарии, отгоняя от себя умственную и физическую усталость, брали своими мозолистыми руками «Капитал» К. Маркса и долгие часы пробирались через трудные главы этой книги, которая, по мнению царской цензуры, не представляла никакой опасности в силу сухого и заумного языка изложения. Рабочие испытывали настолько большой интерес к этому труду, что разрывали все доступные тома «Капитала» на части и главу за главой распространяли его среди как можно большего числа людей.
Страницы полицейских архивов пестрят сообщениями об арестах революционеров, с которыми боролись, точно с бациллами, для политического оздоровления государства. Большинство этих людей почили во мраке. Но на костях и нервах этих героев и мучеников было воздвигнуто здание российского рабочего движения. Быть может, один из самых ярких рассказов о том, как функционировали эти ранние марксистские пропагандистские кружки, содержится в книге воспоминаний Н. К. Крупской о В. И. Ленине. Для установления контактов с рабочими создавался учебный кружок. Преподавание чтения, чистописания и арифметики умело сочеталось здесь с изучением, по крайней мере, основ социализма. Одной из таких школ была Смоленская вечерне-воскресная школа на Шлиссельбургском тракте, где учительницей работала Н. К. Крупская. Молодые преподаватели пользовались успехом у рабочих, с которыми они установили очень тесные отношения. «Рабочие, входившие в организацию, – писала Крупская, – ходили в школу, чтобы приглядываться к народу и намечать, кого можно втянуть в кружки, вовлечь в организацию»[63 - Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: В 10 т. М.: Политиздат, 1989. Т. 2: Н. К. Крупская. С. 13.]. В другом месте она вспоминает:
«Точно молчаливый уговор какой-то был. Говорить в школе можно было, в сущности, обо всём, несмотря на то, что в редком классе не было шпика; надо было только не употреблять страшных слов “царь”, “стачка” и т. п., тогда можно было касаться самых основных вопросов. А официально было запрещено говорить о чём бы то ни было: однажды закрыли так называемую повторительную группу за то, что там, как установил нагрянувший инспектор, преподавали десятичные дроби, разрешалось же по программе учить только четырём правилам арифметики»[64 - Там же.].
В то время как Плеханов сотоварищи развивал группу «Освобождение труда» за рубежом, в Санкт-Петербурге появился первый настоящий социал-демократический (то есть марксистский) кружок, созданный молодым болгарским студентом Димитром Благоевым (1856–1924), будущим вождём Коммунистической партии Болгарии. В 1884 году его группа назвалась «Партией русских социал-демократов» и даже начала издавать газету «Рабочий». Этот кружок, однако, просуществовал недолго: вскоре он был разгромлен полицией. Но в целом полиция уже не могла остановить раскрученное колесо революционного движения. В следующем году в столице появилась ещё одна группа социал-демократов, которая установила более тесные связи с рабочим классом. Основанная Павлом Варфоломеевичем Точисским, эта группа, включившая в свои ряды мастеров и их учеников, стала известна как «Товарищество санкт-петербургских мастеровых».
Вдалеке от столицы, на прекрасных берегах Волги, в Казани, Николай Федосеев (1871–1898) организовал студенческие группы, в одной из которых объявился молодой человек по имени Владимир Ульянов, позже известный как Ленин. Горстки молодых людей с горящими сердцами появились в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Ростове-на-Дону и других городах Поволжья. Арест Федосеева летом 1889 года привёл к распаду созданных им кружков. Много лет спустя, в декабре 1922 года, Ленин в заметке, написанной по просьбе Истпарта, с большой теплотой вспоминал «этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера»[65 - Ленин В. И. Несколько слов о Н. Е. Федосееве // Полн. собр. соч.: В 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1970. Т. 45. С. 325.].
Несмотря на огромные трудности, нестерпимые условия и постоянный риск, пропагандисты-марксисты упорно шли к своей цели. Многие из них знали, что им не придётся увидеть результаты своего труда. Им не довелось дожить до финальных сражений и узреть, как рушатся ветхие стены ненавистного им общественного порядка. Но они выполнили сложнейшую задачу. Настойчиво работая с людьми, объясняя, споря, убеждая, сосредоточив внимание на тысяче и одной рутинной задаче, они создали движение буквально из ничего, построили нечто, что незаметно для историков легло в основу грандиозного исторического события. Текучая, терпеливая работа марксистов наконец-то начала приносить свои плоды. Вся территория страны покрывалась марксистскими кружками. Подражая группе «Освобождение труда», они назывались Лигами за освобождение рабочего класса. Движение рабочих начало принимать массовый характер. И тут как гром среди ясного неба произошло нечто, что полностью изменило ситуацию.
В 1891–1892 годах страну охватил страшный голод, вызвав масштабное недоедание в деревнях и резкий скачок цен на продовольствие. Истощение, холера и сыпной тиф затронули сорок миллионов человек; погибли целые деревни, особенно в Поволжье. Голодные крестьяне хлынули в города в надежде найти хоть какой-нибудь заработок. Эти события, парадоксальным образом совпавшие с экономическим ростом, породили волну стачек в центральной и западной части России, где находились центры текстильной промышленности. Стачки сопровождались столкновениями с полицией и казаками, что хорошо видно на примере забастовки польских ткачей в Лодзи в 1892 году.
Голод вскрыл коррупцию, неэффективность бюрократии и, как следствие, бессилие самодержавия. Судьба голодающих масс произвела сильнейшее впечатление на молодёжь. В Москве и Казани снова вспыхнули студенческие волнения. Всеобщее брожение общества повлияло и на либералов. Голод пробудил земства, которые долгое время молчали благодаря реакционной политике Александра III. На всей территории страны богатые либералы начали кампании по борьбе с голодом. Многие земские либералы, вспоминая о своих левых взглядах периода «хождения в народ», облегчали свою совесть тем, что открывали частные столовые. Следуя «теории малых дел», они делали всё возможное, чтобы придать борьбе с голодом нейтральную, аполитичную окраску. Между тем социальное и политическое брожение, вызванное голодом и беспорядочными действиями царской администрации, зажгло интеллигенцию, и многие её представители влились в ряды марксистов, рьяно боровшихся с либерально-народнической идеологией. Накал этой борьбы отражён в воспоминаниях Крупской об одном из первых вмешательств Ленина в политические дела по прибытии его в Санкт-Петербург:
«На Охте у инженера Классона… решено было устроить совещание… Для ради конспирации были устроены блины. <…> Речь шла о путях, какими надо идти. Общего языка как-то не находилось. Кто-то сказал – кажется, Шевлягин, – что очень важна вот работа в комитете грамотности. Владимир Ильич засмеялся, и как-то зло и сухо звучал его смех – я потом никогда не слыхала у него такого смеха: “Ну, что ж, кто хочет спасать отечество в комитете грамотности, что ж, мы не мешаем”»[66 - Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: В 10 т. М.: Политиздат, 1989. Т. 2: Н. К. Крупская. С. 10.].
Наблюдая за ситуацией издалека, Плеханов быстро сообразил, что пришло время для коренных тактических изменений. Голод продемонстрировал вопиющую беспомощность самодержавия. Идея представительного собрания, Земского собора, стала набирать популярность среди либерально настроенной интеллигенции. Плеханов обеими руками ухватился за предоставленную возможность. В четвёртой книге сборника «Социал-демократ» он опубликовал памфлет под названием «Всероссийское разорение», в котором показал, что голод имеет социальные, а отнюдь не естественные причины. Констатируя беспорядок, вызванный коррупцией и бездарностью царской власти, он призвал к широкой пропаганде и агитации, связав насущные требования масс с идеей свержения самодержавия.
Конечно, всё, что касается Земского собора, принимало в устах либералов реформистский и, следовательно, утопический характер. Но Плеханов, демонстрируя живой революционный инстинкт, попытался связать созыв Земского собора с широкой мобилизацией масс и привлечением лучших представителей демократической интеллигенции к идее открытой борьбы против царизма.
«Все честные русские люди, – писал он, – которые, не принадлежа к миру дельцов, кулаков и русских чиновников, не ищут своей личной пользы в бедствиях народа, должны немедленно начать агитацию в пользу созвания Земского собора…»[67 - Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении // Соч.: В 24 т. М.: Госиздат, 1928. Т. 3. С. 353.]
Статья Плеханова была первой конкретной попыткой ответить вопрос о возможности соединения рабочего движения с движением других угнетаемых классов перед лицом общего врага – царизма. В условиях самодержавного гнёта временные и эпизодические блоки с буржуазными либералами и наиболее радикальными представителями мелкой буржуазии представлялись неизбежными. Такие соглашения, однако, ни в коем случае не предполагали программных соглашений. Напротив, каждая сторона должна была выступить под лозунгом «Врозь идти, вместе бить!». Оберегая либералов и мелкобуржуазных демократов от преследования царской власти и достигая редких соглашений в решении практических вопросов, таких как пересылка запрещённой литературы и защита арестованных товарищей, марксисты в то же время подвергали их безжалостной и неослабевающей критике за их нерешительность и колебания. Такая тактика позволяла использовать каждую возможность для развития рабочего движения, укрепления марксизма и становления классового сознания пролетариата, подобно тому как альпинист использует каждую расселину и щель на пути к вершине.
«Полное экономическое разорение нашей страны, – призывал Плеханов, – может быть предупреждено лишь полным политическим её освобождением!»[68 - Там же. С. 354.] Ужасная ситуация, в которой оказались массы, с неизбежностью ставила вопрос о революционной борьбе с царизмом, центральное место в которой отводилось рабочему классу. Пока ещё никто не говорил о возможности социалистической революции в России, но умелое использование революционно-демократических требований, таких как требование созыва Земского собора, несомненно, сыграло важную агитационную роль в мобилизации революционных сил вокруг программы марксистов. Эта политика не имела ничего общего с современной политикой меньшевиков и сталинистов, которые, призывая к «объединению всех прогрессивных сил», стремятся подчинить рабочее движение так называемой прогрессивной буржуазии. Плеханов и особенно Ленин высмеяли идею «народного фронта», которой народники тех лет торговали по мелочам. Прежде чем сблизиться с меньшевиками, Плеханов дал всем, кто обвинял его в запугивании либералов, решительный отпор: «Во всяком случае, – писал он, – мы считаем самым вредным родом запугивания – запугивание социалистов призраком запуганного либерала»[69 - Плеханов Г. В. О задачах социалистов в борьбе с голодом // Соч.: В 24 т. М.: Госиздат, 1928. Т. 3. С. 417.].
От пропаганды к агитации
Акцент на массовую революционную агитацию стал для многих неожиданностью. Будущий экономист Борис Наумович Кричевский, к примеру, не замедлил раскритиковать группу «Освобождение труда» за «конституционализм», не понимая необходимости продвижения демократических лозунгов бок о бок с элементарными требованиями рабочего класса. В то же время в России революционеры старой закалки не спешили ничего менять. Былые привычки, связанные с ведением небольших пропагандистских кружков, отмирали болезненно. Часто переходу к массовой агитации предшествовали жаркие дебаты. В статье «О задачах социалистов в борьбе с голодом» (1892) Плеханов дал классическое определение, подчёркивающее различие между пропагандой и агитацией:
«Секта может удовольствоваться пропагандой в узком смысле слова. Политическая партия – никогда. …Пропагандист даёт много идей одному лицу или нескольким лицам… Но история делается массой. <…> Тут-то и вступает в свои права агитация. Благодаря ей устанавливается и укрепляется необходимая связь между “героями” и “толпой”, между массой и её вожаками»[70 - Плеханов Г. В. О задачах социалистов в борьбе с голодом // Соч.: В 24 т. М.: Госиздат, 1928. Т. 3. С. 396–397; 414.].
Плеханов настоятельно призывал марксистов проникать в широкие массы с агитационными лозунгами, начиная с наиболее насущных экономических требований, таких как требование восьмичасового рабочего дня:
«…Все, даже самые отсталые, рабочие наглядно убеждаются в том, что осуществление, по крайней мере, некоторых социалистических требований выгодно для рабочего класса. <…> Экономические реформы, подобные ограничению рабочего дня, хороши уже тем одним, что они приносят непосредственные выгоды рабочему…»[71 - Там же. С. 397.]
Это уличает во лжи реформистов, обвиняющих марксизм в том, что он якобы «не заинтересован в реформах». Напротив, марксисты всегда шли в авангарде борьбы за перемены в жизни рабочего класса, выступая за улучшение условий труда и повышение заработной платы, за сокращение рабочего дня и внедрение демократических прав. Разница между марксистами и реформистами заключается отнюдь не в принятии или непринятии реформ (такая постановка вопроса сама по себе нелепа). Марксисты считают, что серьёзные реформы могут иметь успех только благодаря мобилизации сил рабочего класса, выступающего против капиталистов и государства. Кроме того, они настаивают на том, что единственный способ закрепить успех, достигнутый рабочими, и гарантировать соблюдение всех требований – свержение власти капитала и социалистическое преобразование общества. Такое преобразование, однако, невозможно без ежедневной борьбы за прогресс ещё при капитализме, ведь эта борьба организует, учит и воспитывает рабочий класс, подготавливая почву для окончательного сведения счётов со своими врагами.
Условия для перехода к массовой агитации в России подготовило развитие капитализма. В 1890-х годах наблюдался рост стачечного движения, центром которого стал Санкт-Петербург. Здесь располагались крупные батальоны российского труда – рабочие металлопромышленности, восемьдесят процентов которых были сосредоточены на крупных предприятиях, среди которых выделялся Путиловский завод. Санкт-Петербург стал площадкой для быстрого развития рабочего класса. В период между 1881 и 1900 годами число рабочих в столице выросло на 82 процента, в то время как в Москве за то же время – только на 51 процент. Сравнительно высокий процент петербургских рабочих отличался грамотностью. Умением читать и писать здесь могли похвастаться 74 процента представителей рабочего класса, в остальной России – не более 60 процентов.
Это было новое, молодое поколение. В 1900 году более двух третей от общего населения Санкт-Петербурга были уроженцами провинции, а более 80 процентов жителей города составлял пролетариат. Люди прибывали сюда со всех концов империи: обычно это были голодные, нуждающиеся крестьяне, отчаянно ищущие работу. Те, кому повезло, устроились на крупные текстильные и металлургические заводы. Причём в столице преобладал металлургический сектор, в отличие от Москвы, где сосредоточилась текстильная промышленность. Более половины рабочих Санкт-Петербурга работали на предприятиях с занятостью более 500 человек, а две пятых – на предприятиях с занятостью более 1.000 человек. Те же, кому не повезло, стали нищими, уличными торговцами или проститутками.
Рабочий день был долгим (от 10 до 14 часов), а условия труда – ужасными. Людям часто приходилось жить в переполненных заводских бараках, где плохие жилищные условия усугублялись грязным воздухом, водой и обилием нечистот. По этой причине Санкт-Петербург приобрёл репутацию самой неблагоприятной столицы Европы. Текстильным рабочим повезло меньше всего: им приходилось в жаре, духоте долго и монотонно трудиться под оглушительный шум, царящий в цехах. Один правительственный инспектор отмечал:
«Насколько тяжело отражается работа прядения на здоровье рабочих, можно наглядно убедиться по их внешнему виду: измождённые, испитые, изнурённые, со впалою грудью, они производят впечатление больных, только что вышедших из госпиталя…»[72 - Цит. по: Ленин. Петербургские годы. По воспоминаниям современников и документов // сост. А. И. Иванский. М.: Политиздат, 1972. С. 358.]
Около половины текстильных рабочих составляли женщины. Эта особо эксплуатируемая часть рабочего класса, включающая в себя недавно прибывших крестьян и неквалифицированных рабочих, оказалась крайне нестабильной. Каков революционный потенциал текстильных рабочих, показали уже стачки 1878–1879 годов, когда была предпринята первая попытка связать забастовки с революционным движением. Эти стачки напугали власть и заставили её пойти на уступки. Первый фабричный закон от 1 июня 1882 года запрещал на фабриках и заводах работу детей, не достигших 12-летнего возраста, и ограничивал рабочий день малолетних в возрасте от 12 до 15 лет восемью часами в сутки. Второй закон, принятый в 1885 году, запрещал ночную работу в определённых отраслях промышленности.
Рабочим не суждено было насладиться плодами своей победы. Стачки были отражением экономического бума, связанного с Русско-турецкой войной 1877–1878 годов. В период спада, который наступил чуть погодя, капиталисты взяли реванш. В 1880-х годах наступила тяжёлая депрессия, вызванная массовыми увольнениями и безработицей, особенно в металлопромышленности. Тысячи рабочих и их семьи впали в страшную нищету. Те же, кто остались на заводах, должны были, понурив голову и стиснув зубы, смириться с безжалостным понижением заработной платы. В начале 1890-х годов экономика начала оживляться. Это стало особенно заметно с 1893 года. Капитальное строительство железных дорог стимулировало рост металлургической промышленности в Санкт-Петербурге и на юге России. Активно развивались нефтяные и угольные месторождения. И тут же подул свежий ветер классовой борьбы. Идея агитации стремительно захватила умы молодёжи. Ей становилось тесно работать в пропагандистских кружках. События, случившиеся при участии социал-демократов в западных областях Польши и Литвы, а именно: стачка в Лодзи и первомайская демонстрация 1892 года, свидетельствовали о взрывоопасной ситуации.
Царская Россия была, по выражению Ленина, подлинной «тюрьмой народов». Разгул реакции после убийства Александра II привёл к усилению национального гнёта. Под мрачным надзором Победоносцева два сторожевых пса самодержавия – полиция и Православная церковь – расправлялись со всем, что имело привкус инакомыслия. Жертвами этих псов-близнецов стали: Лев Толстой, польские католики, прибалтийские лютеране, евреи и мусульмане. Браки, освящённые в католических храмах, не признавались российским правительством. При Николае II церковное имущество армянских христиан было конфисковано государством. Калмыцкие и бурятские храмы были закрыты. Принудительная русификация сопровождалась обязательным обращением в православную веру.
Развитие промышленности шло быстрыми темпами в западной части Российской империи, в Царстве Польском и в Литве. Западные районы, развитые в промышленном отношении лучше, чем восточные, имеющие более грамотное население и находящиеся под сильным немецким влиянием, быстро наполнились социал-демократами. Однако развитие рабочего движения здесь осложнялось национальным вопросом. Находясь под гнётом царской России, польские и прибалтийские рабочие и крестьяне несли на себе двойное ярмо. Жители Польши, некогда поделённой между Россией, Австрией и Пруссией, испытывали национальное угнетение, что имело серьёзные последствия для развития здесь рабочего движения. Поражение восстания 1863 года и последовавшие затем безжалостные репрессии поддерживали в поляках ненависть к России.
Российские власти, особенно чувствительные к беспорядкам на территории Польши, безжалостно расправились с первыми польскими социал-демократическими группами, подвергнув их участников арестам, пыткам и тяжёлым каторжным работам. Но рабочее движение, подобно лернейской гидре, реагировало на отсечение одной головы появлением двух новых. Прибалтика скоро превратилась в центр марксистской агитации и пропаганды, став перевалочным пунктом для распространения нелегальной литературы и переписки между группой «Освобождение труда» и марксистским подпольем в России. Бернард Пэрс так комментирует положение дел в Польше на тот момент:
«Варшавский университет был полностью русифицирован, и полякам преподавали их родную литературу по-русски. В 1885 году русский язык как язык обучения был введён в начальных школах. Обслуживающий персонал польских железных дорог отправили трудиться в другие части империи. В 1885 году полякам запретили покупать землю в Литве и Волыни, где они составляли большую часть дворянства»[73 - Pares B. A History of Russia. London: Jonathan Cape, 1947. P. 465.].
Еврейское рабочее движение
Парадоксально, но царизм, рассматривающий Польшу как витрину для демонстрации промышленного роста, всеми силами пытался препятствовать развитию национального движения. Сам промышленный рост, однако, подрывал царский режим и порождал массовое недовольство в больших и малых городах, расположенных на западной окраине Российской империи. Невыносимые условия труда и мизерная заработная плата дополнялись здесь чрезмерной эксплуатацией рабочих: обычная прибыль капиталистов составляла здесь 40–50 процентов, и всё чаще приходилось слышать о 100-процентной прибыли. Это создало благоприятные условия для социалистической пропаганды. Посреди этой холодной, каменной пустыни реакции студент по имени Людвик Варынский основал революционную партию «Пролетариат», которая стала «предтечей современного социалистического движения в Польше»[74 - Fr?lich P. Rosa Luxemburg: Her Life and Work. London: V. Gollancz ltd., 1940. P. 20.]. Вместе с другими социалистически настроенными студентами Варынский основал кружок, объединивший рабочих и зачатки профсоюзов. В 1882 году из нескольких групп сформировался «Пролетариат», который организовал ряд стачек, главной из которых была массовая стачка в Варшаве, жестоко подавленная войсками. Многих лидеров «Пролетариата» приговорили к многолетнему тюремному заключению. Четверо из них были повешены. Самому Варынскому повезло чуть меньше. Его приговорили к шестнадцати годам тюрьмы и заключили в печально известную Шлиссельбургскую крепость близ Санкт-Петербурга, где он умер медленной смертью.
После серии арестов «Пролетариат» распался. Когда к движению присоединилась Роза Люксембург, он него уже почти ничего не осталось. Лео Йогихес, выходец из богатой еврейской семьи, потратил большую часть личных средств на создание и финансирование новой социалистической группы в Вильне в 1885 году. Позже социал-демократы из этого города, внедрив массовую агитацию в рабочую среду, стали в этом деле первопроходцами, а их методы переняли все марксисты в России. Молодые силы польского пролетариата получили мощную поддержку от вновь пробудившихся сил еврейского рабочего класса.
Большая часть евреев проживала в Польше и других западных областях империи. С 1881 года это были единственные территории, где им разрешалось жить. В 1886 году евреев массово сместили с административных постов и ограничили им право заниматься определёнными профессиями. Только десятой части всего еврейского населения была открыта дорога в университеты, а в Москве и Санкт-Петербурге численность евреев в высших учебных заведениях не должна была превышать пяти процентов. В 1887 году такое же правило применили к средним школам. В 1888 году в расписках в получении правительственных стипендий все евреи были отмечены как православные. Детей обращали в православную веру против воли их родителей, а ставшим православными евреям без лишних вопросов оформляли разводы. Деятельность синагог и производство кошерного мяса облагались пошлинами. Для разобщения и дезориентации рабочих власти устраивали еврейские погромы: дома подвергались разграблению, а мужчин, женщин и детей калечили и убивали сборища представителей люмпен-пролетариата. Всё это, к слову, происходило при полном попустительстве полиции.
Многочисленное еврейское население западных регионов, прежде всего ремесленники и мелкие буржуа, жило на краю пропасти. Неудивительно поэтому, что среди еврейских кустарей и рабочих, этой самой угнетённой общественной прослойки, стали распространяться революционные идеи. Несмотря на невысокий процент еврейского населения в масштабах Российской империи, евреи-революционеры в дальнейшем играли ведущие роли в марксистском движении. Многонациональная Вильна, отличавшийся большой концентрацией рабочих и ремесленников еврейского происхождения, стала одним из первых оплотов социал-демократии в России. С 1881 года и вплоть до Октябрьской революции еврейский народ жил в постоянном страхе перед угрозой жестоких погромов, имевших расовый подтекст. Погромщики настраивали польских и русских крестьян против евреев, пользуясь их религиозными предубеждениями (нередко погромы приурочивались к Пасхе) и ненавистью к еврейским торговцам и ростовщикам. Между тем подавляющее большинство евреев были бедными рабочими и кустарями. В 1888 году специальная правительственная комиссия сообщала, что 90 процентов евреев «едва сводят концы с концами, живут в нищете, в самых угнетающих санитарных и общих условиях» и что «сам пролетариат иногда является мишенью для бурных народных восстаний [погромов]»[75 - Цит. по: Dubnow S. M. History of the Jews in Russia and Poland: From the Earliest Times Until the Present Day: In 3 vol. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1920. Vol. 3. P. 367.].
У еврейского рабочего движения в западной части России, Польше и Литве богатая история. Волна стачек, которая пронеслась по этим регионам с 1892 года, вызвала брожение всех угнетённых национальностей, особенно евреев, которые подвергались самому сильному национальному гнёту. Культурная жизнь евреев переживала своего рода возрождение. Сбросив с себя окаменелый панцирь прежней культуры, зародившейся два тысячелетия назад, еврейская интеллигенция стала открытой для наиболее радикальных и революционных идей. На место прежней исключительности и политики изоляционизма пришёл настойчивый поиск контактов с другими культурами, прежде всего с русской. Уже в 1885 году группа бедных студентов раввинской академии приложила усилия к созданию революционной народнической организации в Вильне. Теперь и еврейские рабочие присоединились к борьбе и стали жадно изучать русский язык, чтобы читать книги и открывать для себя новые идеи.
Еврейские рабочие организовали общества взаимного страхования, или кассы, в которые поступали денежные средства для взаимовыгодных предприятий. Быть может, это произошло впервые с тех пор, как евреев изгнали из гильдий в Германии и Польше. Кстати говоря, торжественными ритуалами посвящения, ежегодными праздниками и строгой секретностью ведения дел эти сообщества очень напоминали сами средневековые гильдии и ранние британские ремесленные союзы. Ремесленники и рабочие в таких сообществах, придерживаясь консервативных взглядов, были враждебно настроены к социалистическим идеям и, как правило, имели своим центром какую-нибудь синагогу. Однако двойное ярмо, которое несли на себе еврейские рабочие, будучи угнетёнными и как рабочие, и как евреи, создало исключительно благоприятные условия для распространения революционных и социалистических идей. «Стихийное движение, – пишет Владимир Акимов (Махновец), – словно ветер, налетело и всколыхнуло те слои еврейского общества, которые называются “низами” и которые казались неподвижными и неспособными двигаться, так точно, как неспособными они казались воспринять и руководиться какой бы то ни было сознательной идеей»[76 - Акимов (Махновец) В. П. Очерк развития социал-демократии в России. СПб.: Изд-во О. Н. Поповой, 1906. C. 13.]. Вот почему социалистически настроенные еврейские рабочие и интеллигенты, несмотря на свою малочисленность, сыграли виднейшую роль в российском революционном движении.
Денежные средства, поступающие в кассы, первоначально использовались не только для выплаты пособий по болезни и т. д., но и для совместной покупки Торы! Между тем в новой обстановке классовой борьбы денежные фонды рабочих всё чаще использовались для решения трудовых споров. Первая документально подтверждённая стачка еврейских рабочих состоялась в Вильне в 1882 году: это была стачка рабочих чулочно-трикотажной фабрики, причём ключевую роль здесь играли женщины. Наибольшую активность проявляли еврейские ремесленники: ювелиры, чулочники, портные, плотники, наборщики и сапожники. К 1895 году в одной только Вильне насчитывалось двадцать семь ремесленных организаций, в которых состояло 962 человека. Любопытно, что «в самом еврейском рабочем движении были ремесленники, которые задавали тон, и рабочие сигаретных и спичечных фабрик, которые не поспевали за ними»[77 - Mendelsohn E. Class Struggle in the Pale: The Formative Years of the Jewish Workers’ Movement. Cambridge University Press, 1970. P. 157.]. Этот классовый состав еврейского рабочего движения, аналогичный составу других еврейских организаций по всей России, несомненно, сказался на той консервативной роли, которую играл Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России (Бунд) в первые годы существования РСДРП. Самые передовые части еврейского сообщества были далеки от того еврейского национализма, который впоследствии взяли на вооружение сионисты. Напротив, они увидели спасение еврейского народа в отказе от старого, ветхого традиционализма и во вхождении в русскую культурную и политическую жизнь. «Мы были тогда ассимиляторами, – вспоминает активист-социалист того периода, – мы тогда и не мечтали о специальном массовом еврейском движении. Эта задача выдвинулась позже. Нашей задачей тогда была выработка кадров для русского революционного движения, приобщение их к русской культуре»[78 - Копельзон Т. М. Еврейское рабочее движение конца 80-х и начала 90-х гг. // Революционное движение среди евреев. Сборник первый. М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1930. С. 71.]. Еврейские социал-демократы носили русскую одежду, читали русские книги и много говорили на русском языке.
Попав под влияние социалистических кружков, молодое еврейское поколение пробудилось от культурно-политического сна. Особенно поражала храбрость молодых еврейских работниц, преисполненных решимости участвовать в движении, несмотря на враждебное отношение к нему старейшин.
«Я точно вижу их вновь, – вспоминала одна из участниц движения, – этих ящичников, мыловаров, сахарников, которые были в моём кружке… Бледные, тощие, с покрасневшими глазами, измученные и смертельно уставшие.
Они собирались поздно вечером и, кажется, были готовы сидеть в душной комнате, которую освещала только небольшая газовая лампа, до утра. Дети часто спали в одной комнате, а женщины ходили вокруг дома, прислушиваясь к шагам и опасаясь визита полиции. Девушки упоённо слушали оратора и задавали ему вопросы, совершенно забывая об опасности. Они забывали о том, что дорога домой занимает сорок минут, что придётся идти по грязи и глубокому снегу, закутавшись в старое, изодранное пальто. Они забывали, что стук в дверь среди ночи чреват потоком ругани и проклятий от родителей. Забывали, что дома может не быть куска хлеба и им придётся спать голодными. А через несколько часов уже рассвет, и нужно снова бежать на работу.
С каким напряжённым вниманием слушали они рассказы по истории культуры, о прибавочной стоимости, потреблении, зарплате, жизни в других странах. Как много вопросов они задавали! Какой радостью загорались их глаза, когда руководитель доставал свежий номер “Идишер арбетер”, “Арбетер штимме” или просто брошюру! Как гордилась девушка, если ей разрешали взять чёрную книжечку домой!
Сколько бед ждало бы молодых работниц дома, если бы в округе прознали о том, что они водятся с akhudusnikers, с “братьями и сёстрами”, что читают запрещённую литературу! Сколько оскорблений, побоев, слёз! Но эти меры не помогали. “Их тянет туда, точно магнитом”, – жаловались матери друг другу»[79 - Цит. по: Levin N. Jewish Socialist Movements, 1871–1917. While Messiah Tarried. London: Routledge & Kegan Paul, 1978. P. 240.].
Здесь, в Литве и Белоруссии, еврейские рабочие и полностью обрусевшая еврейская интеллигенция продолжали вести агитацию, которая превосходила своим размахом ту ограниченную пропаганду, распространённую на остальной территории страны. Они печатали листовки на идише, понятном каждому еврейскому рабочему, в которых выражали требования масс. В это время Юлий Мартов, девятнадцатилетний студент, исключённый из Санкт-Петербургского университета за революционную деятельность, прибыл в Вильну, к тому моменту уже ставшей центром социал-демократии. Мартов вспоминал, что вопрос об агитации был поднят самими рабочими, которые вынудили марксистов выйти за пределы пропагандистских кружков.
«В своей работе, – писал он, – я дважды подробно рассказывал о целях и методах социализма, но действительная жизнь вносила свои коррективы… Члены кружка сами поднимали вопрос о каком-либо событии, случившемся на их фабрике или заводе… либо появлялся кто-либо с другого места работы, и мы тратили время на обсуждение тамошних условий труда»[80 - Ibid.].
На волне успеха группа из Вильны выпустила брошюру «Об агитации», которая вызвала настоящий переполох. Этот памфлет, написанный Аркадием Кремером и Юлием Мартовым, стал широко известен как Виленская программа. Несмотря на свою сыроватость, этот документ, провозгласивший, что освобождение рабочего класса должно стать делом самих рабочих, вызывал неподдельный интерес в период с 1893 по 1897 годы, когда поворот к агитации был предметом жарких дискуссий. Это была здоровая реакция против кружковщины, движимая большим желанием установить связи с массами. Брошюра бросала смелый вызов существующему порядку вещей.
«“Русская социал-демократия стала на ложный путь”, – заявили наши еврейские товарищи в брошюре “Об агитации”. Она замкнулась в кружки. Она должна прислушиваться к биению пульса толпы, уловить его, стать на шаг впереди толпы и вести её. Вести рабочую массу может и должна социал-демократия потому, что стихийная борьба пролетариата ведёт его неизбежно к тому самому исходу, который сознательно выбрал себе революционер, социал-демократ, и признал своим идеалом»[81 - Акимов (Махновец) В. П. Указ. соч. С. 17.].
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса»
Осенью 1893 года петербургские социал-демократы оправлялись после ареста их лидера Михаила Ивановича Бруснева. По словам Бруснева, группа ставила своей «главною и основною цель выработать из участников… рабочих кружков вполне развитых и сознательных социал-демократов, которые во многом могли бы заменить пропагандистов-интеллигентов»[82 - Бруснев М. И. Возникновение первых социал-демократических организаций (Воспоминания) // Пролетарская революция. 1923. № 2 (14). С. 21.]. В 1891 году Бруснев со своими соратниками организовал демонстрацию рабочих на похоронах старого революционера Николая Васильевича Шелгунова. Демонстрация собрала порядка ста человек. Группа Бруснева установила связи с крупными заводами и всеми главными рабочими районами города. Первоначально большинство группы составляли студенты, но постепенно классовый состав группы претерпел заметные изменения. Студенты приступили к кропотливой работе по воспитанию профессиональных революционеров, вышедших из рабочей среды, – «русских Бебелей», как они их называли. После волны арестов, затронувших Бруснева и ряд его товарищей, группа была реорганизована Степаном Ивановичем Радченко. К группе присоединились участники марксистcкого кружка при Технологическом институте, некоторым из них было суждено сыграть важную роль в развитии партии. Взять хотя бы Надежду Константиновну Крупскую, будущую жену и соратницу Владимира Ильича Ленина.