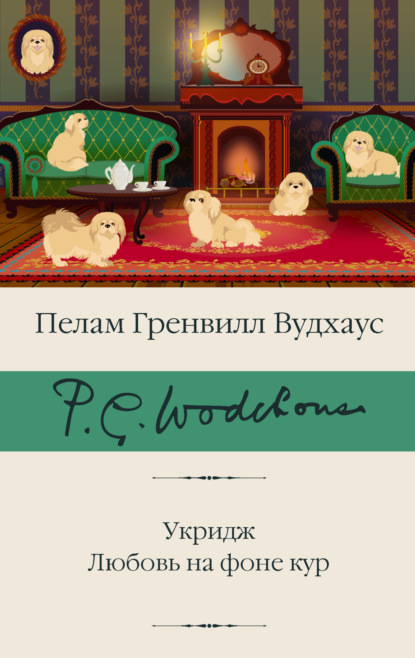
Полная версия:
Укридж. Любовь на фоне кур
– Но почему?
– Я хочу рассыпать их веером на столе перед подлюгой Никерсоном.
– Он живет тут?
Мы приблизились к дому с красной крышей, укрытому от дороги деревьями. Укридж с силой забарабанил дверным молотком.
– Скажите мистеру Никерсону, – повелел он горничной, – что пришел мистер Укридж и хочет поговорить с ним.
В облике мужчины, который незамедлительно вошел в комнату, куда нас проводили, сквозило неуловимое, но заметное нечто, отличающее кредиторов по всему миру. Мистер Никерсон был человеком среднего роста, почти целиком огороженный бородой, сквозь чащобу которой он взирал на Укриджа оледенелыми глазами, извергающими волны вредоносного животного магнетизма. С первого взгляда становилось ясно, что он не питает к Укриджу особой любви. В общем и целом мистер Никерсон походил на одного из наименее приятных пророков Ветхого Завета, готовящегося к допросу плененного царя амалекитян.
– Ну-с? – сказал он, и мне еще ни разу не доводилось слышать, чтобы это словечко произносилось столь сурово.
– Я пришел по поводу платы за аренду.
– А! – сказал мистер Никерсон осмотрительно.
– Внести ее, – сказал Укридж.
– Внести ее! – вскричал мистер Никерсон недоверчиво.
– Вот! – сказал Укридж и неподражаемым жестом швырнул деньги на стол.
Теперь я понял, почему великий мыслитель одобрил мелкие купюры. Они придавали зрелищу особую внушительность. В открытое окно веял легкий ветерок и так музыкально зашелестел этим нагромождением богатства, что мрачная суровость мистера Никерсона, казалось, исчезла, будто след дыхания с лезвия бритвы. На миг его глаза остекленели, и он чуть пошатнулся, а затем, когда начал собирать деньги, обрел благолепие епископа, благословляющего паломников. Солнце воссияло на небосклоне для мистера Никерсона.
– Что же, благодарю вас, мистер Укридж, – сказал он. – Весьма вам благодарен. Надеюсь, никакой обиды?
– Не с моей стороны, старый конь, – отозвался Укридж благодушно. – Дело есть дело.
– Вот-вот.
– Ну, так, пожалуй, я теперь же заберу собак, – сказал Укридж, угощаясь сигарой из коробки, которую только теперь обнаружил на каминной полке, и самым дружеским образом опуская в карман еще две. – Чем быстрее они вернутся ко мне, тем лучше. Они и так уже лишились целого дня занятий.
– Ну, разумеется, мистер Укридж, разумеется. Они в сарайчике в саду у забора. Я незамедлительно приведу их к вам.
Он удалился через дверь, что-то вкрадчиво лепеча.
– Поразительно, как эти индивиды любят деньги, – вздохнул Укридж. – Такая пошлость. Глаза подлюги засверкали, положительно засверкали, малышок, пока он сгребал наличность. А неплохие сигарки, – добавил он, прикарманивая еще три. Снаружи послышались спотыкающиеся шаги, и в комнате вновь появился мистер Никерсон. Его, казалось, что-то угнетало. Обрамленные бородой глаза остекленели, губы, хотя разглядеть их в густых дебрях было не так-то просто, как будто горько искривились. Он обрел сходство с малым пророком, которого съездили по уху чучелом угря.
– Мистер Укридж!
– А?
– Со… собачки!
– Ну?
– Собачки!
– Что с ними?
– Они исчезли!
– Исчезли?
– Убежали!
– Убежали? Как, черт побери, могли они убежать?
– Оказывается, в задней стене сарайчика отвалилась одна досточка, и собачки, наверное, пролезли наружу. От них и следа не осталось.
Укридж в отчаянии воздел руки к небу. Он надулся, как аэростат. Пенсне закачалось на переносице, полы макинтоша угрожающе захлопали, а воротничок сорвался с запонки. Его кулак с грохотом опустился на стол.
– Провалиться мне!
– Я крайне сожалею…
– Провалиться мне! – вскричал Укридж. – Какое испытание! Какое тяжкое испытание! Я приезжаю сюда положить начало великому предприятию, которое со временем принесло бы оживление торговли и преуспеяние здешнему краю, и не успеваю я оглядеться и заняться предварительной подготовкой, как является этот вот субъект и лямзит моих собак. А теперь он сообщает мне с беззаботным смешком…
– Мистер Укридж, уверяю вас…
– Сообщает мне с беззаботным смешком, что они исчезли. Исчезли! Куда исчезли? Так ведь, черт дери, они могут рассредоточиться по всему графству! Да у меня нет никаких шансов снова их увидеть. Шесть дорогостоящих пекинесов, уже практически подготовленных для публичных выступлений, суливших, вне всяких сомнений, колоссальнейшую прибыль…
Мистер Никерсон, виновато шаривший в кармане, теперь извлек из него мятый ком банкнот и трепетно протянул их Укриджу, который с омерзением от них отмахнулся.
– Этот джентльмен, – прогремел Укридж, указывая на меня размашистым жестом, – между прочим, адвокат. На редкость удачно, что он приехал навестить меня именно сегодня. Вы внимательно следили за происходившим?
Я ответил, что следил за происходившим очень внимательно.
– По вашему мнению, тут есть повод для иска?
Я сказал, что это более чем вероятно, и веское суждение знатока со всей очевидностью довершило усмирение мистера Никерсона. Чуть ли не со слезами он старался вручить Укриджу смятые банкноты.
– Что это? – надменно осведомился Укридж.
– Я подумал, мистер Укридж, что, если вас это устроит, вы могли бы согласиться взять назад ваши деньги и считать инцидент исчерпанным.
Укридж обернулся ко мне, высоко подняв брови.
– Ха! – вскричал он. – Ха и ха!
– Ха-ха! – эхом подхватил я.
– Он думает, что может исчерпать инцидент, вернув мне мои деньги! Ну не смешно ли?
– Более чем, – согласился я.
– Эти собаки стоят сотни фунтов, а он думает, что может отделаться от меня паршивой двадцаткой. Вы бы поверили подобному, если бы не слышали собственными ушами, старый конь?
– Никогда!
– Я скажу вам, что я сделаю, – объявил Укридж, немного подумав. – Я возьму эти деньги… – Мистер Никерсон поблагодарил его. – Ну, и несколько пустячных счетов от местных торговцев. Вы уплатите по ним…
– Всенепременно, мистер Укридж. Всенепременно.
– А после этого… ну, мне надо это обдумать. Если я решу вчинить иск, мой адвокат снесется с вами в положенный срок.
И мы расстались с несчастным, дрожавшим мелкой дрожью за ширмой своей бороды.
Пока мы шли по тенистому проулку навстречу слепящему блеску шоссе, я размышлял о том, что Укридж в минуты катастрофы ведет себя со стойкостью, достойной всемерного восхищения. Его бесценная движимость, живая кровь его предприятия, рассеялась по всему Кенту и, возможно, безвозвратно, а что взамен? Аннулирование просроченной арендной платы за несколько недель да уплата по счетам Гуча, бакалейщика, и ему подобных. Такая ситуация сокрушила бы дух заурядной личности, но Укридж словно бы даже не приуныл. Нет, судя по его виду, он скорее пребывал на эмпиреях. Глаза за пенсне сияли, и он насвистывал забористый мотивчик. А когда он запел, я почувствовал, что настал момент для возвращения его на землю.
– Что ты намерен делать? – спросил я.
– Кто? Ты про меня? – бодро сказал Укридж. – Ну, я возвращаюсь в Лондон ближайшим же поездом. Ты не против, если мы протопаем до следующей станции? Всего пять миль. Отбыть прямо из Шипс-Крейя, пожалуй, рискованно.
– Почему рискованно?
– Да из-за псин, а то чего же?
– Псин?
Укридж испустил ликующую фиоритуру.
– Угу. Забыл поставить тебя в известность. Они у меня.
– Что-о?
– Ну да. Вчера поздно ночью я сходил и слямзил их из сараюшки. – Он испустил веселый смешок. – Проще простого. Ничего, кроме ясного, трезвого ума. Я позаимствовал дохлую кошку, привязал к ней веревочку, когда хорошенько стемнело, смотался в сад старика Никерсона, изъял досточку из задней стенки сарая, всунул туда голову и чирикнул. Собачеи просочились наружу, и я помчался прочь с почтенным котом на буксире. Великолепная была пробежка. Гончаки сразу напали на след и ринулись вперед всей сворой со скоростью пятидесяти миль в час. Кот и я держали пятьдесят пять. Я каждую секунду ожидал, что старик Никерсон услышит и начнет палить направо и налево из своего ружьеца, но ничего не произошло. Я возглавил кросс по пересеченной местности, без единой заминки припарковал псин у себя в гостиной – и на боковую. Порядком вымотался, можешь мне поверить! Я ведь уже не так молод, как прежде.
Я помолчал, весь во власти чувства, близкого к благоговению. У этого человека, бесспорно, был размах. В Укридже всегда крылось нечто, притупляющее нравственное чувство.
– Ну, – сказал я наконец, – в прозорливости тебе не откажешь!
– Что есть, то есть, – польщенно отозвался Укридж.
– А еще и в широком, глубоком и гибком взгляде на вещи.
– Как же, как же, малышок, в наши дни без него не обойтись. Краеугольный камень успешной деловой карьеры.
– Ну, и какой же следующий ход?
Мы уже приближались к Белому Коттеджу. Он стоял, плавясь в солнечных лучах, и во мне проснулась надежда, что внутри найдется что-то холодненькое для утоления жажды. Окно гостиной было открыто, и из него рвалось наружу тявканье пекинесов.
– О, я подыщу коттедж где-нибудь еще, – сказал Укридж, взирая на домик с некоторой сентиментальностью. – Затруднений это не составит. Масса коттеджей повсюду. И тогда я препояшусь для серьезной работы. Ты будешь поражен, насколько я уже продвинулся. Еще минутка, и увидишь, на что способны эти собачеи.
– Во всяком случае, лаять они умеют.
– Да. Их как будто что-то возбудило. Мне пришла в голову великолепная мысль. Когда мы встречались у тебя, я планировал специализироваться на собаках-артистах для мюзик-холлов – на, так сказать, профессиональных собачеях. Но я все хорошенько обдумал и не вижу причин, почему бы мне не заняться развитием и любительских талантов. Предположим, у тебя имеется псина – Фидо, любимец всей семьи, – и ты решаешь, что в доме станет еще уютнее, если он иногда будет проделывать какие-нибудь кунштюки. Ну а ты занятой человек, у тебя нет времени его обучать. И потому ты просто вешаешь бирку ему на ошейник, отправляешь псину на месяц в Укриджский Собачий Колледж, и он возвращается к тебе, получив исчерпывающее образование. Ни забот, ни хлопот, цены умеренные. Провалиться мне, любительство даже доходнее профессионализма. Не вижу причин, почему бы собаковладельцам не начать посылать своих псов ко мне на, так сказать, традиционной основе, как они посылают своих сыновей в Итон и Винчестер. Ого-го-го! Эта мысль обрастает мясом. И вот что: почему бы не создать особый ошейник для всех собак, заканчивающих мой колледж? Что-нибудь оригинальное, которое все будут сразу узнавать. Усекаешь? Своего рода почетная эмблема. Типус с собачеей, имеющей привилегию носить укриджский ошейник, будет вправе смотреть сверху вниз на типчика с псиной без такового. И вскоре ни один человек, дорожащий своей репутацией, не решится показаться на людях с неукриджской собакой. И начнется обвал. Псины будут рушиться на меня из всех уголков страны. Работы столько, что одному мне не справиться. Придется открыть филиалы. Колоссальные возможности. Миллионы, мой мальчик, миллионы! – Он помолчал, держась за ручку входной двери. – Конечно, – продолжал он, – в данную минуту не следует закрывать глаза на тот факт, что я стеснен и связан по рукам и ногам отсутствием капитала и вынужден приступать к делу в самом малом масштабе. Из чего следует, малышок, что так или иначе мне необходимо раздобыть капитал.
Самый подходящий момент, чтобы сообщить благую весть.
– Я обещал ему, что промолчу, – сказал я, – чтобы не обмануть счастливых надежд, но, откровенно говоря, Джордж Таппер как раз сейчас прилагает все силы, чтобы найти для тебя исходный капитал. Вчера вечером, когда я расстался с ним, он как раз к этому приступил.
– Джордж Таппер! – Глаза Укриджа увлажнились скупою мужскою слезою. – Джордж Таппер! Соль земли! Добрый верный товарищ! Истинный друг! Человек, на которого можно положиться. Провалиться мне, будь на свете больше типчиков вроде старины Таппера, никто бы слыхом не слыхал про нынешний пессимизм и томление духа. А он представлял себе, где именно сумеет раздобыть для меня искомый капиталец?
– Да. Он отправился сообщить твоей тетушке о том, как ты занялся здесь обучением этих пекинесов и… В чем дело?
Ликующий облик Укриджа претерпел жутчайшие изменения. Глаза выпучились, нижняя челюсть отвисла. Добавьте несколько квадратных футов седой бороды, и он был бы точной копией светлой памяти мистера Никерсона.
– Моей тетушке? – промямлил он, повисая на дверной ручке.
– Да. Но что с тобой? Он полагал, что она, если он ей подробно все изложит, непременно растает и примчится на выручку.
Вздох стойкого бойца, лишившегося последних сил, исторгся из облеченной макинтошем груди Укриджа.
– Среди всех чертовых инфернальных липучих, лезущих не в свое дело, наипартачнейших тупоголовых ослов, – произнес он страдальчески, – Джордж Таппер самый отпетый.
– О чем ты?
– Этому типчику нужна смирительная рубашка, он угроза общественной безопасности.
– Но…
– Это псины моей тетки. Я их слямзил, когда она вышвырнула меня вон!
Пекинесы внутри коттеджа все еще трудолюбиво тявкали.
– Провалиться мне, – сказал Укридж. – Это немножко множко.
Полагаю, он сказал бы еще многое, но в этот миг из недр коттеджа с жуткой внезапностью донесся голос. Это был женский голос, ровный, металлический голос, который, подумалось мне, откровенно намекал на ледяные глаза, орлиный нос и волосы цвета орудийной стали.
– Стэнли!
Вот все, что произнес голос, но этого было достаточно. Мой взгляд скрестился с дико мечущимся взглядом Укриджа. Он, казалось, съежился в своем макинтоше наподобие улитки, застуканной врасплох за вкушением салата.
– Стэнли!
– Что, тетя Джулия? – осведомился Укридж дрожащим голосом.
– Иди сюда. Мне надо с тобой поговорить.
– Сейчас, тетя Джулия.
Я бочком ускользнул на шоссе. Тявканье пекинесов внутри коттеджа перешло в настоящую истерику. Я обнаружил, что двигаюсь быстрой рысцой, и тут же – хотя день был жарким – помчался во всю мочь. Конечно, я мог бы и остаться, если бы захотел, но почему-то я не захотел. Что-то, казалось, шепнуло мне, что я буду лишним при этой священной семейной встрече.
Не знаю, что именно создало у меня подобное впечатление, – но не исключаю, что прозорливость или же широкий, глубокий и гибкий взгляд на вещи.
Укриджский Синдикат Несчастных Случаев
– Минуточку, малышок, – сказал Укридж. И, стиснув мой локоть, он остановил меня возле небольшой толпы, которая собралась у церковных дверей.
Такие толпы на протяжении лондонского брачного сезона можно наблюдать в любое утро перед любой из церквей, уютно гнездящихся на тихих площадях между Гайд-парком и Кингз-роуд в Челси.
Она состояла из пяти женщин кухарочьего облика, четырех нянек, полудюжины мужчин непроизводительного класса, которые отвлеклись от своего обычного занятия – подпирания стены «Виноградной грозди», питейного заведения на углу, уличного торговца с тачкой овощей, разнообразных мальчишек, одиннадцати собак и двух-трех молодых людей целеустремленного вида с фотоаппаратами через плечо. С первого взгляда становилось ясно, что в церкви совершается бракосочетание, а судя по присутствию молодых людей с фотоаппаратами и вереницы дорогих авто, припаркованных у тротуара, так и великосветское бракосочетание. Одно было неясно (для меня), почему Укридж, неколебимейший холостяк, возжелал присоединиться к зрителям.
– В чем, – осведомился я, – заключается идея? Почему мы прервали нашу прогулку, чтобы поприсутствовать при погребении человека абсолютно нам незнакомого?
Укридж ответил не сразу. Он словно погрузился в размышления. Затем он испустил глухой скорбный смешок – жуткий звук, что-то вроде последнего хрипа издыхающего лося.
– Абсолютно незнакомого, расскажи своей прапрабабке! – отозвался он со свойственной ему безапелляционностью. – А ты знаешь, кого там сейчас запрягают?
– Так кого?
– Тедди Уикса.
– Тедди Уикса? Господи Боже! – вскричал я. – Да неужели?
И пяти лет как не бывало.
Свой великий план Укридж развил в итальянском ресторане Баролини на Бик-стрит. Баролини был любимым оазисом нашей небольшой компании убежденных борцов за место под солнцем в те дни, когда человеколюбивые содержатели ресторанов в Сохо имели обыкновение подавать обед из четырех блюд и кофе за полтора шиллинга. В тот вечер там, кроме Укриджа и меня, присутствовали Тедди Уикс, актер, как раз вернувшийся после шестинедельных гастролей с труппой третьего разряда, игравшей «Всего лишь продавщицу»; Виктор Бимиш, художник, создатель «Пианиста без забот», талантливого рисунка, который украшал рекламные страницы «Пиккадилли мэгэзин»; Бертрам Фокс, автор «Пепла покаяния» и других пропадающих втуне киносценариев, а еще Роберт Данхилл, который, будучи служащим Новоазиатского банка с окладом в восемьдесят фунтов годовых, вносил в нашу компанию практичный здравомыслящий коммерческий элемент. Как обычно, Тедди Уикс ухватил разговор за шиворот и в очередной раз рассказывал нам, как он блистал и как жестоко обходится с ним злокозненная судьба.
Описывать Тедди Уикса никакой надобности нет. Под другим более благозвучным именем он уже давно жутко намозолил глаза своей внешностью всем, кто листает иллюстрированные еженедельники. Тогда он был тошнотворно красивым молодым человеком с теми же покоряющими глазами, подвижным ртом и волнистыми, как шифер, волосами, которые столь пленяют публику в наши дни. И тем не менее на том этапе своей карьеры он транжирил себя в третьеразрядных бродячих труппах. Он объяснял это – как и Укридж был склонен объяснять свои неудачи – отсутствием исходного капитала.
– У меня есть все! – воинственно заявил он, подчеркивая свои утверждения стуком кофейной ложечки. – Наружность, талант, обаяние, чудесный сценический голос – ну, все. Мне не хватает только шанса. А он мне не представится потому, что мне нечего надеть. Директора театров все на один лад и никогда не заглядывают глубже внешности, никогда не дают себе труда узнать, не гений ли перед ними. Судят о нем только по одежде. Будь мне по карману заказать пару костюмов портному на Корк-стрит, а штиблеты – Мойкоффу, а не покупать их готовыми и подержанными у «Братьев Мозес», да если бы мне удалось обзавестись приличной шляпой, по-настоящему пристойными гетрами и золотым портсигаром, причем всем этим одновременно, я мог бы войти в кабинет директора любого лондонского театра и подписать контракт на вест-эндский спектакль хоть завтра же.
И вот тут-то к нам присоединился Фредди Лант. Фредди, как и Роберт Данхилл, был будущим финансовым магнатом и ревностным завсегдатаем Баролини. И мы вдруг спохватились, что давненько не видели его здесь. И осведомились о причине подобного пренебрежения.
– Я провалялся в постели, – ответил Фредди, – больше двух недель.
Такое признание навлекло на него суровое неодобрение Укриджа. Этот великий человек принципиально не вставал с постели ранее полудня, и был случай, когда небрежно брошенная спичка прожгла дырку в его единственных брюках и продержала его между простынями сорок восемь часов; однако лень столь величественного масштаба глубоко его шокировала.
– Лентяй и шалопай, – сказал он сурово. – Позволяешь золотым часам своей юности пропадать втуне, вместо того чтобы трудиться не покладая рук и приобретать репутацию.
Фредди заявил, что подобное обвинение глубоко не-справедливо.
– Я стал жертвой несчастного случая, – объяснил он. – Упал с велосипеда и растянул лодыжку.
– Не повезло, – был наш общий вердикт.
– Ну, это как посмотреть, – сказал Фредди. – Отдохнуть совсем не помешало. Ну и, конечно, пятерочка.
– Что еще за пятерочка?
– Я получил пяток фунтов от «Еженедельного велосипедиста» за то, что растянул лодыжку.
– Ты… что-о?! – вскричал Укридж, взволнованный до недр души (как и всегда) рассказом о шальных деньгах. – Сидишь вот тут и говоришь мне, что какая-то чертова газетенка уплатила тебе пять фунтов, потому что ты растянул лодыжку? Опомнись, старый конь. Такого не бывает.
– Но это правда.
– А ты можешь предъявить мне эту пятерку?
– Нет, потому что я ее предъявлю, а ты сразу заберешь ее взаймы.
На этот выпад ниже пояса Укридж ответил исполненным достоинства молчанием.
– И они уплатят пятерку всякому, кто растянет лодыжку? – спросил он, не отвлекаясь от главной темы.
– Да. Если он подписчик.
– Так я и знал, что без подвоха тут не обошлось, – мрачно сказал Укридж.
– Сейчас многие еженедельники пускают в ход этот приемчик, – продолжал Фредди. – Подписываешься на год и получаешь право на страховку при несчастном случае.
Мы живо заинтересовались. Это же было в те дни, когда ежедневные лондонские газеты еще не вступили в бешеную конкуренцию друг с другом в деле страхования и не начали предлагать княжеские подкупы гражданам страны, чтобы они безмерно разбогатели, сломав шею. Теперь газеты платят до двух тысяч фунтов за труп без подделки и пять фунтов в неделю за какой-нибудь ничтожный вывих позвоночника. Но в то время идея была совсем свежей и очень привлекательной.
– И сколько же этих грязных листков выплачивают такие страховки? – осведомился Укридж. Блеск в его глазах свидетельствовал, что великий мозг уже жужжит, как динамо-машина. – С десяток наберется?
– Думаю, что так. Конечно, не меньше десяти.
– Значит, типчик, который подпишется на них на все, а потом растянет лодыжку, получит пятьдесят фунтов? – заключил Укридж проницательно.
– И даже больше, если повреждение серьезнее, – заявил Фредди, эксперт в подобных вопросах.
Воротничок Укриджа спрыгнул с запонки, а его пенсне пьяно зашаталось. Он повернулся к нам.
– Сколько денег, типусы, вы способны собрать? – спросил он грозно.
– А зачем они тебе? – осведомился Роберт Данхилл с банкирской предусмотрительностью.
– Дорогой мой старый конь, неужели ты не видишь? Кошки-мышки, да ведь это же идея века. Провалиться мне, плана, сулящего подобные проценты, еще никто не разрабатывал. Соберем нужную сумму и подпишемся на каждую из этих чертовых газетенок.
– И что толку? – сказал Данхилл с холодным отсутствием энтузиазма.
Банковских клерков дрессируют подавлять эмоции, чтобы, став управляющими, они отказывали в кредитах не моргнув и глазом.
– Крайне маловероятно, чтобы с кем-либо из нас произошел несчастный случай, а тогда деньги будут выброшены на ветер.
– Великий Боже, ослиная ты башка, – презрительно фыркнул Укридж, – не думаешь же ты, что я собираюсь пустить это на самотек? Слушайте! Суть плана такова: мы подписываемся на все эти газеты, потом тянем жребий, и типус, которому достанется роковая карта или там что-нибудь другое роковое, идет прогуляться, ломает ногу и заграбастывает добычу, мы делим ее на всех и начинаем купаться в роскоши. Это ведь обернется многими и многими сотнями фунтов.
Последовало долгое молчание. Нарушил его Данхилл, чей ум отличался скорее увесистостью, чем гибкостью:
– Ну, а если он не сумеет сломать ногу?
– Кошки-мышки! – возмущенно вскричал Укридж. – Как-никак мы живем в двадцатом веке, имеем в своем распоряжении все новейшие достижения и возможности цивилизации, чтобы ломать ноги на каждом шагу, а ты задаешь такой дурацкий вопрос! Конечно, он сумеет сломать ногу. Любой осел способен сломать ногу. Это немножко слишком множко! Мы все инфернально на мели – лично я, если Фредди не сможет уделить мне чуток этой пятерочки до субботы, не знаю, как до нее дотяну. Нам всем до чертиков нужны деньги, и тем не менее, когда я выдвигаю этот чудотворный план разжиться сотней-другой, ты, вместо того чтобы завилять хвостом перед моей молниеносной находчивостью, рассиживаешься здесь и выискиваешь возражения. Это не тот дух. Не тот дух, который ведет к победе.
– Если ты на такой мели, – возразил Данхилл, – как ты намерен внести свою долю?
Страдальческий, почти ошеломленный взгляд появился в глазах Укриджа. Он смотрел на Данхилла сквозь свое лопоухое пенсне, как человек, решающий, верить ли своим ушам.
– Я? – вскричал он. – Я? Мне это нравится! Надо же! Да провалиться мне, если, черт побери, в мире есть какая-никакая справедливость, если есть хоть искра порядочности и доброжелательности в ваших чертовых сердцах, так вы, мнилось мне, могли бы взять меня в долю за выдвижение идеи! Немножко слишком множко. Я вношу свой мозг, а ты хочешь, чтобы я, кроме того, выкашлянул бы еще и наличность? Кошки-мышки, такого я не ожидал. Это меня ранит, черт побери! Да если бы кто-нибудь сказал мне, что старый друг…
– Ну ладно-ладно, – сказал Роберт Данхилл. – Ладно, ладно, ладно. Но одно я тебе скажу. Если ты вытянешь жребий ломать ногу, это будет самый счастливый день в моей жизни.
– А вот и не вытяну, – сказал Укридж. – Что-то шепчет мне, что не вытяну.
И не вытянул. Когда в торжественной тишине, нарушаемой только звуками дальнего переругивания официанта с поваром через переговорную трубу, мы завершили жеребьевку, перст судьбы указал на Тедди Уикса.

