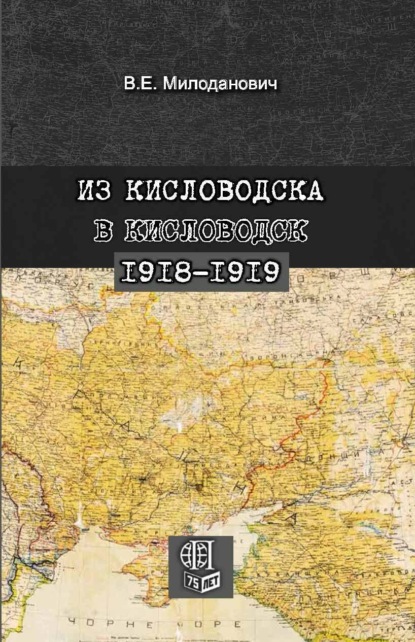
Полная версия:
Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919
Я подождал, пока отец не сообщил мне, что эта группа вернулась ни с чем! Она была принята и Алексеевым, и Корниловым, которые заверили, что никакой армии они не формируют и что газетные сообщения не отвечают действительности.
Тогда я окончательно решил уехать, но – не мог! Ростов был взят большевиками, к счастью, всего лишь на 2–3 дня, казаки быстро освободили город. Я этим воспользовался и проскользнул достаточно гладко и в итоге благополучно прибыл в свою бригаду. Это было 21 декабря 1917 года.
Судьба Рузского, Радко-Дмитриева и 126 других генералов и прочих офицеров и высших сановников общеизвестна. Им недолго пришлось играть в винт и греться на солнце в парке! Покорные приказу Пятигорского председателя Совета Анджиевского, они поехали к нему на «регистрацию» и были порублены шашками.
Но мой отец уцелел: вопреки советам коллег, он этого приказа не исполнил, но замаскировался, поскольку это было возможно в таком небольшом городе, как Кисловодск, и дождался освобождения, ибо армия Алексеева и Корнилова, вопреки заявлению Кисловодской делегации, все-таки была сформирована! Но она должна была оружием прокладывать себе дорогу в Кисловодск, вместо того, чтобы на этом пути ее приветствовала бы «армия Рузского»!
Возможно, конечно, что мне следовало попробовать лично «уломать» Рузского, но его ответ на мое предложение, сделанное моим отцом, своей насмешливой формой казался мне окончательным. Быть может, так же мне следовало бы попробовать действовать в смысле ответа Рузского, но я всегда держался и держусь законности и против всякой партизанщины.
Но я удивлялся и удивляюсь до сих пор – неужели такая простая мысль, как создание «армии» в Кисловодске, только мне одному пришла в голову, одному из тысяч собравшихся на Кавказской группе Минеральных Вод, тогда как, по моему мнению, она должны была возникнуть в голове каждого! Но, по-видимому, это было, увы, так! Ведь потому-то в конце концов ничего и не вышло, и каждый пойманный покорно становился к стенке, а не пойманный – прятался, или бежал, хотя бежать-то в общем было некуда!
2. Возвращение в бригаду
Итак, мне оставалось вернуться из своего шестинедельного отпуска в бригаду. Но уехать сразу я не мог: большевики захватили Ростов. К счастью, через 2–3 дня казаки выбили их оттуда и путь был освобожден. Я поехал (хотя и не был особенно уверен, что доеду).
Хотя была уже половина декабря, т. е. прошло уже полтора месяца со дня большевицкого переворота, я ехал в полной «старорежимной» форме, с орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами, со знаком Михайловского артиллерийского училища и с «Фельдцейхмейстерским[23]» ниже последнего, так что на моей груди было 6 императорских корон. В Ростове-на-Дону я влез в вагон через окно и, опередив таким образом толпившихся у дверей, получил сидячее место.
В Синельникове пришлось пережить несколько неприятных минут. Я вышел на станцию в поисках чего-нибудь съестного. В вестибюле станции, перед закрытыми в зал дверьми, стоял матрос с винтовкой, явно часовой. Я испытал сильное желание повернуть, но в таких случаях этого именно делать не следует, и я вошел в зал.
Большой зал был завален «товарищами», спавшими на полу по образцу сардинок в коробке. Вдали, за прилавком, был какой-то свет, керосиновая ли лампа, или свечка – не помню. Общий вид был жуткий! К прилавку вела узенькая тропинка между спавшими, которой я и воспользовался. Но у прилавка я мог выпить только подозрительного чаю (конечно – суррогата), больше там ничего не было, и пошел обратно. Матрос у выхода меня опять игнорировал.
В купе появилось двое новых личностей в защитной форме без погон. Через минуту к дверям купе подошли три матроса с винтовками. «Товарищи! – сказал старший. – Ваши документы и ваше оружие!» – «Документ, пожалуйста! – сказал я, протягивая ему свой отпускной билет. – А что касается оружия, то я еду на фронт и оно мне нужно!» Меня поддержало несколько голосов моих спутников в нейтральной одежде: «Мы тоже едем на фронт!» Матрос заколебался: превосходство в силах было на нашей стороне! «Хорошо! – сказал он. – Оружие можете себе оставить». И уже не интересуясь документами, прошел дальше и вышел на перрон вместе со своими спутниками. Поезд сейчас же тронулся.
Тут один из двух новых пассажиров вынул из кармана серебряные погоны Польского корпуса[24] и, с помощью другого, оказавшегося его вестовым, надел их на плечи, а затем рассказал, что случилось с предыдущим поездом, в котором он приехал в Синельниково.
Станция была занята сильным отрядом матросов – «красы и гордости русской революции», как они тогда назывались в речах ораторов и в печати. Матросы стали извлекать из поезда обнаруженных офицеров и уводить их. Поляку удалось убежать и где-то скрыться. Позже среди матросов поднялась тревога: было получено сообщение, что к станции приближается украинский полк имени Богдана Хмельницкого[25], сформированный еще Временным правительством. Матросы поспешили уехать обратно в Севастополь, увезя с собой арестованных офицеров. На станции осталась только маленькая группа матросов для наблюдения. Затем подошел наш поезд, и польский офицер, покинув свое убежище, сел в него.
Сопоставляя этот случай с тем, что я слышал позже в Крыму, предполагаю, что именно из этих арестованных офицеров матросы составляли так называемые «букеты», из трех человек с грузом на ногах, и побросали их в море. Они утонули в стоячем положении, и, как говорили потом к Крыму, один из водолазов сошел с ума, увидев под водой картину колыхающихся в воде утопленников! Дальнейший мой путь до Киева прошел без инцидентов.
В Киеве я остановился на несколько дней у тетки моей матери Елены Павловны Красовской. На кухне у ней были просторные полати, на которых стояла кровать. Было тепло и комфортабельно! В Киеве был относительный порядок. Офицеры погон и орденов не носили, и я последовал их примеру. Теперь мне надо было проехать в местечко Новоселицу[26], которая находилась в стыке трех государств: России, Австро-Венгрии и Румынии. Путь шел через Жмеринку и Могилев-Подольский. Но уехать сразу я не мог, так как в Жмеринке было восстание местных большевиков. Кто их подавлял, для меня было загадкой.
Могилев-Подольский тоже не внушал доверия: там было двое командиров одной и той же 8-й армии: законный – генерал Юнаков – и большевицкий – прапорщик нашей бригады, горный инженер Лев Александрович Александрович, лет под 50 и, как у нас говорили, сподвижник Корнилова в путешествиях по Средней Азии.
Этот «Лева», как его за глаза звали в нашей бригаде, не был каким-нибудь страшным большевиком. Мне приходилось разговаривать с ним несколько раз. Он находил, что Временное правительство такая дрянь, что, чем скорее его кто-нибудь сбросит, тем лучше! С этим я соглашался, с оговоркой «если его выбросят не большевики»! Он также утверждал, что в столкновениях офицеров с солдатами виноват всегда офицер! Я тоже с этим соглашался, и тоже с добавлением – «в подавляющем большинстве случаев».
Говорю это, конечно, о положении на фронте, где главной целью было сохранить хотя бы оборонительную способность и дотянуть до совершенно очевидной победы Западных союзников (к которой «примазаться»!) и потому никогда не делать из мухи слона!
В нашей 32-й пехотной дивизии эти «мухи» тоже случались, но в «слонов» не превращались, так что даже в августе 1917 года, когда австрийцы после краткой, но весьма громкой артиллерийской подготовки с участием 12-см орудий атаковали позицию дивизии в Северной Румынии между селами Буда-Маре и Могонешти, то прорванными оказались сами, а не мы (начальство затем разумно остановило наступление!). Дивизия развалилась только после большевицкого переворота, и то не сразу. Возможно, что она была в числе исключений среди дивизий, чему способствовала ее удаленность от Петербурга. Но вернусь в «Леве» Александровичу.
Иногда поведение «Левы», пока он был в бригаде, мне даже нравилось. Например, такой случай: осенью 1916 и до революции наша дивизия занимала позицию в Лесистых Карпатах на таких высотах, как 2002, 1901 и 1866. Пехота там мерзла и голодала. Мне рассказывали такой случай: на наблюдательный пункт (не помню, какой батареи), где дежурил «Лева», на высоте 1901, стали приходить пехотные солдаты с вопросом: «Нет ли у вас чего-нибудь поесть?» «Лева» вызвал к телефону командира пехотного полка и сказал ему: «Если Вы не накормите своих солдат, я доложу об этом начальнику дивизии!» Что ответил на это командир полка, мне, к сожалению, неизвестно. Конечно, никто из кадровых офицеров или молодых запасных не предпринял бы подобного шага, но «Леве» было, что называется, наплевать! Ему было все равно, что о нем подумает начальство!
Обо мне «Лева», уже как представитель бригадного комитета, выразился так: «Такие определенные монархисты, как Милоданович, нам не опасны! Опасны те, о которых мы не знаем, что они думают». В другой раз, когда летом я командовал 2-й батареей, он спросил членов батарейного комитета: «Ну, как вам нравится ваш новый командир?» – «Мы ему не мешаем, а он – нам». – «Значит, нравится?» – «Да не совсем», – ответили. – «Не нравится?» – «Тоже нет». Итак, я жил в мире, и с «Левой», и с комитетами!
«Лева» сделал карьеру по комитетской части, сперва – как председатель бригадного комитета, потом – дивизии, а после – армии, комитет которой и выбрал его командующим 8-й армией. Двух командующих одной и той же армии, конечно, слишком много: часть армии признавала одного, другая – другого, но в общем обе части жили довольно мирно, пока 8-я армия вообще не исчезла, а с ней и оба командующих. Потом я слышал от офицеров, что «Лева» в Киеве и изучает украинский язык!
Я прожил у тетки несколько дней, пока не получил известие, что порядок в Жмеринке восстановлен. Меня проводили на вокзал моя будущая жена и ее брат. Я сел в пустой товарный вагон и поехал. Поезд прошел станцию Жмеринка без остановки – вероятно, там все-таки не все было в порядке. В Могилеве-Подольском все было тихо, и 21 декабря 1917 года я благополучно прибыл в Новоселицу и явился командиру бригады генерал-майору Обручешникову[27].
«Вот, хорошо, что Вы приехали, – сказал он мне. – Вводится выборное начало, и Ваш старший офицер штабс-капитан Рексин ведет агитацию, чтобы выбрали его. Вы можете принять меры против этого». Но генерал ошибался: никаких мер принимать я не собирался. Для чего бы я это делал? Война кончилась, и мы все в самом близком будущем должны были стать одинаково безработными! Я вернулся в бригаду совсем не за тем, чтобы чем-нибудь командовать, но просто потому, что мне некуда было деваться, а в бригаде я был дома более, чем где-либо.
Я вытребовал себе от батареи повозку (экипажи отошли уже в область преданий) и вернулся в тот самый большой офицерский блиндаж, в чистом поле, из которого уехал в отпуск 4 ноября 1917 года.
Положение на фронте было такое: батареи еще стояли на позиции, но о стрельбе, конечно, не могло быть и речи. Бригада была украинизирована[28], и все солдаты-«кацапы» отосланы домой. Часть «хохлов» была в отпуску, в батареях оставалось по 100–110 солдат. Офицеры тоже отчасти разъехались, как кто хотел, кацапы и хохлы одинаково. Бригада подчинялась генералу Юнакову.
Пехота украинизирована не была. Ее большая часть дезертировала, а остаток признавал своим командующим армии «Леву» Александровича. Такое разделение дивизии не мешало, однако, украинцам и большевикам жить между собой в мире. Противник тоже не подавал признаков жизни – итак, и с ним мы жили в мире. Вообще была полная идиллия, а наш командир бригады свел знакомство с австрияками и ездил в Черновцы пьянствовать с ними.
Офицеры мне рассказывали о таком случае. После своего избрания командующим армией «Лева» приехал в управление бригады для дополнения своего послужного списка фразой «такого-то числа избран командующим 8-й армией». О дне и часе он сообщил заранее, а потому комитеты собрались перед управлением для приветствия. Наш генерал, только что вернувшийся из Черновиц после тяжкого кутежа, случайно подъехал к управлению бригады в тот момент, когда «Лева» вышел из автомобиля.
– Вы – командующий армией? – спросил он еле ворочавшимся языком.
– Имею несчастье им быть, – скромно ответил «Лева».
– Вы… (слово из трех букв), а не командующий армией, – сказал генерал, и офицеры, рассказывавшие мне об этом, добавили: «И это было единственным добрым делом, совершенным нашим генералом в течение его двухлетнего командования бригадой!»
«А как реагировал “Лева” на заявление генерала?» – полюбопытствовал я. «Обратился к комитетчикам со словами: “Вы слышали, что позволяет себе генерал?” Что же можно ожидать от прочих офицеров?» А комитеты выслушали это молча, и генерал пошел отсыпаться. Таким образом, и в этом случае мир не был нарушен.
Вскоре должны были быть произведены выборы командного состава. Принцип выборного начала наша бригада исправила очень удачно: 1) командиры дивизионов по-прежнему должны были назначаться сверху, так как солдаты признали свою некомпетентность в вопросах тактики; 2) адъютанты, для обеспечения наилучшей совместной работы с их командирами, должны были выбираться последними. Это давало в бригаде 5 свободных мест для офицеров, не выбранных батареями.
Выборы состоялись 3 января 1918 года. Я получил ОДИН голос, чей – не знаю, но предполагаю, что подпоручика Розанова, Михайловца [выпуска] 1914 года, застрявшего в чинах по случаю того, что просидел в запасном дивизионе почти всю войну. Штабс-капитан Рексин получил 33 голоса – весьма слабое относительное большинство (одна треть голосовавших), остальные голоса разбились, и таким образом Рексин стал командиром батареи!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Здесь и далее – даты по новому стилю.
2
Цит. по: Милоданович В. Скваржава // Военная быль. 1967. № 83. С. 23.
3
Послужной список капитана 32-й артиллерийской бригады Милодановича/ Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 409. П/с 320–812 (1918 г.). В списке отсутствует информация о вручении ордена Св. Владимира 3-й степени с мечами, однако он хорошо виден на одной из фотографий Всеволода и в наши дни хранится в семье офицера.
4
По данным историка Никиты Кузнецова, этот транспорт (2862 брт) покинул порт Севастополя на второй день эвакуации, 31 октября 1920 г., имея на борту 868 человек эвакуируемых. См.: Кузнецов Н. Русский флот на чужбине. М., 2009. С. 401.
5
Vojensky ustfednl archlv – Vojensky historicky archlv (VUA-VHA) Praha, kvalifikacm listina V. Milodanovica; Волков C.B. Офицеры российской артиллерии: Опыт мартиролога. М., 2011. С. 443; Baginski Н. Wojsko Polskie naWschodzie 1914–1920. Warszawa, 1921. S. 524.
6
VUA-VHA Praha, kvalifikacnl listina V. Milodanovica.
7
В 1930-е гг. Милоданович опубликовал в нескольких периодических изданиях Министерства народной обороны и других военных структур Чехословакии ряд статей аналитического характера, касающихся тактических аспектов применения артиллерии и артиллерийской баллистики. В них он, в первую очередь, обобщал свой опыт ветерана Первой мировой войны. См., например: Milodanovic V. Ataka 2. brigady 14. ruske jezdecke divise // Vojenske rozhledy. Rocnik XV. № 1, leden 1934. S. 100–104; Milodanovic V. Drobne zkusenosti z valky // Vojenske rozhledy. Rocnik XVI. № 1, leden 1935. S. 84–88; № 5, kveten 1935. S. 665–670; № 9, zafi 1935. S. 1115–1121; Milodanovic V. Prace jezdecke hlidky v Avgustovskem lese // Vojenske rozhledy. Rocnik XVI. № 4, duben 1935. S. 1287–1292; Milodanovic V. Palebne postaveni baterii v lesich a osadah // Vojenske rozhledy. Rocnik XVI. № 11, lis-topad 1935. S. 1363–1371; Milodanovic V. Tfeti serie ranpri stfelbe sjednostran-nympozorovanim//Vojenske rozhledy. Rocnik XVIII. № 7–8, cervenec-srpen 1937. S. 807–808.
8
Милоданович В. Русская артиллерия (окончание) // Часовой. 1974. № 578. С. 8.
9
Первоначально в боевых действиях на Восточном фронте была задействована вся отмобилизованная армия в составе двух дивизий и механизированной (Быстрой) бригады. Но, так как словацкая армия в силу слабой механизации частей не могла поддерживать высокий темп наступления, большая часть сил вскоре была возвращена на родину. Для ведения боевых действий были развернуты Быстрая и Охранная дивизии (слов. Rychla и Zaist’ovacia).
10
VUA-VHA Praha, Kvalifikacm listina V. Milodanovica; Kliment С. K, Na-klddal B. Slovenska armada 1939–1945. Praha, 2003. S. 30; Милоданович В. Co словацкой Скорой дивизией на Кавказе // Часовой. 1971. № 541. С. 8–10.
11
MicianikР Slovenska armada v t’azeniproti Sovetskemu zvazu (1941–1944). IV.
1. pesia divizia. Banska Bystrica, 2012. S. 185; Vojenske osobnosti dejm Slovenska 1939–1945. Bratislava, 2013. S. 162–165, 169.
12
Основная информация о службе Милодановича в последние месяцы войны взята из текста его неопубликованной рукописи. О некоторых ее аспектах подробнее см.: Smigel’ М., Micko Р. Evakuacia v znamenl uteku. Utecenci z Ukrajiny a Pol’ska na Slovensku v roku 1944. Banska Bystrica, 2006. S. 22–26; Uhrin M. К problematike personalnej a organizacnej vystavby delost-relectva Domodrany // Kolabaracia a odboj na Slovensku a v krajina nemeckej sfery vpluch v rokoch 1939–1945. Banska Bystrica, 2009. S. 296–310.
13
Данный крест являлся «символической» наградой, которую получали словацкие военнослужащие, имевшие знаки отличия, полученные в период Первой мировой войны.
14
VUA-VHA Praha, Kvalifikacm listina V. Milodanovica; Vojenske osobnosti dejm Slovenska… S. 170; Письмо Алексея Скуратова, 3 декабря 2018 г./ Личный архив автора (ЛАА).
15
Письмо Алексея Скуратова, 21 января 2018 г./ ЛАА; Приказ Главного управления кадров Министерства вооруженных сил СССР по личному составу 24 марта 1947 г. № 0549/ Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Ф. 33. Оп. 563784. Д. 9. Л. 65.
16
УНРРА – Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций (англ. United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UN-RRA) – организация, созданная странами-противниками Германии в 1943 г. для восстановления пострадавших в войне территорий. Ликвидирована в 1948 г.
17
К сожалению, мы располагаем лишь заключительной частью данной статьи, отличающейся от русской версии аналогичных мемуаров. См.: Milodanovic V. Utok prvej skupeny Rychlej divizie na Kaukaze // Domobrana. 1955. Cfslo 1–2. S. 8-10.
18
Всеволод Евгеньевич Милоданович (некролог) // Часовой. 1977. № 609. С. 19.
19
Информация о послевоенной жизни и семье Всеволода Милодановича любезно сообщена его дочерью Татьяной.
20
Всеволод Евгеньевич Милоданович (некролог) // Часовой. 1977. № 609. С. 19.
21
Выражение принадлежит генералу Иззету-Фуаду-Паше, турецкому посланнику в Мадриде, автору известной в свое время книги «Упущенные благоприятные случаи» о войне 1877–1878 гг. – Прим. авт.
22
Рузский Николай Владимирович (06.03.1854 – 18.10.1918, Пятигорск). Генерал-адъютант, участник русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войн. Последняя должность – главнокомандующий армиями Северного фронта. По некоторым свидетельствам, среди офицеров был известен глупостью и крайней нерешительностью. В сентябре 1918 г. арестован большевиками и убит (изрублен шашками) вместе с остальными заложниками.
23
Вручавшийся в артиллерийских училищах наградной значок за стрельбу.
24
Инициатором развертывания Польских легионов в России выступил созданный 25 ноября 1914 г. Польский национальный комитет. Первый из них (так называемый Пулавский легион) начал формироваться уже через пять дней, а в феврале следующего года возник второй (Любельский) – уланская бригада численностью 300 человек. Численность польских частей постоянно росла, и в итоге 24 июля 1917 г. по распоряжению Временного правительства в районе Минска началось развертывание I Польского армейского корпуса. Подробнее см.: Thomas N. Polish Legions 1914–1919. Oxford, 2018. P. 20–24, 33–34.
25
Первая украинская национальная часть российской армии. Полк возник стихийно 1 мая 1917 г. и был «детищем» Украинского военного клуба имени Павла Полуботко – организации национально-настроенных украинских военнослужащих. Де-юре создание полка, первоначально именовавшегося 1-й Украинским казачьим имени гетмана Богдана Хмельницкого полком, а впоследствии – просто Богдановским, было утверждено на 1-м Всеукраинском военном съезде 5 мая того же года. Подробнее см.: Тинченко Я. Армии Украины 1917–1920 гг. М., 2002. С. 5–6.
26
Ныне – Новоселице, районный центр в Черновицкой области Украины.
27
Обручешников Александр Константинович (16.03.1867 —?). Выпускник Михайловского артиллерийского училища, участник Русско-японской и Первой мировой войн. 32-й артиллерийской бригадой командовал с декабря 1915 г.
28
Идея создания национальных украинских частей была выдвинута летом 1917 г. генералом от инфантерии Лавром Корниловым, в качестве одной из мер поднятия боеспособности армии. После октябрьской революции процесс «украинизации» частей, переходивших под юрисдикцию Центральной рады (органа управления автономной Украины), стал стихийным.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

