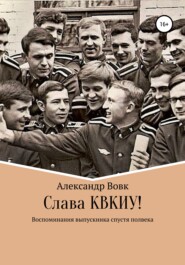 Полная версия
Полная версияСлава КВКИУ!
В качестве механизма управления людьми прекрасно подходит дезинформация. Она вдавливается в население с помощью всевозможных шоу и псевдоновостных программ.
Дезинформация легко переворачивает сознание людей вверх дном.
Для них сторонники вдруг становятся их врагами, враги – защитниками и учителями!
Например, многие до сих пор считают Зюганова коммунистом, а Жириновского демократом, хотя эти штрейкбрехеры отличаются лишь своей демагогией, но не делами, и даже не голосованием за различные антинародные законы! Впрочем, там же не голосование, а полная имитация любой деятельности!
Боже мой! Ведь руководство СССР, как ни странно, своему народу во вред, изо всех сил старалось, чтобы советские люди не догадались, что они живут хотя и не в раю, но в самой лучшей стране на свете! Так и было! Но они должны были завидовать Западу, не понимая, что рай там устроен для очень немногих, а как живется большинству, никому в мире не показывают! Западу все в СССР должны завидовать! Так проще будет СССР разрушить!
Наивное население ничего же не понимает! Оно шумит, переживает, возмущается, но до причин собственных бед додуматься не может. Оно не имеет представления о классовых интересах и их роли в своей жизни. Оно даже гордится многочисленностью своих протестных акций. Глупцы! Разве такие акции как-то улучшат их трудную жизнь?!
Ни за что! А вот оказать себе помощь в осуществлении нового кровавого майдана они могут. Кто же точно знает, когда станут опять из пулемётов расстреливать собравшихся на площади? Разве такого не бывало?
Если же недовольных людей соберётся очень много, можно для торжества правопорядка и демократии пригласить иностранных легионеров! Разве не так уже бывало?
Теперь многие оболваненные соотечественники не в состоянии понять, как они без наручников оказались рабами? Но такое уж оно – современное финансовое и цифровое рабство! Деньги и природные богатства всё равно рекой утекают в метрополию, даже если население не заковано в кандалы! Формально не заковано!
Люди теряют страну! Люди теряют себя и не сознают этого. Что будет дальше?
51
Я выглянул в овальное окошко. Наш самолёт спешил обогнать полупрозрачные облака, стелющиеся под нас.
Пассажиры вокруг, даже дети, давно притихли, окунувшись в дремоту, а я продолжал вспоминать и, насколько возможно, размышлять. Любимое занятие! Но оно не терпит суеты, которая в обычной жизни нас душит и почти нигде не оставляет в покое. Редко удаётся вот так, как теперь, повспоминать, подумать о том, что не давит на психику своей необходимостью и срочностью.
Казалось бы, под монотонный гул моторов перед глазами должны прокручиваться именно три последних дня, насыщенных минором, но в мозгах крутилось совсем другое, – всё давнее и обычно не вспоминаемое.
Всё оно, конечно, сразу отступит на третий план и забудется, как только меня настигнут обычные дорожные заботы и хлопоты. Тот же прилёт в Домодедово. Сразу придется мчаться на регистрацию своего транзита и так далее.
«Это мне-то мчаться? Как вы себе это представляете? Хорошо, хоть не придётся заезжать в саму Москву. Давно не приемлю ее утомляющую нормальных людей нерациональность во всём и неподкреплённый ничем вызывающий снобизм москвичей!»
«Кто же более остальных закрепился в памяти из военных преподавателей? – стал припоминать я. – Как ни странно, но затрудняюсь ответить! Запомнились-то многие, но каждый по-своему».
Кто-то запомнился причастностью к очень важному или интересному для меня предмету обучения. Кто-то – методикой преподавания. Кто-то – привлекательностью собственной личности! Да, мало ли чем?
Например, весьма важную дисциплину – теорию ракетных двигателей – вёл у нас кандидат технических наук подполковник Кондратьев. Мне он очень нравился «истинно» ученым видом – большие очки, внушительные залысины, солидность, чувство собственного достоинства.
Лекции он проводил безупречно. Всегда логично, последовательно, исчерпывающе и, в то же время, всё сформулировано кратко, прямо под запись. И отношения с нами он наладил прекрасные, хотя такие, что дистанцию мы всегда ощущали.
Иной раз Кондратьев разряжал нас забавными историями, произошедшими с известными ракетчиками. Он со многими знаменитостями был лично знаком. Мы те истории особенно ценили – интересно, и конец занятия казался ближе.
Кондратьев никогда не опускался до пошлостей или нелитературных выражений. Его занятия всегда были насыщенными, без «воды», сплошь математизированными, с большим количеством эскизов, схем, графиков и заполненных табличек.
Много лет спустя мне стало известно, что в Кондратьеве я не ошибался. Он стал-таки заместителем начальника училища по научной и учебной работе. Достаточно высокая и достойная его должность. Рад за него. Мне всегда казалось, что он к этому и должен прийти. Правда, «сорока» на хвосте принесла, будто «многие коллеги им недовольны». Будто «зазнался, ни с кем не считается».
Не знаю! Я в таких вопросах мнения «сорок» не воспринимаю. Я предпочитаю во всём разбираться самостоятельно и составлять о людях собственное представление, благо, о Кондратьеве оно у меня уже давно сложилось. Таким пока и остаётся.
52
Были еще два очень интересных преподавателя, внешне даже несколько схожих между собой. Когда каждый из них по отдельности работал с нами, им невозможно было не любоваться. Вполне естественно, что меня тогда мало интересовали методические проблемы преподавания. И не мог я предвидеть, что когда-то стану преподавать, тем не менее, уже тогда искренне восхищался обоими подполковниками-преподавателями – Неврединовым и Гамазовым.
В первую очередь учёба свела меня с Неврединовым. Он преподавал топогеодезию. Запомнилась его особая педантичность в самом лучшем смысле этого слова, абсолютная точность и пунктуальность во всём. Ни одного лишнего слова в определениях! Такой же точности он добивался и от нас. Ни секунды потерянного учебного времени.
«Товарищи курсанты, дирекционный угол, это угол между вертикальной линией сетки карты и направлением на данную точку, отсчитываемый по часовой стрелке!»
Во как! Абсолютная истина, и никаких лишних слов! И всё другое точно так же! До сих пор хорошо помнится, что он в нас вколачивал. И, слава богу, что нас учили такие люди!
Как сегодня вижу перед собой подполковника Неврединова, призывавшего нас к порядку по случаю приближающегося конца занятия:
– Товарищи курсанты! Прошу не отвлекаться – у нас ещё тридцать пять секунд!
Встретившись с такой постановкой вопроса впервые, мы, курсанты, конечно, подчинились. И как могло быть иначе, если этого требовал старший офицер и наш начальник! Но внутренне тогда все над ним смеялись!
«Ну, какие могут быть секунды, в самом деле?! Стоит ли до такой степени мелочиться? Ведь конец занятия неизбежен, как мировая революция! Раньше на полминуты или позже, какая разница?»

Оказалось, что разница была! Только позже мы проверили на себе, что каждое занятие подполковника Неврединова действительно рассчитывалось с точностью, в которую трудно поверить, но она становилась нашей реальностью! До секунды!
И проверить это мог каждый. Ведь топогеодезисты при наблюдении таких небесных светил, как Солнце, действительно работают с секундомером. Вот и мы потом, чтобы достичь нужной точности измерений, обязательно сверяли хронометры, привязываясь к началу шестого сигнала радиостанции «Маяк» в любой час ноль-ноль минут.
Право же, не наша вина в том, что под воздействием чьего-то высокопоставленного непонимания сути этой важной сверки, точное время на «Маяке» вдруг стало совпадать не с началом шестого сигнала, а просто (?) с шестым и к тому же растянутым звуковым сигналом. А ведь он итак очень длинный! Целая секунда писка! И после такой реформы никто не объяснял, когда именно начинается час – одновременно с началом сигнала или с его концом. В общем, мы ещё раз убедились, что точность теряется не от излишней педантичности исполнителей, а от изрядной глупости некоторых начальников!
Лишь поначалу мы недооценивали «мелочность» подполковника Неврединова. Но уже через много-много лет я и сам старался работать, подражая ему. Спасибо нашему старшему товарищу не только за топогеодезию, но и за его науку педантично работать и жить!
С подполковником Гамазовым мне посчастливилось познакомиться несколько позже, но я рад, что такая встреча в моей жизни состоялась. Он был совершенно образцовым преподавателем.
Для сравнения могу поделиться своими посторонними наблюдениями, то есть, не в нашем училище.
Так вот, в гражданских вузах столь классных специалистов я не встречал, хотя самому немало пришлось в них преподавать. Хорошие преподаватели, конечно, встречались и там. Было бы глупо утверждать обратное, хотя лично мне они не попались. Но был же Терегулов, например, который преподавал и у нас, и в Казанском университете, и в КИСИ, и в других вузах. Значит, всё же были преподаватели достойные и в гражданских вузах Казани!
По-моему, особенно много их могло быть в Казанском авиационном институте – КАИ! Очень серьёзный вуз! Знаменитая кузница авиационных кадров. Этот вуз даже самостоятельно решал, чему и как учить студентов. Мало каким вузам в стране это доверяли! Но с КАИ, будучи курсантом, я плотно связан не был. Моя полная занятость являлась тому оправданием.
Мне в гражданских вузах не везло на радующие встречи. За пятнадцать лет на разных кафедрах попадались только плохие или очень плохие преподаватели. Приспособленцы! Моего уважения они не могли заслужить. В вину им можно поставить плохое знание собственной учебной дисциплины, разбазаривание учебного времени на пустую болтовню, вопиющую непунктуальность, отвратительные формулировки, неспособность работать без конспекта из-за плохого знания учебных материалов, полное отсутствие связи с обучаемыми во время занятия, высокомерность в отношении студентов, легкость многочисленных отступлений от учебного плана. Да, мало ли чего мне приходилось видеть! А взяточничество? Полная низость!
Абсолютно уверен, что следовало взашей гнать большинство тех штатских преподавателей, независимо от их формальной квалификации, с которыми мне приходилось контактировать. Они, большей частью, не учили студентов, а калечили их и профессионально, и морально.
Правда, есть очень серьёзное дополнение к моим обвинениям. Эти обвинения очень современны. То есть, военных преподавателей своей молодости я сравниваю с нынешними преподавателями гражданских вузов, хотя за эти годы всё в стране перевернулось вверх дном. Даже нечто черное повсеместно стали выдавать за белое!
Возможно, полвека назад моё мнение о преподавании в тех же гражданских вузах было бы иным. Может, низкий современный уровень – это результат уже нынешней «модернизации» образования? Но сам я этого уже не узнаю, поскольку тогда не было возможности посещать занятия в гражданских вузах, а чужим выводам без личной проверки обычно не верю!
Впрочем, на нескольких занятиях в Туркменском политехническом институте я присутствовал, когда прилетал к своей невесте, студентке этого вуза. Но разве я вправе по ним составлять представление обо всём учебном процессе? И, тем более, обо всех вузах страны. Но я всё-таки косвенно его составил, зная уровень профессиональных знаний своей супруги, выпускницы факультета технологии неорганических веществ. И этот уровень я считаю высоким, хотя бы потому, что она без проблем была принята на работу в крупное ленинградское НПО «Авангард», в его НИИ. И числилась среди лучших работников. Стало быть, я в своих оценках не ошибаюсь!
Предвижу, что меня кто-то упрекнёт: «Если видел, как всё плохо в гражданских вузах, то почему же не боролся, коль уж такой честный, такой справедливый, такой борец за правду?»
Упрёк считаю справедливым. Отвечу на него так. Не мог! Не мог бороться сразу со всеми, да ещё, не имея союзников! Такое, никому не по плечу! А союзников для борьбы я так и не нашёл. Все держались за свои места, и им было глубоко наплевать на состояние преподавания в их родном вузе.
Смысл их существования описывался несколькими принципами: «Зачем портить отношения с начальством? Своя рубашка ближе к телу! А своя зарплата – ещё ближе! Жизнь прекрасна, но коротка – она была бы гораздо лучше, если бы не было студентов!»
Надо учитывать, что гражданские вузы всегда были сильны круговой порукой! Они никогда и ни при каких условиях собственный мусор на всеобщее обозрение не выносили, не выносят и не вынесут! Даже если этот мусор любое проявление жизни в вузе задушил!
В гражданских вузах рука всегда другую руку моет. Тамошние псевдоучёные обязательно под себя готовят и новые кадры. Можно смело утверждать, что себя же они во всей красе и воспроизводят! Как воспроизводят и прежние традиции, и прежние «порядки». Потому мало надежды, что когда-то станет чище. В общем, такая преемственность традиций называется у них научными школами!
Когда-то в споре с описанными корифеями одного гражданского вуза я сам нашёл, как мне показалось, точную формулировку состояния современной системы высшего образования в стране: «Самый плохой военный вуз, лучше любого самого хорошего гражданского!»
Может, со временем этот тезис и перестанет быть истиной, но только не сегодня!
Я совершенно искренен, не защищаю честь мундира, и вполне отдаю себе отчёт в сказанном. Мне, знаете ли, статистическая пыль в виде количества профессоров и докторов в каком-то прославленном вузе не сможет закрыть глаза на истинное в них положение! Насмотрелся я вдоволь!
В любом военном вузе организация проведения занятий на голову выше! Потому лучше и результаты, хотя в военных вузах значительно реже попадаются выдающиеся таланты среди обучаемых. В гражданских вузах, особенно, в прославленных, их значительно больше! Подготовка крупных специалистов там налажена в единичных экземплярах, остальных – как придётся! В армии – всё наоборот!
Очень важно, что в армии работает хотя и не идеальная, но достаточно принципиальная система контроля преподавателей, что не позволяет халтурить даже прирожденным пройдохам и лентяям. В штатских вузах – всё наоборот! Там нет ни такой системы, ни элементарного контроля!
Бабушка мне о такой организации труда говорила просто: «Пусти козла в огород!»
Так вот! Подполковник Гамазов преподавал нам «Теорию полёта». Это та звёздная наука, которую когда-то начинал разрабатывать Константин Эдуардович, узнаваемый теперь, как мне кажется, всюду по имени-отчеству, потому фамилию его не называю!
В общем, это та самая наука, которая оперирует всевозможными углами рыскания, тангажа, вращения, углами атаки, космическими скоростями, устойчивостью и неустойчивостью полета, управлением летательных аппаратов переменной массы и так далее. Поначалу всё это для нас было полным кошмаром! Но ничего, скоро нас многому обучили! Постепенно всё улеглось и в наших головах!
Каждое занятие подполковника Гамазова было блестящим! И, надо сказать, его стремление нас образовать всё-таки не пропало даром. Он действительно многому нас научил. И потом мы вспоминали добрым словом и его великолепно отработанные занятия, и его самого.
53
Мне врезался в память наш первый буссольный ход. Занятие тогда проводил полковник Пущай. Он служил на кафедре топогеодезии и тоже запомнился самым лучшим образом.
В тот день было двадцать девятое мая, мой день рождения, но снег на северной стороне оврагов еще лежал. И это притом, что дневное тепло сюда пришло давно.
А какой тогда был год, у меня выветрилось. Либо 1968, то есть, окончание моего первого курса, то ли следующий, когда мы учились уже на втором.
Занятие было полевое, то есть, на природе. Погода нам досталась приятной, солнечной. Караваны белых облаков не предвещали дождя.
К 16 часам взвод вывезли далеко за город, и машина ушла обратно. Красота в тех местах прямо как в сказках о былинных богатырях и сонной древней Руси. Вокруг Казани вообще места живописные.
Поначалу мы расположились на господствующей высоте по соседству с тригонометрическим пунктом. После уже привычного давления города, простор нам казался космическим! Видимость – на десятки км, пожалуй! В любую сторону! Хотя и с дымкой, снижающей резкость и контрастность, особенно если глядеть через мощные объективы.
Местность своеобразная. Не ровная, не гладкая, а причудливо холмистая. Очень красиво! Где-то темнеет пятнышко леса, где-то блестит речушка, пробираясь по дну овражка! Словно ориентиры, расставленные для нас, вдали уединились прозрачные берёзки. Или дубы с широкополыми шапками из веток и листвы. Куда ни глянь, видны поля под озимыми, огромные и поменьше! Одни растянулись светло-зелеными полосами вдоль дороги, другие пристроились к ней поперёк!
Дальняя деревенька, собранная из крохотных домиков, растянулась вдоль прямой и чересчур уж широкой улицы, безжалостно изрытой тракторами в недавнее распутье. Оторвавшиеся от мира хуторки и чёрно-белые коровы в лугах, словно игрушечные.
Небо голубое, зелень во все стороны и светлая, и темная, и пятнистая. А далеко на Востоке нырнул за горизонт большой тёмный лес. На востоке осталась Казань, всем своим городским телом загороженная от нас длинным холмом.
Мы замерли среди невзрачных полевых цветов, почему-то опасаясь топтать их сапогами. Молча любовались сказочной русской природой. Тянули время. Кому хотелось, спокойно покуривал. Всем тайно мечталось, чтобы нас здесь оставили в покое.
Теорию буссольных ходов мы заранее познали в классе. Предстояло научиться прокладывать эти ходы на местности.
Вообще-то, буссольный ход – это всего лишь ломанная прямая на местности. Он начинается с точки, координаты которой уже известны, а завершается в точке, координаты которой предстоит определить. Трудности связаны с тем, что конечная точка находится на большом удалении и не в пределах прямой видимости. Приближаться к ней приходится в несколько этапов (заходить «из-за угла»), производя измерения и вычисления в узловых точках.
Полковник Пущай напугал нас своим строгим видом при первом знакомстве в начале семестра, но скоро выяснилось, что он человек добрейшей души. Вот и теперь позволил нам налюбоваться местностью, прежде чем предложил заместителю командира взвода Генке Панкратову построить взвод для постановки задачи.
Задача оказалась предварительной: проверить и приготовить к работе всё, что требуется, поскольку скоро начнём работать.
Взвод поделился на десять групп по три человека в каждой. Группам досталось по одной перископической артиллерийской буссоли ПАБ-2А в комплекте с полосатой двухметровой рейкой к ней для измерения расстояний. Кроме того, у каждого курсанта имелась полевая сумка, а в ней топографическая карта местности, тетради с конспектами, бланки, карандаши, резинки, курвиметр, компас, командирская линейка, циркуль-измеритель и тяжелая стальная пластина с гравировкой, называемая хордоугломером. Разумеется, все носили на себе любимый противогаз! Шинели мы сложили рядом с ненужным пока имуществом в стороне.
Читателю, которому не довелось прокладывать буссольные ходы, будет интересно, что буссоль – это простенький оптический прибор для измерения магнитных азимутов и дирекционных углов. В сборе она тяжеловата, 15 кг, но чаще всего используется «голенькая» буссоль на складной металлической треноге. Она уже легче – около 6 кг.
Когда мы приготовились к работе, то от полковника Пущая получили для разминки и притирки в группах достаточно простую задачу. У всех групп буссольный ход вышел коротеньким, всего с одной узловой точкой.
Полковник Пущай запустил секундомер, и время нашей задачи пошло.
Все заторопились, выполняя заранее распределенные между собой обязанности. В каждой группе один человек работал с буссолью, другой бегал с вехой и дальномерной рейкой, выставляя их, где следовало, а третий записывал показания и производил расчёты.
Сразу выяснилось, что гладко было на бумаге, а на местности возникла неразбериха и несогласованность в группах. Докричаться до своего товарища, убежавшего с рейкой за триста-четыреста метров, очень трудно, только горло порвешь, связи ведь нет. А он, словно специально, отвернулся и рейку держит с наклоном. Ветер крик сдувает или ещё что-то не так!
Постоянно мешали другие группы. Делая свою работу, они заслоняли нужную веху, тоже кричали, тоже суетились, тоже нервничали, но отсутствие связи и огромные расстояния этим не компенсировались. Все безобразия усиливались десятикратно, ровно по количеству групп.
К тому же показания с буссоли снимались в делениях угломера, непривычных для ракетчиков. В одном большом делении угломера – шесть градусов. В одном малом – 3,6 минуты! Это затрудняло расчёты в градусной системе.
Да и буссоль в каждой точке хода приходилось переустанавливать заново. То есть, переносить ее, укреплять треногу в грунте, опять добиваться горизонта с помощью шарового уровня, а затем и совмещения с магнитным меридианом. Ещё следовало вбить колышек и по вертикали над его перекрестием расставить веху. И только затем наводить буссоль для измерения углов. Без связи управление любыми действиями каждой группы осуществлялось либо криком, либо жестам, о которых заранее не договорились. В общем, всё делалось, как придётся!
По измеренным углам и расстоянию между соседними точками производились тригонометрические вычисления. Это позволяло последовательно вычислять координаты узловых точек, а потом и конечной. Все отсчёты заносились в специальные бланки. В них же производились вычисления. Бланки слегка облегчали работу, позволяя заполнять нужные графы машинально, но при вычислениях, несмотря на громоздкость чисел, приходилось обходиться карандашом и бумагой, ведь в те годы ещё не было даже простейших электронных калькуляторов.
Теперь мне кажется, что идея погрузить читателя в подробности работы оказалась неудачной, поскольку суть моих воспоминаний отнюдь не о самом буссольном ходе, а лишь о полковнике Пущай и о наших с ним приключениях. Можно сказать, о мытарствах!
Постепенно все группы перетекли к последней точке, где и заканчивали последние вычисления.
Полковник Пущай по очереди проверил результаты работы всех групп, не оглашая оценки. Потом построил взвод и объявил, что время работы в расчёт пока не принимал, поскольку оно «ни в какие ворота!» А по поводу точности объявил правильные координаты конечной точки и попросил каждую группу самостоятельно вычислить погрешности своей работы по обеим осям. Если они более двух метров, то оценка «неуд». А потом добавил, что по его сведениям ни одна группа с задачей не справилась.
Мы приуныли. Мы ведь так старались.
«Ладно! – подвёл окончательные итоги полковник Пущай. – Попробуем еще раз! Старшие групп для получения новой задачи – ко мне! Начало работы всех групп – по моей команде! Вопросы?»
Вопросов у нас ещё не было.
Через час напряженной работы разбор наших успехов по случаю очередного буссольного хода повторился. Теперь почти все группы по точности вошли в норматив, но даже у тех из них, которые опять не справились, грубых ошибок не оказалось, лишь отдельные погрешности, загубившие окончательный результат.
«Перерыв пятнадцать минут! – объявил преподаватель. – Как раз до приезда за нами машины. А после ужина вернёмся и продолжим занятие здесь уже в ночных условиях! Как и предусмотрено расписанием занятий!»
Перерыв растянулся на полчаса. Уже темнело. Наконец, полковник Пущай объявил всем:
– Перерыв прекращаем, хотя машина к 18.30 за нами не пришла! Опоздавших мы никогда не ждём, потому продолжим занятие!
Для нас это стало неприятной неожиданностью. Ужин явно срывался, но не по вине присутствовавших, потому решение преподавателя казалось вполне логичным. Мы перенастроились, ведь иных вариантов действий всё равно не оставалось.
Старшим групп полковник Пущай выдал новые задания и опять запустил секундомер. Работа закипела. Мы наивно полагали, будто уже получили достаточный опыт, потому справимся быстрее и точнее.
Не тут-то было! К прежним проблемам добавилась темнота. И этот факт оказался решающим.
Сразу выяснилось, что штатные щелочные аккумуляторы для подсветки буссолей и вех едва живы. Наши всегда слабые карманные фонари тоже продержались недолго, но даже если и светили, то их приходилось как-то удерживать над бланками и одновременно писать. И сам бланк приходилось прижимать в плоскости полевой сумки, удерживаемой на колене. Дополнительных рук для этого не предусматривалось.
А уж производить вычисления при тускло дрожавшем освещении было либо трудно, либо невозможно – хоть глаза выколи! В темноте даже слегка налаженные «переговоры» жестами с носителями дальномерных реек больше не получались. Мы просто не могли разглядеть друг друга.
Зато где-то впереди мерцали сразу двадцать подсветок всех десяти реек и десяти вех! Выбирай любую! Но с какой вехи снимать отсчёт? Разобраться в этом без связи было невозможно, а ошибка сводила всю работу насмарку. Правда, скоро мы сообразили, что снять отсчёт на чужую рейку, не так уж страшно, поскольку ошибка в расстоянии окажется незначительной, а вот навести буссоль на чужую веху, означало крах всей работы.

