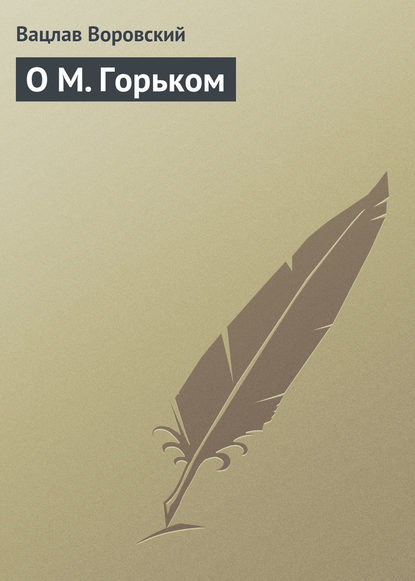 Полная версия
Полная версияО М. Горьком
Григорий Орлов по профессии сапожник; человек он сметливый, знает мастерство; он женат и любит свою жену, – казалось бы, имеются все элементы, чтобы создать скромное мещанское счастье. «Другие живут – не жалуются, а копят денежки, да свои мастерские на них заводят и живут потом уже сами-то, как господа»[14].
А Орлов не может примириться с своей жизнью. «Научился я мастерству… – рассуждает он, – это вот зачем? Али, кроме меня, мало сапожников? Ну, ладно, сапожник, а дальше что? Какое в этом для меня удовольствие?.. Сижу в яме и шью… потом помру… И зачем это нужно, чтобы я жил, шил и помер?» (стр. 90). И вот с горя и тоски от такой жизни Орлов стал запивать; периодически, от времени до времени, на него нападали приступы беспричинной злобы, во время которых он безжалостно избивал жену и напивался в кабаке в веселой компании. Приступы эти начали повторяться все чаще, и Орлов бесповоротно шел по наклонной плоскости, внизу которой ожидала его печальная участь босяка. Но пока он еще держался в положении ремесленника и, подобно Коновалову, старался объяснить свое несчастье с точки зрения личной неприспособленности. Впоследствии, дойдя-таки до положения босяка, он иначе посмотрит на вещи и, как подобает истинному босяку, будет винить общество в своих неудачах. Пока же, не порвав еще связи с этим обществом, он считает его нормальным, правильным, себя же – непригодной единицей. «Я родился, видно, с беспокойством в сердце, – рассуждает он. – Характер у меня такой. У хохла[15] он – как палка, а у меня – как пружина; нажмешь на него – дрожит… Выйду я, к примеру, на улицу, вижу то, другое, третье, а у меня ничего нет. Это мне обидно. Хохлу – тому ничего не надо, а мне и то обидно, что он, усатый черт, ничего не хочет, а я… и не знаю даже, чего хочу… всего. Н-да… Я сижу вот в яме и все работаю, и ничего нет у меня» (стр. 92). Сознавая свою неприспособленность к установившимся формам жизни, Орлов нисколько не сомневается в том, что его место в среде «босой команды». «В босяки бы лучше уйти, – говорит он. – Там хоть голодно, да свободно» (стр. 93). И эта участь постигла бы его гораздо раньше, если бы не вмешательство совсем постороннего случая.
В городе появляется холера и начинается самоотверженная борьба с ней. Среди опасностей заразы, среди недоверия, почти враждебного отношения со стороны темной массы населения борьба с эпидемией возвышается до подвига, до самопожертвования. Я упомянул выше, что неприспособленные к данной среде личности могут, при более благоприятных условиях, подняться до героизма. Таким условием является для Орлова холерная кампания с ее лихорадочной деятельностью, ежеминутной опасностью и ореолом подвижничества. Он поступает санитаром. Самоотверженность медицинского персонала, сознание, что «из-за денег так работать нельзя», увлекают Орлова, и он идеализирует свою роль, перенося героические элементы с личности на самое дело. Такое чуждое всякой поэзии явление, как зараза, принимает в его воображении художественный облик былинного характера. «Горит у меня душа, – признается с восторгом Орлов жене. – Хочется ей простора, чтоб мог я развернуться во всю мою силу… Эхма! силу я в себе чувствую – необоримую! То есть, если б эта, например, холера да преобразилась в человека… в богатыря… хоть в самого Илью Муромца, – сцепился бы с ней. Иди на смертный бой! Ты сила – и я, Гришка Орлов, сила, – ну, кто кого? И придушил бы я ее и сам бы лег… Крест надо мной в поле и надпись: „Григорий Андреев Орлов… Освободил Россию от холеры“. Больше ничего не надо» (стр. 127). Эта фантазия Орлова очень характерна для психологии неприспособленного типа. Он может подняться до героизма, но не может устоять на уровне планомерной, постоянной работы, как бы высоко он ее ни ставил. Отрицатель одной общественной формы, он, как крайний индивидуалист, не может примириться с другой формой, а всякая планомерная работа предполагает определенную общественную форму, определенный порядок. Если бы по щучьему велению изменились в одну ночь существующие общественные формы, и изменились в пользу неприспособленных, – они устранили бы возможность появления в будущем Орловых, Коноваловых и пр., но живых, сложившихся Орловых они не исправили б, самое большее – они увлекли бы их в первую минуту.
И действительно, после некоторого времени Орлов начинает задумываться. «Петр Иванович говорит: все люди равны друг другу, а я разве не человек, как все? Но, однако, доктор Ващенко получше меня, и Петр Иванович получше, и многие другие… Значит, они мне не равны… и я им неровня, я это чувствую…» (стр. 131). Освоившись со своим новым кругом и новой работой, Орлов замечает, что это тоже своего рода «будни», среди которых стынет его «праздничный» энтузиазм. Он столько времени с такой жаждой карабкался по крутой скале на это плоскогорие – и вот теперь видит, что здесь так же живут, так же пасутся стада, так же светит солнце и дует ветер, как и на равнине. Здесь, в среде санитаров и врачей, он нашел тоже вполне определенные общественные формы и скоро почувствовал, что к этим формам, к психологии их представителей он так же не приспособлен, как и к оставленной внизу форме. Он оказался им неровня – и задумался… А тут случилось маленькое обстоятельство. В барак принесли Сеньку Чижика – мальчика с одного двора с Орловыми. К вечеру Сенька умер. Смерть эта сильно повлияла на подготовленную уже к сомнению мысль Орлова. Умолкнувшие на время в_ его душе «проклятые вопросы» подняли голову, с деятельности его начала спадать завеса героизма, обнажая ее «будничную» сторону. «Его охватило расслабляющее сознание своего бессилия перед смертью и непонимание ее. Сколько он ни хлопотал около Чижика, как ревностно ни трудились над ним доктора… умер мальчик! Это обидно… Вот и его, Орлова, схватит однажды и скрючит… И кончено…» (стр. 135). Семя сомнения запало. Напрасно Орлов думает, что его мысль может облегчить разговор с умным человеком – такими же мечтами утешает себя и Коновалов, – это одна иллюзия, желание хоть несколько заглушить внутреннюю неудовлетворенность и тоску. Интересную противоположность Орлову представляет его жена, Матрена. Вместе, в одинаковых условиях застаем мы ее с ним в подвале, где она помогает мужу шить сапоги, вместе поступают они в барак. Но везде Матрена является спокойной, уравновешенной, любящей женщиной, резко отличаясь от своего неугомонного мужа. В бараке, попав впервые в условия приличной мещанской обстановки, она сознает, как плохо жила прежде, и у ней является желание обеспечить за собой это тихое, чистое существование на будущее время. И когда муж ее начинает опять впадать в прежние пороки, она решительно отказывается от него и устраивается мастерицей при школе. Натура, вполне приспособленная к своей среде, она находит наконец удовлетворение и счастье в тихой, серенькой деятельности в этой среде. Не то ее муж. Уже скоро после смерти Чижика в нем пробуждается прежняя тоска. «Так мне тошно! – жалуется он. – Так мне тесно на земле! Ведь разве это жизнь? Ну, скажем, холерные – что они? Разве они мне поддержка?
Одни помрут, другие выздоровеют… а я опять должен буду жить. Как жить? Не жизнь – одни судороги… Разве не обидно это? Ведь я все понимаю, только мне трудно сказать, что я не могу так жить… а как мне надо – не знаю. Их, вон, лечат, и всякое им внимание… а я здоровый, но ежели у меня душа болит, разве я их дешевле? Ты подумай – ведь я хуже холерного… у меня в сердце судороги – вот в чем гвоздь» (стр. 144).
Итак, Орлов опять возвращается к своему прежнему душевному настроению; но все, что в нем притихло и укрылось в глубине души за время его увлечения санитарной деятельностью, разражается теперь с большей силою: он делает решительный шаг – идет в босяки. В конце рассказа мы встречаем его уже в подозрительном кабачке, развивающим чисто босяцкую философию. «И по сю пору, – признается он, – хочется мне отличиться на чем-нибудь… Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей и жидов перебить…[16] всех до одного. Или вообще что-нибудь этакое, чтоб стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты… И сказать им: ах, вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное, больше ничего! И потом – вниз тормашками с высоты… и вдребезги» (стр. 151).
В рассказах г-на Горького можно найти еще очень много более или менее выпуклых характеристик, над которыми стоило бы остановиться. Но я ограничусь рассмотренными типами, не имея в виду вдаваться в подробную критику произведений нашего автора. Цель настоящего письма – выяснить определенную точку зрения, установить критерии для публицистической[17] оценки произведений г-на Горького в противоположность той прописной морали, из которой рекомендует исходить критик «Вестника Европы».
Теперь я позволю себе несколькими штрихами отметить отношение автора к его героям, ввиду всего, что свалил на его голову г-н Ляцкий.
Изучив своих героев в жизни, по непосредственному личному знакомству, г-н Горький подметил печальный для нашего общества факт, что за грубой оболочкой «волчьей» морали, или, вернее, практики жизни, в них кроются нередко такие жемчужины нравственных качеств, к которым тщетно апеллируют современные писатели и мыслители. Та сила личности, хотя бы на практике и дурно направленная, та вечная неудовлетворенность серой посредственностью, ненасытная жажда чего-то лучшего, сосущая тоска по необыденному, по «безумству храбрых», – все эти симптомы протеста против установившегося склада общественных отношений – разве это не есть живое воплощение тех идеальных порывов, к которым тянутся лучшие силы современного общества, которых они не находят в своей среде? Разве не эта потребность создала славу и популярность Ибсена, Ницше, да и самого г-на Горького? А между тем не поразительный ли это признак, что те самые качества, по которым тоскуют лучшие силы общества, систематически вытесняются из него самым строем жизни, неутомимо выбрасываются за борт, как ненужные, чтобы не сказать – вредные. Видно, что-то неладно творится в самом обществе, если жемчужины его нравственного уклада надо искать на задворках, в навозных кучах. И наш автор выкопал такую жемчужину и показал ее обществу. С этих пор он стал певцом этой жемчужины, певцом тех нравственных качеств, которых нет в нашем обществе, но которые неизбежны, чтобы подняться до высшего уровня. Для автора герои его представляют не реальную общественную ценность, а так сказать, абстрактную ценность, как носители известных нравственных качеств. Отношение автора к босякам, как живым личностям, не оставляет ни малейшего сомнения, и нужно удивляться только беззастенчивости некоторых господ, приписывающих ему не только взгляды и мораль, но и поступки бродяг и воров[18].
С нравственными качествами, которые г-н 'Горький встретил в среде отверженных, он, как с мерилом, подходит к разным слоям общества. Но в одних – например, в торгово-промышленном классе – если и проявляются некоторые из этих качеств, то лишь как выгодное орудие в борьбе за барыши и власть («Фома Гордеев»); в других – низшем городском или сельском – он увидел лишь мелочную борьбу за неприглядную действительность; и если там и встречались личности, одаренные этими качествами, то и те бежали «на волю», то есть в босяки. Наконец, с большими надеждами подошел автор к более всего обещавшему слою – интеллигенции. Что он нашел в ней, – неоднократно и вполне определенно выражено во многих рассказах. Отношение г-на Горького к интеллигенции – это тема для целой статьи. Я не могу на ней останавливаться, – и без того это письмо разрослось до размеров целого очерка. Позволю себе только, чтобы обратить внимание на отрицательное отношение г-на Горького к интеллигенции, указать на такие рассказы, как «Озорник», «Варенька Олесова», «Мужик», «Фома Гордеев».
Итак, г-н Горький не нашел, или, по крайней мере, не изобразил в своих рассказах такой общественной силы, которая могла бы воплотить излюбленные им нравственные качества. Причина этого, на мой взгляд, та, что сила эта только нарождается. Из пор общества медленно, но неуклонно выделяются элементы со своеобразной психологией, с недовольством сущим, с тоской по будущему и с культом силы, необходимой для этого будущего. Такие безымянные личности проскальзывают иногда в рассказах г-на Горького, но в неопределенных контурах. Самый факт популярности идей г-на Горького наряду с распространенностью аналогичных учений, хотя бы и исходящих из другого мировоззрения, например, Ницше, подтверждает высказанную мысль: очевидно в недрах общества нарождаются элементы будущего, на долю которых выпадет реорганизовать жизнь так, чтобы она больше не была «ямой».
Сноски
1
ужасный ребенок (фр.)
2
первый среди равных (лат.)
3
делать хорошую мину при плохой игре (фр.)
4
Просто и ясно, и нечего голову ломать!
5
Что-то вроде гоголевской унтер-офицерши!
6
Как видите, не одного г-на Горького, но и весь мир г-н Ляцкий оценивает с точки зрения прописной морали.
7
Это наивное «только» переходит все границы литературных приличий!
8
Рекомендую всем прочесть этот замечательный «разбор» г-ном Ляцким «Песни о соколе». Здесь он, подобно птице Сирину, «Сам себя позабывает»!
9
Выражение тоже одного из сотрудников «Вестника Европы» – г-на Спасовича в речи в защиту Кузнецова. Не правда ли, характерное выражение?
10
М. Горький, Рассказы, СПб., 1901, т. III, «Проходимец», с. 200.
11
Хотя она может быть названа общественной лишь как выросший на обществе паразит.
12
Это не значит, что Коновалов как личность может со временем превратиться в Челкаша или подобных. Переходным он является при рассмотрении вида «босяк», принимая Челкаша, Промтова и тому подобных за готовый, конечный тип.
13
М. Горький, Рассказы, т. II, с. 32.
14
Рассказы, т. II, «Супруги Орловы», с. 90 – слова жены Орлова.
15
Жилец на одном дворе с Орловыми.
16
Сравните с холерой – Ильей Муромцем!
17
Что касается художественной оценки творчества г-на Горького, я могу только подписаться обеими руками под благосклонным приговором г-на Ляцкого.
18
Против этого протестует и сам автор в письме в редакцию «СПб. ведомостей» от 22 ноября. Говоря по поводу вышедшей недавно книги «М. Горький. Афоризмы и парадоксы», он указывает на нелепость того, что «составитель книги приписал ему взгляды и мнения его героев».



