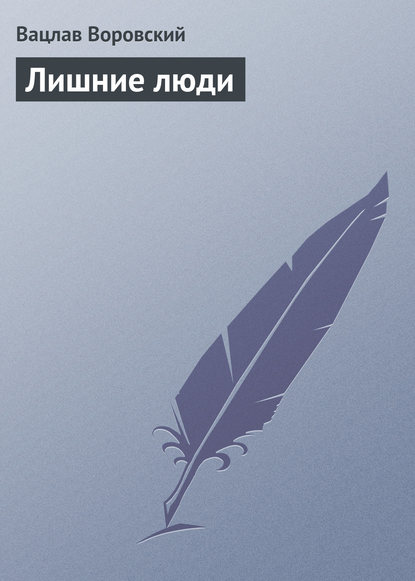 Полная версия
Полная версияЛишние люди
В интересующем нас процессе дифференциации прогрессивного дворянства особенно характерно одно течение, сыгравшее крупную общественную роль, так называемое кающееся дворянство. В поисках за новыми идеалами кающиеся элементы дворянства обращались к народной массе, к крестьянству, в полной уверенности, что их новые взгляды представляют верное выражение заветных мечтаний этой массы.
«Михаил Михайлович не мог не подозревать, – пишет Глеб Успенский, – что такое существо, как крестьянин, бедный, измученный, забитый, испытавший и переживший бог знает какие невзгоды, несущий на своих плечах опыт тысячелетних трудов, – должен, непременно должен питать ненасытную жажду устроить жизнь по-новому; у него в горле пересохло от этой жажды, он ждет не дождется, он страстно хочет вздохнуть полной грудью»[3].
Для кающегося дворянина естественна была мысль, что именно он, законный наследник поколений, взваливших на плечи крестьянина эти тысячелетние труды, что он-то и должен идти теперь к крестьянину и помочь ему «устроить жизнь по-новому», вздохнуть полной грудью.
В этом своем стремлении кающийся дворянин столкнулся с другим типом, выросшим из общественных низов и сошедшимся с ним на понимании практических задач времени – именно, с разночинцем. Разночинец не имел за собой такого прошлого, как его невольный спутник; разночинцу, как это справедливо указывал еще Н. К. Михайловский, не в чем было каяться.
Происходя из той пестрой среды, которую в Западной Европе обобщают понятием мелкой буржуазии – мелкого духовенства, купечества, крестьянства, разночинец вынес сильно выраженное демократическое настроение, приведшее его к психологии, отрицающей буржуазность. И эта психология невольно толкала его по тому же пути, по которому шел и кающийся дворянин.
«Странное существо человек, – рассуждает типичный разночинец Базаров. – Как посмотришь этак сбоку да издали на глупую жизнь, которую ведут здесь „отцы“, кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. – Ан нет; тоска одолевает… Хочется с людьми возиться, хотя ругать их, да возиться»[4]. Разночинец является идеологом par excellence[5]; в качестве такого он ищет подходящую прочную почву и таковую, как ему кажется, находит в народной массе.
«Разночинец чувствует свое бессилие в качестве самостоятельного общественного слоя, он ищет поэтому точку опоры для своих заветных целей, ищет ее в низинах, где так же страдают, как и он; он становится „народолюбив“. Таковы, на наш взгляд, основные психологические черты „разночинца“: они непосредственно вытекают из его социального положения» (А. П. Журнальные заметки)[6].
В первое десятилетие жизни обновленной России и кающиеся дворяне, и разночинец шли дружно в народную среду; первые – «чтобы уплачивать старинный, мучительный долг», по выражению А. О. Новодворского, вторые – «чтобы возиться с людьми». Правильнее даже сказать, что кающиеся шли за разночинцем, ибо этот молодой, жизнерадостный элемент с первых же шагов взял в руки дирижерскую палочку и на все движение наложил свой характерный отпечаток. Но недолго продолжалось это единомыслие.
При первых неблагоприятных обстоятельствах началось расхождение обоих течений и рельефно сказалось различие двух психологий: разночинец начал приспособлять обстоятельства к своим задачам, кающийся дворянин начал приспособлять свои задачи к этим обстоятельствам. И чем дальше, тем больше расходились их пути; бодрый, полный надежды разночинец пошел своей дорогой, а кающиеся элементы оказались не в силах жить самостоятельной жизнью: их дальнейшее шествие было постепенным падением. Мы и остановимся на истории этого падения, так как судьба разночинца не входит в рамки нашего очерка. Но прежде чем перейти к этой печальной истории, мы должны сделать одно замечание.
Два типа, разночинец и кающийся дворянин, являются в нашем дальнейшем изложении главным образом психологическими типами. Чем дальше от момента освобождения крестьян, тем больше затушевывается классовый характер обоих типов; состав обоих лагерей становится все более пестрым, но эта характерная психология, которую внесли в свое течение, с одной стороны, разночинец, с другой – разлагающееся прогрессивное дворянство, – эта психология продолжает налагать свой яркий отпечаток на оба течения.
Течение кающегося дворянства, которое можно было бы по его внутреннему содержанию назвать также культурно-народническим, являлось в рассматриваемый нами период идеологическим выражением настроений и взглядов той промежуточной, средне-дворянской, чиновничьей и интеллигентской среды, которая не успела еще дифференцироваться и раствориться в новых классах капиталистического общества.
IV
«Роман интеллигенции с народом» основывался, как мы видели, на том предположении, что освобожденный от крепостной зависимости народ должен мыслить, желать и развиваться так же, как и освободившаяся от своей прежней сословной психологии дворянская или разночинская интеллигенция. Из этой утопической предпосылки вытекала для сознания этой интеллигенции историческая возможность и моральная необходимость «идти в народ», слиться с ним, «опроститься».
«Мы идем слиться с народом, – говорит Серпороев[7], – мы бросаем себя в землю, как бросают зерно, чтобы зерно это взошло и уродило от сам-пять до сам-сто, как египетская пшеница».
«Вот где теперь потечет моя жизнь, – рассуждает другой герой того же романа, Караманов. – Вести беседу с этой теткой, жить жизнью, сердцем и мыслью батрака, войти в батрацкие интересы, отрешиться от всего мира, который вне батрачества, убить в себе потребности, которые развивают в человеке образование, богатство, знание, из крупного землевладельца, кандидата прав и литератора выродиться в поденщика и узкими интересами поденщика заглушить в себе все высокие человеческие интересы, – одним словом, буквально влезть в шкуру народа, чтобы понять этот народ и слиться с ним, отдать барское, белое, изнеженное тело посконной рубахе и сермяге, облечь узкую дворянскую ногу в онучу и лапоть, чтобы на себе самом почувствовать всю прелесть онучи и силу лаптя»[8].
С такими идеалистическими и альтруистическими намерениями пошла народолюбивая интеллигенция в деревню «работать и думать с народом». Но ее понятие о народе оказалось столь же наивным и фантастическим, как и представление о «прелестях онучи» и «силе лаптя». Народ действительный, реальный, а не водевильный народ старых сентиментальных романов оказался великим материалистом и эгоистом. Народ, – как это справедливо предполагал Михаил Михайлович, – действительно питал «ненасытную жажду» устроить жизнь по-новому; действительно хотел «вздохнуть полной грудью…». Но он жаждал устроить новую жизнь хозяйственного мужичка, жаждал материального благополучия мелкого буржуа, хотел вздохнуть полной грудью свободного собственника. Идеалистические порывы молодежи наталкивались на материалистическое желание: «Землицы бы»; ее альтруистическая проповедь не в силах была устранить эксплуатацию батрака его же односельчанином.
«Мы идем в народ, в курные избы, – мечтала народолюбивая интеллигенция, – и будем там жить, будем там пахать и сеять – не современные идеи, а просто рожь, ячмень и пшеницу, а после уже и идеи, если достаточно удобрим почву, унавозим ее»[9].
А между тем действительность с каждым днем все яснее доказывала, что чем успешнее унаваживалась земля «под рожь, ячмень и пшеницу», тем менее поддавалась почва унаваживанию под «современные идеи».
Объективный процесс развития деревни все резче и резче расходился с идеологической схемой народолюбивой интеллигенции.
Но на почве этого объективного, стихийного процесса, подготовлявшего жестокое разочарование, возникали и субъективные сознавательные факторы, противодействовавшие культурной деятельности молодежи. С одной стороны, над темным крестьянством тяготело мрачное привидение только что усопшего крепостного права со всеми его ужасами, а следовательно, и инстинктивное недоверие ко всякому «барину», ко всякому человеку не из деревни, как бы он ни наряжался в мужицкое платье; с другой стороны, на другой же день после падения старого порядка доминирующую роль в деревенской жизни начал играть новый человек – человек, не «ради идеи» носивший поддевку и сапоги бутылками, кость от кости той же деревни, близкий ей по психологии, а главное, сильный своей пронырливостью и превосходным знанием этой деревенской психологии. Человеком этим был – кулак. Кабатчик, лавочник или другая подобная личность, вообще человек с капитальцем, а следовательно, и с весом, заправлял всем миром и мирским хозяйством, задавал тон не только в вопросах сельской политики, но и по части этики и поведения отдельных мирян. Его сторону тянули, в силу сродства интересов, все денежные и хозяйственные мужички, в его руках – все волостное правление, старшина – кум, писарь – друг-приятель и т. д.
Эта-то новая сила скоро почуяла всю опасность, которая угрожает ее бесконтрольному владычеству и хозяйничанию от присутствия в деревне интеллигентных и альтруистических элементов в лице народолюбивой молодежи. Неудивительно, что она поспешила пустить в ход все свои силы, связи и влияние, чтобы оградить свою паству от нежелательного и невыгодного соприкосновения с пришельцами. Началась безобразнейшая травля всех интеллигентных тружеников в деревне: фельдшериц, учителей, учительниц и т. д. Всем этим лицам приходилось слышать один возглас: «Пошел вон, не суйся! испортишь! изгадишь!» Зато те самые «подстриженные рыжие бородки», которые гнали интеллигенцию из деревни, сами своими средствами удовлетворяли всем потребностям этой деревни.
«Безграмотный человек все подваливает и подваливает! – писал Успенский. – Он улучшает нравы и финансы, он умиротворяет, укрепляет народные идеалы, оздоровляет села и города, проповедует гигиену, водворяет науку и т. д., и т. д., и все это без разговоров, все в одну минуту и все за три копейки. Стоит только сказать этому расторопному человеку: „Оздорови деревню, прекрати неправду, развивай бытовые начала, улучшай нравы, вот тебе два целковых на расходы!“ Расторопный человек ответит только одно неизменное „слушаю-с“, хлопнет нагайкой по лошади, и след простыл. Глядишь – все исполнил и даже сдачи представил с двух рублей, за всеми расходами, семьдесят пять копеек»[10].
Но на заре идеалистического увлечения даже эта «расторопность» всяких рыжих подстриженных бородок и их неизменное: «не суйся» не могли удержать народолюбивую интеллигенцию в ее стремлении к культурной деятельности среди крестьянской массы. Как жилось ей в деревне, об этом полны скорбных воспоминаний страницы русской истории и литературы. Нужна была великая вера в свое дело, великая любовь и надежда по отношению к этому недоброжелательному, нередко жестокому народу, великая сила воли, чтобы перенести все лишения и страдания чтобы не разочароваться, не пасть духом с первых же шагов.
«Сначала ей крутенько было, – описывается судьба учительницы в цитированном нами романе Мордовцева. – Стали дьячки ей пакостить, мальчишек на нее напущали, ворота дегтем мазали, на заборе у ее ворот мелом всякую скверну писали, так что срам было мимо пройти. Натерпелась-таки, голубушка, а на своем поставила, под конец все обошлось к благополучию, только извелась ни на что, бедная»[11].
Но и это сомнительное «благополучие», приобретавшееся ценой крови и нервов, не всегда бывало возможным. Сколько раз дело кончалось так, как оно изображено в полном трагизма рассказе Новодворского «Сувенир»; герой – сельский учитель – попадает за тридевять земель, а героиня – фельдшерица – лишает себя жизни. И все эти драмы и трагедии разыгрывались на глазах у тех самых масс народных, ради которых народолюбивая интеллигенция жертвовала своим покоем, счастьем, нередко и жизнью; и массы эти – в лучшем случае – держались пассивно и безразлично. А между тем так сильно было обаяние этой культурной миссии, так высоко было напряжение действенной энергии народолюбивой интеллигенции, что понадобились годы опыта и сотни, быть может, тысячи напрасных, бесполезных жертв, пока зародилось в ней сомнение и относительно самой задачи, и относительно путей к ее осуществлению.
Однако в конце концов весь этот опыт и все эти жертвы привели к разочарованию, к «сомнениям и колебаниям». Это было первое разочарование в романе интеллигенции с народом. Оно пало, как камень, на пути народолюбивого потока, и, разбившись об этот камень, поток поплыл дальше двумя все более и более расходящимися струями.
Вот как отразился указанный нами перелом в середине 70-х годов в настроении одного из самых характерных представителей этой эпохи:
«Голод! когда ты оставишь меня? вечный, физический или душевный голод! Да будь хоть семи пядей во лбу, а если тебя бросить в бездонное болото, ты так же прекрасно потонешь, как самый слабый смертный! Мне теперь очень тяжело. Я ясно чувствую, что я теперь дальше от народа, чем был когда бы то ни было; что я теперь не только не могу быть чернорабочим, как мечтал когда-то, но даже положение народного учителя едва ли было бы мне под силу. Дело ясно: мне опротивела та обстановка бесприютности, которою пахнет при слове „мужик“, опротивела потому, что я слабею, тогда как он не переменяется, потому что я измучился, устал от нравственных мучений (каковы бы они ни были, они не всегда бывают глупы), которые ему меньше знакомы… А между тем я себя воспитываю, чтобы слиться с народом! Да это просто насмешка! Насмешка над логикой с моей стороны и горькая ирония обстоятельств надо мной!»
Так писал в феврале 1876 года в своем дневнике очень чуткий и наблюдательный человек – А. О. Новодворский[12]. И это пессимистическое настроение не было личной особенностью автора. Он видел его и в других своих современниках, видел и фиксировал в своих рассказах.
«Когда он (Печерица) вечером засядет за книги, – пишет он же в рассказе „Эпизод из жизни ни павы, ни вороны“, – и через несколько минут зашагает в волнении по крошечной площадке пола, то в его тревожном, беспокойном взоре я ясно вижу ни паво, ни вороньи сомнения и колебания; если в эту минуту войдет кто-нибудь посторонний и Печерица начнет с ним разговор, толковый разумный разговор, твердым голосом и с видом человека, власть имеющего, то я прекрасно знаю, что на сердце у него скребут кошки. Вся разница между ним и мною только та, что я, так сказать, постепенно спускался с вершин Кавказа, тогда как он вырастал из земли»[13].
Но если спускавшиеся с вершин Кавказа кающиеся элементы и выраставшие из земли разночинские и сходились в данный момент в общем настроении «сомнений и колебаний», тем не менее уже в этом, и как раз в этом, настроении лежала исходная точка их последующего расхождения. «Сомнения и колебания» оказались тем общественным реактивом, который разложил разношерстную массу народолюбивой интеллигенции на два основных элемента: один из них преодолел свое временное настроение и сумел отрешиться от него: другой «не осилил думы жестокой» и временное настроение одолело его, стало доминирующим его настроением. Вот как характеризуется встреча обоих элементов – восходящего разночинского и отживающего дворянско-культурнического – в рассказе Новодворского «Накануне ликвидации»:
«– Этому молодому человеку я не достоин развязать ремень у обуви… – рассказывает дворянский сын Попутков про своего „духовного сына“. – То, что у меня было только отвлеченной теорией, принадлежностью заветной клеточки мозга, которой я не открывал вне интимного кружка, у него сделалось общим, исключительным настроением… Сколько в нем силы!.. Он и мне протягивал руку…
– Ах вы… голубчик мой! И что же, вы того… оттолкнули эту руку?..
– Да, потому что, в сущности, ни на что не способен»[14].
Но если Попутков так искренне признает свою неспособность на что-нибудь путное, то нельзя сказать, чтобы его направление было столь же откровенно. Напротив, оно – как мы увидим ниже – со свойственным всякому отживающему течению непониманием старалось объяснить исключительно неблагоприятными внешними условиями свою неспособность сыграть самостоятельную общественную роль.
Ни паво, ни вороньи сомнения и колебания должны были вскоре разрешиться для Печерицы и его друзей в виде преодоления временного пессимистического настроения. Несмотря на высказываемый автором страх потонуть в болоте, потонуть они не могли, хотя бы уже потому, что, как говорит несколько дальше Печерица, «если в башке у человека зародилось кое-что, чему по законам человеческого прогресса положено развиваться, то такой человек не умирает».
Зато нельзя того же сказать про другое крыло народолюби-вой интеллигенции. То, что все определеннее зарождалось в «башках» этих элементов, лишь идеологически отражало разлагающиеся условия быта породившей их общественной группы; как эта группа, так и ее идеологи, были обречены историей на гибель. Гибель «вишневых садов» как определенной, самостоятельной хозяйственной категории, гибель того красивого мировоззрения и тех тонких настроений, которые вырастали в нежной атмосфере этих «вишневых садов», отражались в умах кающихся в форме мирового пессимизма.
Освободившись от идейной гегемонии разночинца, культурническое течение пришло окончательно к самосознанию, и это самосознание было бесплодно, как песок пустыни.
V
Выделившись из общей массы народолюбивой интеллигенции, культурно-народническое течение все резче и резче начало приобретать те характерные черты отживающего в историческом смысле общественного слоя, которые затушевывались прежде благодаря гегемонии разночинской идеологии.
Только после этого расхождения начали складываться и рельефно выступать оба указанные нами типичные настроения: жизнерадостное, оптимистическое, бодрое – разночинца и мрачное, пессимистическое, угнетенное – кающихся элементов. Вокруг этих двух настроений группировались оба течения народолюбивой интеллигенции, определяясь нередко в гораздо большей мере указанными психологическими факторами, чем социальным происхождением и положением. Дело в том, что и разночинец, и кающийся дворянин не имели под собой той прочной классовой подпочвы, которая властно определяет и направляет развитие взглядов, вкусов, понятий данной общественной группы; оба они происходили из отживающей, неспособной к самостоятельной общественной жизни среды. Разночинец, как это видно из самого названия, являлся продуктом разложения, отбросом разных социальных групп. Происходил ли он из разлагающегося как сословие крестьянства, или из недоразвившейся в России до самостоятельной роли мелкой буржуазии, или же из неустойчивых групп, как духовенство и мелкое чиновничество, – всегда в основе его психологии лежал разрыв с родной средой. Являясь по отношению к этой среде как бы «избыточным населением», колонистом, ищущим счастья вне родных условий, он отрицает и экономические условия ее жизни, и ее социальную роль, и ее типичную психологию. Конечно, в зависимости от силы этого отрицания и от степени проникновения его психологии элементами мещанства определяется и та среда, в которой он будет объекти-ровать свою новую идеологию, среда, к которой на службу он пойдет.
Нельзя не отметить, что теперь, когда капиталистические отношения и соответствующая им степень дифференциации общества приняли в России вполне определенные формы, громадный процент разночинцев растворяется в буржуазной среде; но в половине 70-х годов, в период еще слабой дифференциации, разночинец был по преимуществу народолюбив и в народной среде искал осуществления своих идеалов.
Несколько иной, хотя не менее неустойчивой, была социальная подпочва другого течения – кающегося дворянства. Происходя из тех слоев землевладельческого дворянства, которые, в силу экономического и социального характера своего быта, не могли приспособиться к новым буржуазно-капиталистическим методам хозяйства и мышления, это течение явилось, таким образом, продуктом оскудевающей, разлагающейся, обреченной на гибель общественной группы. Из родной среды оно вынесло отрицание этой среды, отрицание ее греховного прошлого и в то же время враждебное отношение к новому нарождающемуся буржуазному порядку.
Психология этого течения определялась желанием сохранить поэзию «вишневых садов» при необузданном товарном обращении, определялась переходными условиями между крепостным и капиталистическим хозяйством. Неудивительно, что кающихся потянуло в деревню, уже освобожденную от крепостной зависимости и еще не вовлеченную в торговый оборот буржуазного хозяйства.
Таким образом, психология кающегося дворянина также характеризуется отрицанием родной среды, но это отрицание – в противоположность разночинскому – нерешительное и половинчатое. Те единичные лица и группы, которые в силах были преодолеть эту половинчатость, уходили окончательно в ряды разночинцев.
Указанный нами выше раскол в рядах народолюбивой интеллигенции не только резко разделил ее на две группы, характеризуемые принадлежностью к тому или другому психологическому типу, но вместе с тем дал возможность самостоятельно развиться каждому из этих типов и принять ту форму, которая полнее всего выражала его сущность. В освобожденной психологии культурно-народнического течения сразу же выступили на первый план унылые, пессимистические нотки – отражение общественного вырождения и упадка, – и эти нотки «сомнения и колебания» стали играть в ней доминирующую роль. Спустившиеся с вершины Кавказа кающиеся элементы были ядром и вождем этого течения, и печать своей типичной психологии они наложили на все течение.
Сколько раз мы опускали руки,Сколько раз бросали бурный спор,И опять с отвагой шли на муки,На борьбу за свет и за простор…[15] –пело одно течение устами П. Я.
Неволя колыбель мою начала,Бессилие могилу роет мне… –отвечало другое словами Фруга.
Донкихотизму разночинцев культурно-народническое течение противопоставляло гамлетизм.
«Говорят, что беспощадный анализ – мучение, – писал в 1877 году четырнадцатилетний Надсон в своем дневнике. – Я, наоборот, нахожу в нем какое-то особенное наслаждение, особенное удовольствие…»
Поколение, певцом которого суждено было стать Надсону, влагало в самую основу своего настроения разлагающий и расслабляющий анализ. Общественное течение, обреченное на гибель, общественное течение, которому суждено было выродиться в «лишних людей», с характерной близорукостью искало причин своего пессимизма не в собственном бессилии как общественной группы, а во внешних условиях, в пошлости людей, в несовершенстве мира.
Положительные стороны человеческой природы, как бодрое, жизнерадостное настроение, вера в будущее, жажда борьбы, стали считаться символом пошлости, отрицательные же черты, свойственные всякому погибающему течению, – бессилие, неудовлетворенность, неверие, пессимизм – возводились в норму, удостаивались какого-то культа. Неудивительно поэтому, что другой властитель дум рассматриваемого нами поколения – Вс. Гаршин писал в письме к Фаусеку следующие язвительные строки:
«Все люди, которых я знал, разделяются на два разряда или, вернее, распределяются между двумя крайностями: одни обладают хорошим, так сказать, самочувствием, а другие – скверным. Один живет и наслаждается всякими ощущениями: ест он – радуется, на небо смотрит – радуется. Даже низшие физиологические отправления совершает с видимым удовольствием. Придет из ватерклозета и говорит: ну, брат, да и хорошо же я – и проч.»[16].
Эти ядовитые слова очень ярко выражают характерный для падающего общественного слоя культ унылого, страдальческого настроения. Эта инстинктивная неприязнь ко всему жизнерадостному сказалась очень реально также впоследствии, в 90-х годах, когда эпигоны некогда прогрессивного течения, поседевшие в гражданской скорби, с враждебным недоумением смотрели на молодое поколение, которое «чему-то радуется». Вся история русской интеллигенции дает яркую характеристику этой смены настроений и наглядно доказывает, что вне психологических делений людей на гамлетов и донкихотов, на лиц с «хорошим» и со «скверным» самочувствием и т. п., существуют такие же социологические деления, когда условия общественного развития придают настроению той или иной группы оптимистический или пессимистический оттенок.
Так и настроение Гаршина и всей культурнической струи и прогрессивного направления было продуктом не индивидуального устройства, как казалось самому Гаршину, а той роли этой струи в общественной жизни, которая осуждала ее на жизнь «без дела и без отдыха», по выражению Гл. Успенского.
Мы видели уже выше, что в качестве субъективного элемента психологии кающегося дворянства входила в нее и моральная потребность уплатить «старинный мучительный долг». Ради этой потребности интеллигенция надевала зипун и лапти и шла унаваживать почву под современные идеи. Мы видели также, как она разочаровалась в этом предприятии, как у нее возникли «сомнения и колебания», и как эти сомнения и колебания привели к расколу, к разделению потока народолюбивой интеллигенции на течения. Перед лицом этого разочарования культурно-народническое течение попыталось, посредством характерного для него приема приспособления своих потребностей к внешним условиям, удержаться в народной массе.



