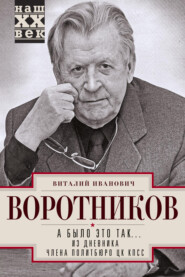
Полная версия:
А было это так… Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС
7 января я принял академика А.Л. Яншина, известного советского геолога и эколога. Он стал обоснованно доказывать порочность этой идеи. Я сказал Александру Леонидовичу, что солидарен с ним. И мы докажем, что мелиорацию земель юга России можно вести, не трогая северные реки. Сибирский вариант, считаем, вообще неприемлем.
При обсуждении 17 февраля на Политбюро проекта «Основных направлений развития народного хозяйства СССР на 1985-1990 годы» также встал вопрос об этих реках. Решили в «Основных направлениях» не акцентировать внимание на этой проблеме. Рассмотреть проект после подготовки необходимых экономических расчетов.
И вот Политбюро обсуждает записку Госплана и АПК СССР.
Талызин и Мураховский выдвинули как главную задачу орошение земель Волгоградской, Ростовской областей. Их предложения.
Канал Волга – Чограй берет начало из реки Волги у села Соленое Займище и через Калмыкию подает 2,0 куб. км воды в Чограйское водохранилище на реке Кума. Канал Волга – Дон берет начало у г. Волжска из Волгоградского водохранилища и подает 5,0–5,5 куб. км воды в Дон в районе волгодонского водораздела. Там уже ведутся работы.
Авторы записки считают, что для этих целей необходима подпитка Волги за счет северных рек. Возник серьезный спор. Я категорически возразил. «По нашим расчетам, отбор воды из Волги (суммарно) составит не боле 5,5–6,0 куб. км, что можно обеспечить, не трогая северные реки. Иначе в этой зоне возникнут серьезные экологические последствия. Надо учесть к тому же, что с начала 80-х годов идет ежегодный рост баланса стока Волги. То есть начался многолетний цикл подъема, что уже грозит земельным угодьям и населенным пунктам побережья Каспийского моря. Считаю, что пока следует ограничиться строительством канала Волга-Чограй, используя для этого имеющиеся ресурсы Волги. Отбор 2,0 куб. км воды при годовом балансе 250–260 куб. км не требует никакой подпитки из рек Онеги и Сухоны. Что касается сибирских рек – Оби и Иртыша, то от этой идеи надо отказаться».
Горбачев: «Согласиться с доводами Виталия Ивановича. Сибирские реки, повторяем еще раз, – вообще не трогать».
Минводхоз продолжал доказывать правомерность своих намерений.
В июне вопрос о продолжении проектирования перераспределения стока сибирских рек и ведении подготовительных работ по северным рекам обсуждался на заседании президиума Совмина СССР.
Споры здесь носили еще более яростный характер. Мнения разные, но большинство, в том числе и я, – против. Дискуссию завершил Рыжков: «Экономически проекты не проработаны. Расчет затрат занижен. Речь только о канале и воде, а использование воды – на что? Какой эффект? Неизвестно. Вывод. Тему сибирских рек прикрыть. Каналы из Волги прорабатывать, но без варианта переброски северных рек».
Это решение в августе 1986 г. одобрило и Политбюро ЦК.
(Я подробно остановился на этой проблеме еще и потому, что в 2002 г. вопрос о сооружении канала в Сибири вновь поднял Ю.М. Лужков.)
4 апреля принял Г.А. Ягодина – Минвуз СССР. Он многословно убеждал в необходимости коренной реформы высшего образования. И как «важнейшее условие» реформы предлагал объединить все вузы в единую систему Госкомобразования. «Это не дело, – доказывал он, – что высшие учебные заведения МПС, Минкультуры, Морфлота и т. п. не входят в систему Минвуза СССР». Я возразил ему: «Есть отрасли с особой спецификой. Нельзя отрывать вузы от МПС, морского флота, например. Там их база, учат студентов на судах, железных дорогах и т. п. Или как можно, скажем, консерватории, ГИТИС, студии МХАТа, Малого театра, имени Вахтангова оторвать от театров? И зачем вам это?» Далее он заговорил о создании базовых (элитных) вузов. О создании региональных центров в областях и т. п. Сказал, что надо осмыслить, не торопиться ломать. Это легко. Сложнее построить. В общем, инициатив реформировать образование всегда было достаточно.
10 апреля. Политбюро ЦК.
Горбачев долго и обстоятельно говорил о своих впечатлениях от поездки в Куйбышевскую область. «Не предполагал, что это такой крупный промышленный и сельскохозяйственный центр. Большая концентрация рабочего класса. Мощное машиностроение, нефть, химия. Куйбышев – пролетарский город. Активность трудящихся высокая. Все выплеснулось на улицы. Народ полностью поддерживает линию партии. Но явная пассивность областного руководства.
ВАЗ в Тольятти – технологические и экономические новации, но уже Минфин им ставит палки в колеса. Современнейшие станки выпускает станкозавод. Высочайший уровень и культура производства на оборонных заводах. И убогая, устаревшая технология на предприятиях легкой промышленности. Очень поучительная поездка».
О предложениях по реформе высшей школы. «Материал сырой, надо доработать и смотреть еще раз. Не надо торопиться создавать суперминистерство. Стремиться объять в центре все и вся. Давайте еще раз посмотрим. И масса запросов. Их следует соизмерить с реальными возможностями».
Стоит сказать несколько слов о выступлении М.С. Горбачева в Тольятти, оно имеет принципиальное значение. Этот материал в печати был озаглавлен «Быстрее перестраиваться, действовать по-новому».
И по-моему, именно здесь, в Тольятти, он высказался за комплексный подход к перестройке как обновлению всех сторон жизни нашего общества. Определил ее как решающее условие претворения в жизнь планов партии. «Надо начинать прежде всего с перестройки в мышлении и психологии, в организации, стиле и методах работы… Если мы сами не перестроимся… то не перестроим и экономику, и нашу общественную жизнь в духе съезда…»
Подчеркиваю, что под перестройкой он понимал и провозглашал именно реализацию решений XXVII съезда партии. Вот база, основа перестройки. Какой смысл в этот термин был вложен им и его окружением позже? Там ничего от XXVII съезда не осталось.
24 апреля. Политбюро ЦК.
О ходе обсуждения итогов XXVII съезда КПСС в партийных организациях.
Горбачев рассуждал о проблемах перестройки. «Дело движется, есть и результаты, растет интерес и активность людей, но процесс идет медленно. Говорят, нужно время. Да, нужно. Но сколько? Для решения каких задач? Много разговоров, говорильни. Идет поток бумаг с мест (особенно в Агропроме). Ведь для того, чтобы навести элементарный порядок, не надо много времени. Необходимо больше внимания к конкретной работе. Не нужно зря дергать людей. Работа аппарата идет часто вхолостую, обюрокрачена. В государственных структурах надо сократить аппарат и начать с ЦК.
Многое зависит от кадров. Это большой и принципиальный вопрос. Видимо, следует нам провести Пленум ЦК о работе с кадрами».
Так начался подход через проблему кадров к другим принципиальным организационным и идеологическим вопросам, которые позже, в январе 1987 г., были обсуждены на Пленуме ЦК.
28 апреля. Утром сообщили, что в 10:30 внеочередное заседание Политбюро ЦК. Повестка дня: авария на Чернобыльской АЭС.
(Накануне, 27-го, я узнал, что на АЭС в Украине произошла авария, но достоверной информации у меня не было.)
Горбачев: «На Чернобыльской АЭС ночью в субботу произошла тяжелая авария. Выведен из строя четвертый энергоблок. Об этом стало известно в ЦК и Совете Министров в 5 часов утра 26 апреля. Правительственная комиссия под председательством Б.Е. Щербины находится на месте аварии. Информация противоречивая».
Предоставил слово В.И. Долгих:
«Мне ночью 26 апреля позвонил Фролышев – зам заведующего Отделом тяжелой промышленности ЦК КПСС и сообщил, что по докладу директора АЭС Брюханова примерно около 2 часов ночи на четвертом блоке при проведении каких-то опытных работ произошла авария. Был взрыв, пожар. Разрушены конструкции четвертого блока. Есть жертвы. Пожар потушен. Но якобы реактор не пострадал, его заглушили.
Я, – продолжал Долгих, – сразу поставил в известность М.С. Горбачева, Н.И. Рыжкова. Решили образовать комиссию во главе с Щербиной, зам Председателя Совмина. Первая группа специалистов вылетела в Чернобыль (через Киев) в 9 утра, вторая группа – члены комиссии – вылетела в 16:00, а Щербина, находившийся в это время в Сибири, добрался до Чернобыля лишь поздно вечером. Там находятся Майорец, академик Легасов, представители Минсредмаша, проектных институтов.
Ночью на 27-е в Москве стало известно, что авария значительно тяжелее, чем информировали сначала. Поврежден реактор. Резко возрастает уровень радиоактивности. 27-го принято решение об эвакуации населения из поселка АЭС г. Припяти. Подключены отряды ГО и МВД. Приняли меры для завала реактора – идет его засыпка песком, свинцом». Вот таково примерно было сообщение Долгих.
Возникли вопросы. В чем причина? Никакой ясности. Говорят, проводились какие-то эксперименты перед остановкой блока на ремонт. По просьбе комиссии решили подключить Минсредмаш, ядерщиков из Челябинской области, от А.П. Александрова, Минобороны и всех, кого нужно. Дать предложения о первоочередных мерах для ликвидации последствий аварии. Позаботиться о людях. Поддерживать постоянную связь с Щербиной. Завтра информировать Политбюро. Дать сообщение в печати от Совета Министров Союза. На этом обсуждение закончили.
29 апреля, снова в 10:30 Политбюро ЦК.
Более обстоятельная информация Долгих:
«Обстановка на АЭС катастрофическая. Реактор фактически разрушен. Идет активный выброс графита. Температура ядерного топлива в реакторе растет. Уровень радиации необыкновенно высокий. Получили большую дозу облучения и госпитализированы свыше ста человек. Они отправлены в Москву, помещены в больнице Третьего управления Минздрава СССР. Радиоактивность распространяется. Первая (очень предварительная) схема после замеров: языки радиоактивных выбросов обнаружены в северо-западном, северном и южном направлениях. На расстоянии 4–5 км от Чернобыльской АЭС.
Предложения, принятые на месте комиссией совместно с учеными и специалистами:
1. Продолжать заброс реактора: песок, бор, свинец.
2. Детальное обследование и дезактивация территории. Санитарная обработка и эвакуация людей.
3. Контроль воздушной среды. Направление потока воздуха меняется. Разнос неравномерный. Необходимо расширить поиск и проверку уровня радиоактивного заражения.
4. Образовать постоянную группу связи с Чернобылем.
5. Ограничение зоны до 10 км по радиусу. Контроль въезда.
6. Комиссию Щербины необходимо на днях менять, так как набрали большую дозу радиации. Использовать вахтовый метод работы комиссии».
Затем заслушали информацию: Госгидромет – Израэля, ГО СССР – Алтунина, Минздрав – Буренкова, МПС – Гинько, Генштаб ВС – Ахромеева, АН СССР – Александрова, МВД – Власова.
Суть объяснений А.П. Александрова. Авария небывалая, аналогов нет. АЭС типа РБМК. Помимо внешней радиоактивности, самое главное – не допустить контакта ядерной массы с водой. Расплав идет вниз (там под реактором, под мощной бетонной плитой расположен бассейн с водой). Тогда – гремучий газ и катастрофа. Требуется срочное решение.
При обсуждении предъявлены серьезные претензии к ГО, Минздраву. Дезактивация организована плохо, примитивно. Нет оборудования и материалов. К зоне сильного загрязнения радионуклидами нельзя подойти. Нет защиты людей и техники от радиации. Недостаточно четко организована проверка состояния и медобработка людей.
Горбачев: «Предложения комиссии поддержать. Образовать в Москве оперативную группу Политбюро для осуществления координированных работ всех ведомств и регулярного рассмотрения предложений и просьб комиссии. Оперативная группа: Н.И. Рыжков, Е.К. Лигачев, В.М. Чебриков, С.Л. Соколов, В.И. Долгих, А.В. Власов. Да, давайте еще включим в ее состав В.И. Воротникова, – добавил Горбачев, – наверняка будет нужна помощь от РСФСР. Для обеспечения информации подключить А.Н. Яковлева. (Собственно, он и отрабатывал тексты официальной информации об аварии для печати.)
Ю.А. Израэлю – ускорить обследование территории и воздуха. Дать карту загрязненности. С.П. Буренкову – сделать все для обследования людей в зоне и лечения. Дать объективную информацию в печать и за рубеж, в том числе МАГАТЭ – направить 30 апреля».
Вечером 29 апреля первое заседание группы Политбюро по Чернобылю. Участвовали: Ахромеев, Алтунин, Израэль, Александров, Буренков и др. И пошла работа – тяжелейшие проблемы. На этом заседании Ю.А. Израэль сообщил, что стало меняться направление ветра. Пошли северо-восточные и восточные потоки. В Смоленской области в воздухе отмечается повышенная радиация. Но ее уровень пока не опасен. Израэлю поручено расширить зону наблюдений.
30 апреля, утром на Президиуме Совмина РСФСР образовали республиканскую оперативную группу во главе с В.К. Гусевым. Затем я связался по ВЧ со Смоленском (Клименко), Брянском (Вой строченко), Калугой (Улановым), Калинином (Татарчуком), Псковом (Пушкаревым) и др. Рассказал о сообщении Израэля и просил проинформировать, какова обстановка в областях. В Пскове и Калинине все нормально. В Смоленской и Калужской областях отмечено небольшое повышение уровня радиации в воздухе. Прибывают люди из зоны ЧАЭС. Идет их обследование и обработка. В Брянской области выявлено несколько пятен на поверхности почвы. Очаги локализованы. Я сказал, что при Совмине образована оперативная группа, надо регулярно ее информировать об обстановке. Создать и в областях свои комиссии. Обеспечить контроль обстановки и принятие необходимых мер.
О результатах разговора с руководителями областей доложил Рыжкову, сказал, что обнаружено некоторое повышение радиации в отдельных точках Брянской, Калужской и Смоленской областей. Необходимо меры по обследованию принимать совместно с Госкомгидрометом.
Заседания оперативной группы Политбюро шли на первых порах практически ежедневно. Порядок работы был такой. Информация из Чернобыля об обстановке (была установлена прямая связь с правительственной комиссией, которую поочередно возглавляли Щербина, Силаев, Воронин, Маслюков и другие заместители Председателя Совета Министров СССР). Они докладывали о мерах, принимаемых на месте. Высказывали свои предложения о дальнейшей работе и необходимой помощи от центральных министерств и ведомств. Здесь же – согласование программы работ с учеными и специалистами институтов Академии наук, Минсредмашем, другими организациями.
Сразу же давались указания, принимались решения, определялись сроки и исполнители. (Вел заседание Н.И. Рыжков.)
Какие были основные вопросы?
1. Госпитализация и лечение пострадавших, обследование, дезактивация и эвакуация населения из зоны радиоактивного заражения (сначала в радиусе 10 км, а затем 30 км вокруг АЭС). Обеспечение необходимыми медикаментами, оборудованием, средствами защиты и т. п. Развертывание медицинских отрядов в районах радиоактивности.
2. Глушение очага радиоактивных выбросов – кратера разрушенного ядерного реактора четвертого блока АЭС – путем заброса песком, свинцом, бором (по состоянию на 2 мая было сброшено такого груза более 5 тысяч тонн).
3. Принятие мер по снижению температуры расплава ядерного топлива в реакторе (она там была около 2500 градусов Цельсия и затем снизилась до 300 градусов) с целью предотвращения проникновения его вниз и соединения с резервуаром с водой. Откачка воды и сооружение шахтным методом мощной бетонной охлаждаемой плиты под реактором.
4. Не допустить радиоактивного заражения Припяти и подпочвенных вод. Обваловка берега и сооружение защитной многокилометровой шпунтовой стенки.
5. Дезактивация территории АЭС и всех районов радиоактивного загрязнения в УССР, БССР, а затем и в РСФСР, где загрязнение было выявлено позднее.
6. Организация охраны зоны, пропускного режима, железнодорожного объезда. Обеспечение вахтового метода работы большого числа привлеченных рабочих и специалистов.
7. Размещение, бытовое обустройство и трудоустройство населения, эвакуированного из загрязненной зоны.
8. Меры контроля качества продуктов, обеспечение чистыми продуктами. Порядок ведения сельскохозяйственных работ в зонах невысокого радиоактивного загрязнения и много других проблем.
Уже 7 мая стал вопрос о том, как обеспечить консервацию четвертого блока по завершении работ. О конструкции и методах сооружения саркофага для длительной, на десятки лет защиты заглушенного реактора.
Вот такая небывалая беда обрушилась на нашу страну.
Предварительно причина аварии была определена как грубое нарушение правил эксплуатации АЭС руководством и персоналом станции. Позже выявились просчеты и недостатки в конструкции реактора, в средствах безопасности, допущенные проектировщиками. Безответственность в вопросах взаимодействия при эксплуатации атомных электростанций между Минэнерго и Минсредмашем.
Особое возмущение вызывало то, что по существу не была разработана ни государственная, ни отраслевая программа действий в ситуации, которая возникла вследствие катастрофы на АЭС.
Все инженерные решения, организационные меры принимались спонтанно, в невероятно сложных условиях. Счет шел на часы и минуты. Выявилась несостоятельность и отсутствие необходимых возможностей борьбы с последствиями катастрофы со стороны органов гражданской обороны, Министерства обороны, на первых порах Минздрава, Госкомгидромета, органов власти на местах.
8 мая. Политбюро. Вел М.С. Горбачев.
Решили рассмотреть опыт оборонных отраслей по обеспечению качества изделий. Информация Ю.Д. Маслюкова.
Он рассказал, что на предприятии забота о качестве начинается с входного контроля материалов и комплектующих изделий. Наряду с требованиями к исполнителям, их ответственности работает система стимулов за высокое качество. Оценка качества идет по всей цепочке от проекта до готовой продукции, по всему технологическому циклу. ОТК и приемка заказчика вооружены объективными средствами контроля и т. п.
И вот после такого краткого, но всеобъемлющего по своей сути объяснения всего комплекса мер, гарантирующих высокое качество оборонной продукции, при обсуждении на Политбюро был выхвачен один момент. Важный, но далеко не единственный. Поднять роль Госстандарта в обеспечении качества. Стал вопрос, что для этого нужно. Ответ – ввести государственную приемку на предприятиях и санкции за низкое качество.
Я выступил против госприемки. «Это будет подмена и ОТК, и исполнителя. Качество создается в производстве. Контроль только констатирует результат. Разве в этом дело? Причем и Госстандарт к этому не готов, ведь наши стандарты (ГОСТы) отсталые. Надо их поднять на современный уровень. Затем отработать проекты, технологии, документацию, определить, как обеспечить соблюдение технологической дисциплины, иметь средства объективного контроля».
Но на Политбюро пошла речь в ином плане. Госприемка – вот выход! Поручили – подготовить предложения.
Далее. Об инициативе Ленинграда о дальнейшей интенсификации промышленного производства и переходе на двухсменную работу. Горбачев ухватился за эту идею. Суть – за счет максимального использования станочного оборудования ускорить, так сказать, его оборот, быстрее и даже принудительно заменять устаревшее, обновлять его новым, более высокопроизводительным. Выгода: сокращаются средства на ремонт оборудования, высвобождаются дополнительные производственные площади, и, следовательно, не надо строить новые производственные корпуса. Вот такая была нарисована заманчивая картина.
Правда, переход на двухсменную работу требовал решения и социальных вопросов: изменения режима работы больниц, детских учреждений, городского транспорта, организация питания и т. п. Стали ссылаться на опыт НРБ, ГДР и других социалистических стран. (Вообще – напали на золотую жилу. Такие строили планы!) Решили: одобрить инициативу ленинградцев и развернуть самую активную работу по распространению этого опыта. Так родились еще две новые инициативы в пакете «частичных» экономических мер: госприемка и ускорение обновления активной части основных средств. Обе они вскоре заглохли.
13 мая. Большой Кремлевский дворец. Съезд кинематографистов.
Открыл съезд один из ветеранов кино, известный кинорежиссер из Ленинграда Е.И. Хейфец. Начало довольно спокойное. Пошли выступления – Баталов, Шенгелия и др. Остро, критично, но без перехлестов. (Я был на съезде до 14 часов.)
Вечером и на следующий день на съезде разгорелись страсти. Был поставлен вопрос об изменении организационных форм кинематографа, о материальной и творческой самостоятельности киностудий. Ряд представителей так называемой демократической интеллигенции резко выступили против идеологии и практики социализма в Советском Союзе, против руководящей роли КПСС. Это было начало конфронтации деятелей культуры.
Съезд шел три дня. Руководителем союза кинематографистов вместо Л. Кулиджанова избрали Э. Климова. Полностью обновился и весь состав правления. Так «молодые, талантливые, горячие» одержали победу. Горькой оказалась впоследствии эта победа и для них, и для нашей кинематографии. Однако съезд дал толчок, спровоцировал аналогичный подход, оценку положения и выводы на состоявшихся позже съездах некоторых других творческих союзов. Эта «демократическая волна» расколола творческие организации. Мнимая свобода обернулась буквально бедствием для подавляющего большинства актеров, режиссеров, писателей, художников и других деятелей культуры.
15 мая. Политбюро ЦК.
В Ореховой. Информация Горбачева о письмах из Казахстана: «Идет поток жалоб на неправильное поведение Кунаева. Окружил себя земляками. Везде его люди. Неуемное восхваление его личности. Коррупция. Требования к ЦК разобраться в обстановке в республике. Необходим анализ ситуации в Казахстане». Сказал, что дал поручения.
По повестке. Повторно рассматривали проект постановления об усилении борьбы с нетрудовыми доходами. Договорились – в принципе одобрить. Затем конкретное решение примут Совмин СССР и Президиум Верховного Совета.
Необходимость усиления борьбы с нетрудовыми доходами: спекуляция, сдача в наем помещений, посреднические услуги и др. – была продиктована возмущением населения. Но на местах методы борьбы принимали подчас уродливые формы. Привлекали к ответственности не тех, кого стоило бы. То же и по индивидуальной трудовой деятельности. Ставили цель – расширить возможности бытового обслуживания населения. А на практике опять – запреты, заслоны и т. п. В итоге и то и другое решения не дали желаемых результатов.
22 мая на Политбюро Горбачев поставил вопрос о требовании руководства и народа Узбекистана. Отменить решения ЦК и СМ об увековечении памяти Ш. Рашидова. «В республике вскрылось много злоупотреблений, взяточничества, коррупции и т. п., о которых он знал и прикрывал виновных». Согласились. Поручить рассмотреть руководству республики и доложить ЦК.
Заслушали информацию Рыжкова об обстановке вокруг ЧАЭС.
«Госкомгидрометом была представлена очередная уточненная карта радиоактивной загрязненности местности. Она уже сильно отличалась от первоначальных. Определились две основные зоны. Первая – около 900 кв. км с загрязнением более 20 миллирентген в час. Вторая – около 200 кв. км с загрязнением от 5 до 20 миллирентген в час. Значительно удлинился язык радиоактивности на запад, мощное пятно на северо-восток и частично на юг. Предложено из первой зоны полностью вывести население. Из второй – вывод временный, возможно на 5–6 месяцев. Всего речь идет о 33 населенных пунктах в УССР и 40 – в БССР. Общая численность 15 тысяч человек». (О территории РСФСР тогда вопрос не стоял. Такое требование появилось лишь в июле.) Подытоживая сказанное, Рыжков указал на требование Госкомгидромета и Мин здрава полностью закрыть зону Чернобыльской АЭС радиусом 30 км для доступа.
Предложения были одобрены. Горбачев поручил подготовить постановление ЦК и Совета Министров со всеми рекомендациями и мерами, касающимися ситуации вокруг ЧАЭС.
За повесткой. Горбачев поднял вопрос о положении в Афганистане. (До этого там произошла смена лидера НДПА. Не без усилий советского руководства был «отозван» в Москву Б. Кармаль. Его авторитет в Кабуле резко упал. Генсеком НДПА в начале мая избрали М. Наджиба. Характеризовали его положительно.) Горбачев заявил: «Надо серьезно подумать, как выходить из афганской ситуации. Вопрос стоит очень остро для нас во внутреннем плане – население Союза обеспокоено этой войной, несем потери, накладно в экономическом отношении. Также и во внешнем плане – нас представляют агрессорами. Дело это непростое. Как достойно выйти из этой ситуации?» Насколько я помню, именно тогда и был поднят вопрос о возможном выводе войск. Горбачева поддержали все товарищи из Политбюро.
С 27 мая по 1 июня находился с делегацией в МНР на XIX съезде МНРП.
В первый день состоялась беседа делегации с членами Политбюро и секретарями МНРП во главе с Ж. Батмунхом.
28-го начал работу съезд МНРП. С отчетом ЦК выступил Ж. Батмунх.



