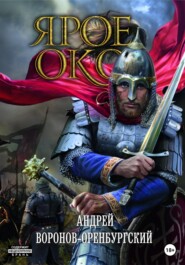скачать книгу бесплатно
Он бросил в руки чернобровой кипчанке пустую пиалу, прикрыл единственный глаз; воспоминания остро, как запахи детства, родной юрты, окутывали его, поднимали на сильные беркутиные крылья, уносили мыслями в далекое далеко…
* * *
Вот как нам, потомкам, вещает о тех незапамятных временах бесценный ломкий пергамент:
«…Весной года Дракона (1220), в месяц сафар (апрель) Чингисхан призвал к себе двух полководцев, испытанных в выполнении самых трудных поручений: старого одноглазого Субэдэй-багатура и молодого, полного сил и рвения Джэбэ-нойона.
Немедленно они прибыли в шелковую юрту “Потрясателя Вселенной” и пали на белый войлок перед золотым троном.
Чингисхан сидел на пятке левой ноги, обнимая рукой правое колено. С его золоченого шлема с большим рубином свисали хвосты чернобурых лисиц. Желто-зеленые кошачьи глаза смотрели бесстрастно на двух склоненных непобедимых багатуров.
“Единственный и Величайший”, выдержав паузу, заговорил низким грудным голосом:
– Лазутчики меня известили, что сын желтоухой собаки, хорезм-шах Мухаммед тайно бросил свое войско. Заметая следы бегства, Мухаммед недавно показался на переправах через реку Джейхун. Этот трусливый пес везет с собой несметные богатства, накопленные за сто лет шахами Хорезма. Верблюды и быки стонут и ревут под тяжестью сундуков. Его надо поймать раньше, чем он соберет второе огромное войско… Да сгниет его грудь! Да выпьет ворон его глаза! Да иссякнет его семя!
Я дам вам двадцать тысяч всадников. Если у шаха окажется такое войско, что ваше волчье чутье подскажет отступить… воздержитесь от боя… Мы слишком далеко забрались от наших родных берегов Онона и Керулена[64 - Онон и Керулен – притоки Аргуни, главные реки «коренной Монголии», на берегах которых прошла юность Чингисхана.]… Но тут же меня известите! Тогда я немедля пошлю Техучар-нойона с тридцатью тысячами батыров, и он один справится там, где вы вдвоем завязнете по пояс…
Я думаю, однако, что это наше решение сильнее, чем все войска трусливого Мухаммеда. Но знайте и другое: пока вы не будете тащить Мухаммеда на арканах, ко мне не возвращайтесь!
Если же опрокинутый вами шах с горстью непримиримых будет и дальше путать следы, чтобы укрыться в неприступных горах или мрачных ущельях, или, как хитрый колдун, исчезнет на глазах людей, то вы черным ураганом промчитесь по его владениям… Всякому городу, проявившему покорность, даруйте жизнь и оставьте там небольшую охрану, баскаков[65 - Представитель ханской власти и сборщик дани (в том числе и на Руси во времена монголо-татарского ига) (татар.).] и правителя, забывшего улыбку… Но всякий город, поднявший меч, берите приступом! Не оставляйте там камня на камне… Все обращайте в пепел!.. Сердце и опыт подсказывают мне, что этот приказ вам не покажется трудным…
Когда Чингисхан закончил и вновь стал горстить широкой пятерней рыжую жесткую бороду, Джэбэ-Стрела выпрямился и спросил:
– Что делать, Немеркнущий? Если шах Хорезма Мухаммед чудесным образом будет убегать от нас все дальше на запад… Сколько времени гнать наших коней за ним и удаляться от твоей Золотой юрты?
– Тогда вы будете гнаться за ним до конца Вселенной, пока ваши кони не омоют копыта в волнах Последнего моря[66 - В те далекие времена Земля считалась островом, окруженным беспредельным морем.].
Субэдэй-багатур, изогнутый и кривобокий, поднял голову и, тараща на повелителя круглый, как персидский динар, глаз, натужно прохрипел:
– А если этот нечестивый пес обратится в рыбу и скроется в морской пучине?..
Неподвижный и безмолвный, с горящими, как угли, немигающими глазами, Чингисхан усмехнулся словам Субэдэя; потер переносицу и по-дружески погрозил багатуру:
– Сумейте схватить его раньше! Идите, готовьте коней.
Оба полководца поднялись с колен и попятились к выходу.
В тот же день орду Чингисхана покинуло двадцать тысяч монгольских и татарских всадников, они помчались на запад. И долго еще по степи катилось огромное и зловещее облако пыли.
* * *
…Выполняя грозное повеление Чингисхана, его прославленные полководцы Джэбэ-нойон и Субэдэй-багатур с двумя туменами всадников два года рыскали по долинам, пустыням и горным дебрям северного Ирана, разыскивая следы бежавшего владыки Хорезма, шаха Мухаммеда. Сотни лазутчиков и лучших следопытов вынюхивали и прочесывали все караванные пути, дороги и даже звериные тропы. Но тщетны были их поиски и труды.
И только народная молва была упряма в одном: “…Хорезм-шах, бросивший свою родину… покинутый всеми, умер от проказы на одиноком, безымянном острове Абескунского моря…”
…Долго они ломали головы, как быть… Наконец призвали монгола, умевшего петь старинные песни про битвы батыров, и медленно озвучили ему свое донесение “единственному и величайшему”. Они заставили гонца повторить их слова девять раз[67 - Монгольские вожди, не знавшие письменности, чтобы послать важное донесение, и боясь, что гонец его исказит, составляли его в виде песни, которую гонец заучивал наизусть. Число девять у монголов считалось священным.] и затем послали его к Чингисхану в его стоянку на равнине близ города Несефа, богатой зелеными долинами и чистыми водами. Так как проезд по дорогам был еще опасен из-за нападений и грабежей голодных шаек беглецов, покинувших сожженные монголами города, то для охраны вестника было выделено пятьсот надежных нукеров.
Гонец всю дорогу распевал старые песни про монгольские голубые степи, про лесистые горы, про девушек Керулена, похожих на алое пламя костров, но ни разу не пропел донесения пославших его багатуров.
…Прибыв в стоянку Великого Кагана, пройдя через восемь застав телохранителей-тургаудов и очищенный дымом священных костров, гонец подошел к огромному желтому шатру и остановился перед золотой дверью. По сторонам входа стояли два редкой красоты коня: один фарфорово-белый, другой – вороной, оба привязанные белыми волосяными веревками к литым золотым приколам со львиными головами.
Пораженный такой роскошью, вестник упал ничком на землю и лежал до тех пор, покуда два силача-торгауда не подняли его под руки и не втащили в юрту, бросив на ковер перед Чингисханом.
Монгольский владыка сидел, подобрав под себя ноги, на широком, китайской работы троне, покрытом листовым золотом.
С закрытыми глазами, стоя на коленях, посланник пропел выученное донесение, заливаясь высоким голосом, как его учил дед и как он привык петь монгольские былинные песни:
Донесение величайшему от его старательных нукеров,
Субэдэй-багатура и Джэбэ-нойона,
Сын бесхвостой лисы, Мухаммед хорезм-шах,
Кончил жизнь в шалаше прокаженного,
А змееныш его, непокорный Джелаль,
Ускользнул через горы иранские,
Там бесследно исчез он, как дым.
Мы покончили с ними! Идем на Кавказ,
Будем драться с народами встречными,
Испытаем их мощь, сосчитаем войска,
Пронесемся степями кипчакскими,
Где дадим мы коням отдохнуть.
Мы запомним пути, мы отыщем луга
Для коня твоего золотистого,
Чтобы мог ты на Запад грозой налететь,
Подогнув под колено Вселенную,
И покрыть все монгольской рукой!..
В мире сил нет таких, чтобы нас удержать
В нашем беге до моря Последнего,
Там, – зеленой волной пыль омывши копыт,
Мы курган накидаем невиданный
Из отрезанных нами голов.
На кургане поставим обломок скалы,
Твое имя напишем священное,
И тогда лишь коней повернем на восток,
Чтоб умчаться обратной дорогою
Снова к юрте твоей Золотой…
Окончив песню, гонец впервые осмелился взглянуть в свирепые глаза недоступного простым монголам владыки. Пораженный, он снова упал ничком.
Чингисхан сидел невозмутимый, непроницаемый, с полузакрытыми глазами и, кивая седеющей рыжей бородой, чесал заскорузлую голую пятку. Он устало посмотрел на распростертого перед ним гонца и сказал, точно в раздумье:
– У тебя горло, как у дикого гуся… Тебя подобает наградить… – Он порылся в желтом шелковом мешочке, висевшем на ручке трона, достал кусок запыленного сахара и силком втиснул его в дрожащий рот певца. Затем поскреб пальцами грудь и сказал: – Джэбэ-Стрелу и Субэдэя еще рано хвалить. Посмотрим, удачно ли закончится бег их коней… Ответное слово я пришлю с особым гонцом…
Движением пальца каган отпустил вестника. Он приказал накормить его и напоить кумысом, а также достойно угостить сопровождавшую охрану. На другой день он отправил всех обратно догонять ушедший далеко вперед монгольский авангард.
…Прошел еще год. Но никаких известий об ушедших на запад монголах не приходило.
Однажды Чингисхан сказал несколько слов своему писарю, уйгуру[68 - Уйгуры – народ, живущий в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Китае.] Измаилу-Ходже, и приказал, чтобы запечатанное послание (никто не ведал его содержания) повез гонец, увешанный серебряными бубенцами, с соколиными крыльями на шлеме (знак спешности).
Охранять секретного гонца он поручил темнику Тохучару с туменом в десять тысяч всадников.
– Ты погонишь своего скакуна до края Вселенной, пока не сыщешь Субэдэя и Джэбэ-нойона. Там, на твоих глазах, гонец обязан будет передать мое письмо Субэдэй-багатуру из рук в руки. Они теперь забрались так далеко, что их теснят тридцать три неведомых народа. Думаю… пора их выручать. Да выпрямит Небо для тебя дорогу!
– Да продлится твоя жизнь, Величайший! Да будут сыновья твои невредимы! – Тохучар упал на колени и коснулся губами носка сафьянового сапога Чингисхана.
В тот же день отряд под предводительством Тохучара направил своих коней на запад отыскивать умчавшихся на край земли монголов».
* * *
Рассказывает древний манускрипт и о деяниях бесстрашных полководцев Великого Кагана. Вот слова, вот правда, о которой говорят его пожелтевшие страницы:
«…Как две огромные черные змеи, проспавшие зиму, выползают из-под корней старого платана на поляну и, отогревшись в лучах весеннего солнца, скользят по тропам, то соприкасаясь, то снова разделяясь, и внушают панический ужас убегающим зверям и кружащимся над ними с криками птиц, так два тумена стремительного Джэбэ-нойона и осторожного, хитрого Субэдэй-багатура, то растягиваясь длинными ременными арканами, то собираясь вместе шумным и пестрым скопищем коней, вытаптывали поля вокруг объятых ужасом городов и направлялись все дальше, на закат светила, оставляя за собой закопченные развалины с обгорелыми, раздувшимися трупами.
Этот передовой отряд войск Чингисхановых прошел по северному Ирану, разгромив и предав огню города: Хар, Симнан, Кум, Зенджан и множество других.
Свирепые монголы пощадили только богатый город Хамадан, правитель которого выслал вперед с почетным посольством дорогие подарки: табун арабских верховых лошадей и триста верблюдов, нагруженных платьями и оружием. Упорную битву татары выдержали в Казвине, где внутри города жители отчаянно дрались длинными ножами: Казвин был разрушен до основания и сожжен.
…Холодные зимние месяцы они провели в пределах города Рея. Со всех концов им присылались стада баранов, быков, лучшие кони и верблюды с тюками теплой одежды. Там монголы выжидали весну, набирали силу.
Когда под лучами солнца зазеленели склоны иранских гор, татары прошли по цветущему Азербайджану. Большой богатый город Тавриз выслал им ценные дары, и кочевники, согласившись на мир, прошли мимо, не тронув города. Они направились на заоблачный Кавказ, где подступили к столице Аррана Гандже. Монголы потребовали серебра и одежд, что было им выдано, и они продолжили свой путь – вторжением в Грузию.
Сильное войско решительных грузин заступило им путь. Субэдэй с главными силами шел впереди. Джэбэ с пятью тысячами всадников укрылся в засаде. При первой же стычке монголы притворно обратились в бегство. Потерявшие осторожность горячие грузины погнались за ними…
Татары Джэбэ-Стрелы обрушились на грузин из засады, как горный обвал, а всадники Субэдэя, развернув коней, охватили грузин со всех сторон и всех изрубили. В этом бою погибло свыше пятнадцати тысяч защитников Грузии.
Монгольское войско, значительно поредевшее, однако, поостереглось пробиваться вглубь этой пересеченной горными глухими ущельями страны с очень воинственным населением и покинуло ее, чрезмерно отягченное добычей. Воины говорили у походных костров, что их равнинной душе тесно в кавказских горных ущельях. Они жаждали степей, где вольготно пастись табунам.
Вырезав под корень город Шемаху, монголы помчались к ширванскому Дербенту. Эта крепость гордо располагалась на неприступной горе, подобно орлиному гнезду, и закрывала проход на север. Джэбэ-нойон послал к ширванскому шаху Рашиду, укрывшемуся в крепости, гонца с жестким требованием:
– Немедля пришли ко мне твоих знатных беков, чтобы мы заключили с тобой дружественный мир.
Ширванский правитель с тяжелым предчувствием вынужден был прислать десять родовитых стариков.
Джэбэ сразу зарубил мечом одного гордого бека на глазах остальных и потребовал:
– Дайте надежных проводников, чтобы наше войско могло пройти через горы. Тогда вам будет пощада. Иначе…
Увидев свое отражение в окровавленной стали, ширванские беки поторопились подчиниться этому требованию, провели монгольское войско, обойдя Дербент, горными тропами и показали путь на кипчакские равнины.
* * *
На Северном Кавказе Джэбэ и Субэдэй прибыли в страну аланов, куда из обширных северных равнин и предгорий на помощь аланам собралось много воинственных племен лезгин, черкесов, даргинцев и кипчаков.
Силы были равны. Противники бились целый день до заката, но никто не одержал победы.
Тогда коварный Субэдэй пошел на хитрость – послал к знатнейшему кипчакскому хану Котану лазутчика, и тот прочел половецкому вождю такое письмо:
“Мы, татары, как и вы, кипчаки, – одна степная кровь одного рода, вскормленного молоком быстроногих кобылиц! А вы соединяетесь с чужаками против своих братьев. Аланы, черкесы, нохчи и даргинцы и нам, и вам – чужие. Давайте заключим с вами нерушимый договор не тревожить друг друга. За это мы дадим вам столько золота и серебра, сколько вы пожелаете. А вы сами уходите в свои кочевья и предоставьте нам одним расправиться с ними”.
В подтверждение своих слов монголы послали половцам отборный табун туркменских коней, нагруженных ценными подарками, и кипчакские ханы, соблазнившись, предательски покинули ночью аланов и увели свои орды на север.
Монгольские тумены напали на аланов, разгромили и пронеслись черным вихрем по аулам и городам, все предавая огню, грабежу, сильничеству и убийству. После такой резни аланы объявили о своей полной покорности Чингисхану, а часть их присоединилась к монгольским полчищам.
…Тогда, не имея более за спиной острых мечей и кинжалов горцев, Джэбэ и Субэдэй внезапно повели свои тумены на север, в степь, на половецкие кочевья.
Уверенные в прочном мире и своей безопасности, кипчакские ханы отдельными отрядами разъехались по своим становищам. Монголы гнались за ними по пятам, разорили главные станы и забрали всякого имущества в десятки раз больше того, что дали в уплату за измену.
Те из кипчаков, оные жили далеко в степи, услыхав о вторжении татар, навьючили на верблюдов имущество и бежали кто куда мог: одни схоронились в тростниковых левадах, другие в дремучих лесах. Многие бежали в земли русские и венгерские.
Монголы гнались за кипчаками по берегам Дона, пока не загнали их в синие волны Хазарского моря, и там многих утопили, засыпав стрелами. Оставшихся в живых они сделали своими конюхами и пастухами, чтобы те стерегли захваченные повсюду стада и табуны коней.
Затем они вторглись на Хазарский полуостров и напали на древний Судак – богатый приморский город. К его могучим крепостным стенам раньше приходило много чужеземных кораблей с одеждами, тканями, пряностями и другими товарами. Кипчаки их выменивали на невольников, чернобурых лисиц и куниц, а также на воловьи кожи, коими издревле славилась крымская земля.
Узнав о нашествии монголов, жители Судака бежали, частью укрылись в горах, частью сели на корабли и отплыли через море в Требизонт.
Джэбэ и Субэдэй разграбили город и снова отошли на север для отдыха в половецких кочевьях, где нагуливали силу и зализывали раны более года.
…Здесь тянулись обильные травой луга и плодородные поля, распаханные рабами, бахчи с арбузами, дынями и тыквами, и паслись тучные стада большерогих быков и тонкорунных баранов. Воины кагана хвалили эти степи и говорили, что здесь их коням столь же привольно, как на родине, на зеленых берегах Онона и Керулена. Но исконные монгольские степи им, конечно, дороже, и они их не променяют ни на какие другие равнины. Покончив с завоеванием Вселенной, все они хотят только одного – вернуться на берега голубого Керулена.
Одноглазый Субэдэй и Джэбэ-Стрела со своими отрядами недолго пробыли в главном городе кипчаков Шарукани[69 - По мнению некоторых ученых, город кипчаков (половцев) Шарукань (т. е. Шарук-ахана), был на месте нынешнего Харькова, который от него и ведет свое название.]. В нем были и каменные постройки, до половины врытые в землю, и амбары со складами иноземных товаров, но больше всего было разборных юрт, в которых жили как половецкие ханы, так и простые номады. Весной они откочевывали из города в степь, а на зиму снова возвращались в город.
С приходом монголов заморские купцы, боясь войны, перестали торговать с Дикой Степью. Город Шарукань, разграбленный и сожженный, опустел, а татарская орда ушла к Лукоморью.
…Там монголы поставили курени в низинах между холмами, чтобы укрыться от продувных ветров. Каждый курень ставился кольцом в несколько сот юрт, отобранных у половцев. В одном курене насчитывалась тысяча воинов. Посредине каждого круга-кольца стояла огромная юрта тысячника с его высоким рогатым бунчуком из конских хвостов с бронзовыми или серебряными бубенцами. Около юрт, привязанные к железным приколам, стояли всегда готовые к походу оседланные кони с туго подтянутыми поводьями, а остальные паслись несметными табунами под надзором кипчакских конюхов.
…Монголы, где бы они ни стояли лагерем, неотступно продолжали соблюдать строгие законы – “Ясы Чингисхана”. Их боевые станы были окружены тройной и более цепью часовых. На главных большаках, ведущих в земли булгар, урусов и угров, скрывались сторожевые посты. Они хватали всех, кто ехал по степи, пытали огнем, кто упорно молчал, и тех, кто знал хоть какие-то новости о соседних племенах, отсылали к своим багатурам. Всем остальным за ненадобностью рубили головы.
У большинства нукеров в юртах находились их монгольские жены, выехавшие в поход с мужьями еще с далекой родины, а также женщины и дети, захваченные в пути.
Монголки одевались так же, как и воины, и их было трудно сразу отличить. Иногда они участвовали в битвах, но обычно женщины заведовали верблюдами, вьючными лошадьми и возами, в которых берегли полученную при дележе добычу. Они также наблюдали за пленными с тавром владельца, выжженным на бедре, и поручали им самую тяжелую работу. Рабы разделывали туши убитых быков, рыли ямы, доили кобылиц и верблюдиц и во время стоянок варили в медных или каменных котлах пищу.
Малые дети, рожденные за время походов или захваченные в пути, во время переходов сидели в повозках либо в кожаных переметных сумах, иногда по двое, на вьючных конях, а также за спинами ехавших верхом монголок.
На равнине, в стороне от монгольского лагеря, растянулся сборный стан воинов разных племен, примкнувших по пути к монголам. Тут были видны и туркменские пестрые юрты, и тангутские рыжие шатры, и черные палатки белуджей, и аланов, и прочих, имя которых утрачено… Вся эта дикая орда, подгоняемая монголами, первая посылалась на приступ, а после сечи подбирала остатки захваченной монголами добычи…»
Глава 7
…И вот теперь курени Субэдэя и Джэбэ стояли на Калке. Нукеры кагана были довольны – привольная степь порога не знала, границы ее упирались в синий горизонт; кругом лоснилась под ветром высокая зелень сочной травы; плесы, протоки, старицы были богаты рыбой и дичью. Повсюду бродили тучные гурты скота, отбитого у половецких ханов: быки белой масти, высокие в холке, с огромными, «ухватом», рогами, бараны жирные, курдючные, тоже белые; и войлоки половецкие, как и юрты – того же цвета, белые, будто соль.
…Временами среди шумящих лукоморских волн маячили паруса иноземных судов, но они проходили стороной, боясь даже приблизиться к берегу, который кишел захватчиками, как падаль червями.
Но монголов это ничуть не печалило. Степняки с востока привыкли: с их появлением все живое под солнцем в ужасе разбегалось кто куда… Сбывалась мечта Чингисхана: медленно, но верно мир сгибался в бараний рог под плетью монголов. Теперь под нею должна была согнуться и христианская Русь.
* * *
…Обрушившаяся на степь гроза стремительно уходила на северо-запад, туда, где, по донесениям лазутчиков и пленных половцев, находился огромный главный город урусов Киев.
Субэдэй в полудреме слышал, как наложницы-кипчанки стелили на войлоках китайские перины, взбивали подушки, зевали, расчесывали черепаховыми гребнями длинные, как ручьи, косы, хихикали за коврами над чем-то своим… и тихо щебетали на родном языке…
Прощальный удар грома был столь силен, сух и раскатисто-трескуч, что Субэдэй, привыкший ко всему, тем не менее приоткрыл глаз. В дымовом отверстии юрты он увидел отразившийся в его аспидном зрачке оранжево-белый зигзаг молнии, скользнувший по пенистым гребням туч огненным драконом… Чуткий слух старого воина различил далекий топот сорвавшегося в ночь табуна. Субэдэю почудилось, что он даже увидел этот вспугнутый громом косяк. Увлеченные вожаком за собой, лошади стлались в намете, едва не касаясь лоснящимися мордами степных трав. Раздутые норы ноздрей с храпом хватали воздушную сырь, копыта выбивали дрожливый гул, в котором он слышал слова старой песни, согревавшей в чужедальних походах душу каждого монгола: