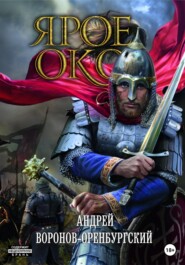скачать книгу бесплатно
– Да будет тебе брехать, кум! Ежли б не твои лета… да былые заслуги пред князем…
– То шо б тогдась? – Желтые, как речной песок, глаза Василия вновь залучились смехом. – Цыть, Савка! Зелен ты горох мне брехню заправлять! По совести да по нутрям выпороть бы тебя на городском майдане за таки «почтения» к старшим! Одна сучка брехат, а я дело гутарю. Мне с тобой, дураком, мутиться вовсе без надобности. Молчи да дозорь тут, коли охота!.. Ишь ты, гордыбака нашелся! А чаво одлел-то? Чаво?! Сам не знашь. Гляди-ка, ощерился, ровно я с его земляникой-ягодой одну перину делю… Эх ты, Сорока!..
Седоусый добытчик безнадежно махнул рукой, завернулся в хвостатый полог из волчьих шкур и улегся ногами к костровищу.
Теперь слышно стало, как сопят спящие, но богатырского, «нараспашку» храпа, который сотрясает стены на постоялых дворах, слышно не было… Оно и понятно: Дикая Степь с младых ногтей приучает людей не шуметь без нужды. А еще время от времени с тихим шипением осыпался, превращаясь в золу, догоравший сухарник…
Савка вздохнул свободно, когда наконец взялась тишина, но тут же и пожалел о сем… Уж больно тоскливо сделалось на душе. «Сиди тут, таращь глазюки во тьму, как сыч… да га?чи[23 - Половинки штанов; штаны; ляжки (устар.).] мочи в студеной росе…»
Он покрутил головой, глянул на небо. Месяц был чуть-чуть, на волос худее, чем вчера, но теперь он светил вовсю и никуда не нырял, не прятался…
«А все один черт, на брезгу[24 - На рассвете (устар.).] хлябь посыпет… потому как в носу ровнехонько будто кто травинкой щекотит. Эт точно, – заключил Савка. – Взять хоть и то, как нонче хрустела трава под ногами. Да и по тому, как теперича от земли тянет сырью и холодом».
…Он снова обозрел залитую перламутровым, призрачным светом степь. Тишина. Поглядел на спящих вповалку товарищей, подле которых покоились мечи и колчаны. «Спят, сурки… напупились убоины. Ловят в сети заветные сны».
Рядом молчком лежал дядька Василий; его горбатый коршунячий нос торчал вертикально вверх, подсвеченный месяцем.
– Эй. – Сокольничий «на авось» торкнул коленом в плечо зверобоя и дыхом спросил: – Не спишь ли еще, кум?
Василий сторожливо прирассветил один глаз, но, все поняв, досадливо хрустнул под волчьим шкурьем мослаками пальцев и зло просипел:
– Нуть?.. Чего тебе, маета?
– Да погодь ворчать, Васелей Батькович! – Сорока уцепился за льняной рукав дядьки.
– Неча годить! Тебе, балабою, предлагали добром погутарить о том, о сем?.. Ты ж зубья скалил! Теперича – брысь! Дай поспать трошки, скоре вставать!
Василий вырвал руку, помолчал чуток и, сменяя гнев на милость, бросил:
– Чаво хотел-то, горе луковое?
Савка, обрадованный нежданным участием, с готовностью придвинулся ближе, перешел на придушенный доверительный шепот:
– А ты… слыхал ли шо… о татарах?
– А то! – Белки глаз зверобоя сыро блеснули в опаловой майской тьме. – Хто о них ноне не слыхивал, разве глухой?.. В Киеве вельми раззаров[25 - Здесь: склока, спор, пересуд.] по сему поводу. Немой токмо не гутарит об энтом пришлом зверье… Бают-де, всю южную степь, до самого Хазарского моря[26 - В XIII веке Черное море называлось у мусульманских писателей морем Хазарским, а Крым – Хазарией. Позже Хазарским морем называлось Каспийское.], татары на дыбы подняли! Где ни пройдуть их кони – смерть распластывает крылья! И одна, значить, пепла в остатке от городищ!.. Ты вот послухай, малый. – Василий удобней устроился на шкуре, сунул кулак под голову. – Даве, когдась от Лукоморья[27 - Лукоморье – побережье Азовского моря.], с Залозного шляху[28 - Залозный шлях – очень древний торговый путь от Азовского моря к Днепру. «Залозный» произошло от древнего произношения слова «железо», т. к. по этому кратчайшему пути караванами провозилось железо, бывшее в древности ценным металлом и доставлявшееся из Китая и других мест Азии (Забелин, Брун). Это наименование «Залозный» сохранилось в измененном названии станции «Лозовая».], пришли по Днепру струги заморских купцов, прибыли с ыми и два ветхих старца-странника. Я-сь был тады на пристани – Толкуне… Зело народишку собралось – шапке упасть негде, угу, воть крест…
– С этим понятно, кум… Дальше-то шо?
– Да погоди ты понужать, торопыга! Экий ты раздолбуша!
Дядька Василий, остребенившись, шворкнул горбатым носом и, выждав паузу, продолжил:
– Так вот, эти два странника, значить, э-э… спаси Господи, надули нам в уши страстей… Дескать, все половецкие станы нонче бегуть сломя голову с Дикого Поля… А за ними вослед гонится лютое, страхолюдного виду племя. Вот те безродные чужаки и есть, значить, «татаре»[29 - «Этноним “татары” впервые возник в VI в. среди монгольских племен, обитавших к юго-востоку от Байкала. Татары охраняли северную границу Китая от кочевников. Чингисхан, объединив монгольские племена, поголовно истребил татар за то, что они отравили его отца. Но китайцы по привычке применяли это название, распространяя его на все многочисленные племена монголов, так же, как греки и римляне называли “варварами” всех чужеземцев, чуждых их культуре. Из китайской летописной традиции это название проникло и в русский язык. В XIII–XIV вв. на Руси татарами называли многие народы, вошедшие в состав Золотой Орды» // Алеврас Н. Н., Конюченко А. И. «История Урала XI–XVIII века».]. Деды баяли: «Вид ихний наводит ужасть… Бород – нема, токмо у иных щепоть волос на губах и ланитах. Носы вмяты в скулы, и у кажного за спиной взлохмаченная коса, як у ведьмы».
– Неужто такие страшилы? – Савка недоверчиво округлил глаза.
– Да помолчи ты, глупеня! Говорят же тебе… От одновось только виду безбожной татарвы люди мруть, как мухи, и падають замертво. Вот так-то, брат-гаврик! Чужбинник дьявол, с длиннюшшей рукой – под церкву! А ты сидишь тут дураком на попонке, со скуки крутишь пух усов и сумлеваешси: «Неужто, дядя таки страшилы бывають?» То-то и оно… Бывають! Оне тебя, родственник, без чесноку и соли, вместе с поршнями[30 - Род кожаной обуви – сапоги без каблуков (прост.).] схрумкають и имечка не спросють.
– А не подавятся, суки? – Савка вспыхнул очами.
– Ты опять за свое?!
– Ладныть… молчу. Дальше давай.
– А дальше та-ак. – Василий поправил уклепанный медными бляхами поясной ремень и раздумчиво почесал заросли бороды: – Вестимо, перепуганный люд забросал Божьих калик перехожих вопросами: так, мол, и так, что сие за люди? Какого роду-племени? Старцы, по всему, были люди сведущие, мудрые, разные там письмена читать способные… Ответовали: шо-де сказано в святых книгах – нагрянет с востоку тьма-тьмущая чужедальцев. Народ сей семени ядовитого, желтого… в наших краях-волостях неслыханный, глаголемый «татаре», и с ыми есша чертова дюжина языков. Яко же половцы доселе губили и грабили окрестные племена, ныне, значить, их погибель настала. Вороги эти не токмо половцев посекуть, но и на ихню землю сами седоша… Во как!
– И откуда ж явился этот народ? – багровея сердцем, прохрипел Сорока.
Зверобой с усмешкой оттопырил нижнюю губу:
– Знамо дело: из тех же ворот, откель весь народ! Бабье постаралось… Ты воть все лезешь, да прыгашь муругим козлом впередь батьки в пекло… А товось не знашь, Савка, о чем глаголють сказанья в святых повестях… «О них же владыко Мефодий Патарийский свидетельствует, яко греческий царь Ляксандер Маркедонский в допотопные времена загнаши поганый народ Гоги и Магоги на край земли, значить, в пустыню Етриевську, шо меж востоком и севером. Заторцевал он их, паскуд, горами да скалами и вельми припугнул мечом – сидеши там до скончания сроку! И тако бо владыко Мефодий рече, яко к скончанию времени горы те, значить, раздвинутся, и тогда выйдуть оттель Гоги и Магоги и попленят всю землю от востока до Евфрату и от Тигры до Понтьскову моря – всю землю, значить, акромя Эфиопья…»
– Это ж как… всю землю?! – Савка в горячке гнева схватился за меч. – Стал быть… и нашу матушку-Русь?
– Воть и я за то! Нам половецкова гадовья по самы ноздри! Кровники оне нам заклятые! – Вековая, пенная злоба поводила губы Василия. – Уж какие лета… эти нехристи вытаптывают своими конями чужие хлеба? А сколь кровищи христьянской пролито? Сколь баб наших да детев малых в полон угнано?.. Не счесть! Зачем нам еще татаре? Спаси Господи… – Он осенил себя широким крестом. – Хватит и энтих едучих вшей половецких на нашей хребтине! Даром шо изверг Котан нашему галицкому князю Мстиславу богатый тесть! Вот пусть друг пред другом и распинаются, жмуться в объятьях за свою родню – половецкую кровь да целуются! А нам-то с тово… какая радость?!
– Плохие слова, кум… Ты как о нашем князе глаголешь? Он нам и отец, и защита.
Савка твердо, с осудом посмотрел в глаза куму, тот зло щурился, но молчал. Сокольничий сбавил до шепота голос:
– Гляди, Васелей… как бы кто не услыхал тебя из наших… за такие слова – дыба[31 - Средневековое орудие пытки, на котором растягивали тело обвиняемого, выворачивая или ломая кости.].
– А ты-сь не пужай, малый. – Кум повел дюжими плечами, скрежетнул зубом: – До нее… «дыбы» твоей, еще дожить нады. Ты думашь, зачем наш князь Мстислав со всей дружиной в Киев пожаловал? Знаешь? Так вот: я намедни у княжих палат Мономаховых слыхал грешным делом от ихних панцирников… В степь пойдем, к Залозному шляху, и по всему, вборзе[32 - Вскоре, немедля (устар.).]! Воть дождемси токмо силушки ратной: больших и малых князей, и всем гуртом тронем коней, куды ворон костей не заносил.
– Эт шо ж, супротив татарвы, выходит?
– Выходит, супротив ее, брат ты мой…
Дядька Василий опасливо подмигнул Савке и оголил в улыбке щербатые от кулачных драк зубы.
– Влезли мы, похоже, промеж двух жерновов. С одной стороны половцы и татаре, с другой – наши князья, жеребцы ретивые. А нам-то нужно?..
Савка последних слов зверобоя не разумел. В душе его случился пожар: «Неужто в настоящей сече мне быть?! С нашим-то князем! Чего еще больше желать?»
– Кум, поклянись Христом, шо не брешешь… насчет степи и татаров!
– Да истинный Бог. Но ты – цыц! Я-то тертый кобель… Жизнь повидал, баб пошшупал, а ты-сь? Чему лыбишься, дура? Гложут тебя капустные кочерыжки. Кровь впереди. Ты сам-то разуй гляделки! Разве не зришь, шо кругом деется? Сии знаменья последних лет… Те старцы вещали: «Явилась миру страшная звезда, лучи к востоку довольно простирающе… и предсказала новую пагубу христианам и нашествия нового ворога… То вышли из-за гор ледовитых и прут на нас Гоги и Магоги! Ныне пришло реченное скончание времени. Конец миру близко!» А ты – гы-гы!..
– Кум, а кум! – У Савки от возбуждения пуще прежнего загуляла по жилам молодецкая звонкая кровь.
– Да пошел ты, Сорока! – рыкнул Василий. – Надоел ты мне хуже горькой редьки! Вынь да положь ему… Дай поспать, оголтень!
Дядька Василий натянул на голову волчью покрыву, и больше ни слова.
Но сокольничий был не в обиде. «Вот новость так новость! С копыт сбивает!» Да и ему ли, Савке-молодцу, горевать посему? Его и без того сжигала изнутри мучительная страсть к победам… Готовность послужить своему кумиру – князю Мстиславу Галицкому во славу русского оружия. «Ежели грянет сеча – то постоим! Почтим нехристей огнем и мечом!» Одного он только не мог понять, как это: «Я сложу голову, а жизнь будет гореть без меня?..» Впрочем, эта темная мысль не пугала и не застревала в его голове; она уносилась прочь, подобно щепке в быстрой стремнине реки. К своим годам Савка знал, как «Отче наш…», что воины имеют в виду, когда говорят о смерти; постиг он, и что такое преданность родной земле, православной вере и своим друзьям. Губы юноши тронула счастливая улыбка – неутолимая жажда острых ощущений, она накатывается волнами, как безумие. И, право дело, в такие минуты Савка Сорока готов был на все, дабы утолить сей голод, сполна вкусить запретные плоды. Да и что может быть для молодой, горячей крови более прекрасного и притягательного, чем опасность и риск?.. Любовь! – вот что способно загасить сжигающее его пламя. Вернее, ярче разжечь… Ведь любовь – это тоже всепожирающий огонь, тоже безумие.
Но и на этом поприще ему, Савке – круглому сироте, ни горевать, ни тужить не приходилось. Потому как в родном Галиче, за высокими крепостными стенами его надежно ждало крепко любящее сердце. «Ксения, люба моя!..»
…Савка бесшумно поднялся с нагретого курпея[33 - Курпей – выделанная шкура ягненка.], прошелся размять затекшие ноги, проведать коней – все ли ладно? Через мгновенье его уже было не видно, а через другое – и не слышно.
…Месяц меж тем укутался в черные перья облаков, но вскоре выглянул одним серебряным усом, и стало чуток светлее, но ненамного – кусты и бугры по-прежнему не отбрасывали тени.
Кони настороженно встретили Савку, но, узнав в нем «своего», нудиться перестали.
Сорока стряхнул с мягких юношеских усов хлебные крошки, запил сухарь из кожаной фляжки родниковой водой и посмотрел еще раз в сторону лошадей. Те были сбиты в гурт, прядали ушами, их чуткие ноздри трепетали, как листья ивы. Сокольничий снова улыбнулся своим мыслям; в глазах табунка отражались рубиновые искры прогоревшего костра, их сочный малиновый блеск играл в черном гривье, как играют звездные блики на речной глади.
«Все же славное гнездилище выбрал кум, – мелькнуло в голове. – Толково, по склону лощины… в аккурат шоб укрыть и людей, и лошадей».
Не желая возвращаться к потухшему костру, он присел неподалеку от лошадей, положив возле своих поршней лук и колчан со стрелами. Мысли крутились вокруг татар… В памяти, как поплавки, прыгали и ныряли в омут воображения дядькины слова: «Вид ихний наводить ужас… Бород – нема, токмо у иных щепоть волос на губах и ланитах… Носы вмяты в скулы, и у кажного за спиной взлохмаченная коса, як у ведьмы».
«Да уж… наши умеют понагнать жути… Жабу силком спомають на болоте… соломинкой надують ее, дуру, через гузно и пужают друг дружку. Хотя… что же за зверь-то такой – татары?.. Не по себе, ей-бо… Но коли наши бьют в хвост и в гриву укрытых в кольчуги да панцири поганых половцев и печенегов… могеть, и сей дикий народ опрокинем? Правильно бабка Настена гутарит: “Не столь страшен черть, как его молва малюет”».
…Сокольничий хотел еще помороковать над сей «бедой», да не смог… Набросив поверх зипуна овчинный тулуп (который он захватил с собой из повозки), Савка сразу уснул, и немудрено… Потому как нет ничего уютней и слаще на свете, чем спать под открытым небом, укрывшись шкурой. «По первости она колет и щекотит тебя жестковатым ворсом. Но вот ты угрелся, щетинки прилипли к телу, и кажется, что это твоя собственная шерсть».
Глава 3
…Глазными впадинами чернели глинистые овраги степи, где, скрываясь от чахлой зари, еще таилось молчание угасающей ночи. Тут и там, как сгустки лилового студеного тумана, застыли холмы и ползучий кустарник – будто стерегли-выжидали, что шепнут им безымянные ямы и рытвины степи.
…Савка Сорока, притулившись плечом к лысастому бугру, спал без задних ног. Но снились ему не кровожадные орды татар и не те тревоги и страхи, которые порою проведывают человека в ночи, присасываясь многоглазой тьмой к самому его лицу, а пронизанные солнечным светом картинки встреч – его и Ксении…
Виделся Савке оголенный овал ее розового, прозрачного, как воск, плеча, на котором играли в пятнашки изумрудные тени листвы… ее смеющийся взгляд, искрящийся счастливой слезой и улыбкой… Кожа у Ксении тонкая, белей молока, а волосы такие красивые, светлые, что даже и в пасмурный день кажется, что на них падает солнце.
…Вот они поднимаются по струганым прогретым ступенькам крыльца… В доме никого – все на покосе; она идет впереди, он следом… Ксения бойко шлепает вышитыми бисером чириками[34 - Башмаки, шлепанцы, туфли (обл.).], а он не может оторвать от любимой глаз: полуденное солнце просвечивает белую ночную рубашку, и он отчетливо видит стройные очертания ее полных ног, окатистых ягодиц, лирообразно переходящих в талию… Ему так и хочется поймать Ксению за руку, похлопать ее ниже пояса, «зажать» в сенях, иль прямо здесь, на резном крыльце, но… она ускользает, бросив на него озорной, словно хмельной взгляд… В памяти Савки остались только белая стежка пробора, разделявшая ее волосы на два золотистых крыла, да малиновое сердечко чувственных губ, сжимавших снежный венчик ромашки.
Он рванулся за нею… словил аж в горнице, у печи; хотел ей шепнуть что-то на рдевшее ушко, но ощутил на своих губах теплые, пахнущие молоком после утренней дойки пальцы…
– Лягай на полати, там прежде застелено… Я же ждала тебя… Двинься. Молчи, ветрогон… Ты меня любишь?
– Еще как!..
Он чувствует крутую девичью тугость груди, сверх края заполнившую его жадную ладонь. Кровь до одури стучит в висках, скачет жеребцом в жилах… Он ближе, теснее… Но она не дается, ловко и сильно управляет им, как наездница:
– Да погодь ты, шальной, успеешь, возьмешь свое… Кто у тебя отбирает? Постой. Дай насмотрюсь на тебя, Савушка… Какой ты к бесу «Сорока»? Дурый, кто обозвал тебя так, и слепец. Сокол ты у меня… васильковы очи.
Она отбросила с белого лба тяжелую, как латунь, прядь волос и, влажно мерцая камышовой зеленью глаз, без затей и утайки открылась:
– Боюсь за тебя, слышишь?.. Боюсь, потому что люблю… Ты дороже мне жизни! Боюсь, потому что неведомый лютый враг у наших границ! А я не хочу, не хочу-у лишиться тебя! – срываясь на плач, вымученно прошептала она. И вдруг, замолчав, содрогнулась от собственной решимости и отчаянья: – Ну, чего ждешь? Давай же, жги! Хочу тебя, родной… Хочу любить тебя со всей силой!
– Ксана… Ксаночка!.. – Он что-то бормотал ей, ласковое, бережно собранное в тайниках души; дрожал радостной, счастливой улыбкой, судорожно срывая с себя рубаху… Но когда Савка опрокинул Ксению на медвежью доху, она вдруг взмолилась:
– Ой, ой! Больно чуток… Погоди, гребенка-зараза!.. Сейчас, ай!
Она, закусив губку, выудила из волос костяной гребень, но он выскользнул из пальцев и скакнул под полати…
Савка, костеря в душе встрявшего черта, крутнулся на край, чтобы достать «безделку», – не видать. Свесился круче вниз головой – углядел: «Вот ты куда упрыгал, провора!» Он хотел уже было словить гребешок, как… пальцы его схватились льдом, а шея окоченела…
Он не мог оторвать потрясенного взгляда от жуткой руки, которая протянулась из-под полатей, взяла гребешок и так же бесшумно исчезла…
Огромная, смуглая, отливающая копченой желтизной, – она дышала чудовищной силой, и кожа на ней была под стать дубовой коре.
…Все померкло в Савке: ровно горел в нем светлый каганец[35 - Светильник, лампадка (тюрк.).], да вот нахлобучили медный гасильник. Он будто лишился рассудка, как только осознал, что им грозит… Глянул через плечо, ан любушки Ксаночки – нет, словно ее кто унес на крыльях…
Безысходная злоба захлестнула Савку, заметалась в груди. И тут его словно пихнули… шибанули с размаху в лицо.
…Сорока очнулся – одурело открыл глаза и обмер. В предрассветной сукрови неба он увидел, как ниже по ручью, там, где безмятежно спали его друзья и знакомцы, к прогоревшим углям крался враг.
Их было не меньше дюжины… Сокольничий прекрасно видел, как бесшумно извивались змеями их тела по земле, как мелькали в траве подошвы иноземных сапог с загнутым вверх носком – гутулов.
…Он и глазом не успел моргнуть, как один из желтолицых оказался возле дядьки Василия, выхватил кривой нож, замахнулся над спящим…
Есть люди, кои в минуту опасности столбенеют; руки опустят и отдают, как овцы, свою жизнь на волю мясника… Да только Савка Сорока был не из тех. Сызмальства и вожжами, и лаской его вразумлял отец – княжий лучник: «Прежде дело задай рукам, а уж мозги – пущай вдогон перстам поспевают!»
Так и вышло! Не зря, видно, Савка накануне маял оселок – затачивал железные наконечники. «Ххо-к!», «ххо-к!» – это звенела сухожильная тетива его лука, посылая в полет две стрелы.
«Ххо-к!» – третья подружка смерти с веселой злостью сорвалась с тетивы.
Нет, неспроста на господском дворе Савка слыл важным стрелком. Недаром он с трехсот локтей без промаху «лупил» в середку подвешенной на крюк подковы. Не дрогнула его рука и на сей раз, не подвел соколиный глаз.
Первая остроклювая вестница с хлюстом прошила горло лазутчика, угодив точно в трахею… Монгол выронил нож и, задыхаясь, харкая и клокоча хлынувшей из ноздрей и глотки кровью, рухнул снопом поперек дядьки Василия.
Ошеломленные внезапной гибелью своего собрата-ордынца, татары на мгновение оторопели.
И тут вторая стрела, высвистав песню смерти, с глухим стуком пробила кожаный доспех еще одного, застряв по самое оперение между лопаток. Желтолицый всплеснул руками и уткнулся в серую золу кострища.
Но вот третья – изменница-стерва – лишь калено и звонко вжикнула по стали монгольского остропырого шлема и отскочила прочь.
Ан главное – «Слава Христу!» – было выиграно время!
…Когда Савка сломя голову с мечом подбежал на выручку – русская сталь уже яро звенела и грызлась с монгольской.
Наши не дрогнули – пластались будь здоров, но и татары, будто заговоренные колдовской молитвой, рубились отчаянно, крепко держа подо лбом кочевую заповедь: «Кто не защищается – погибает. Горе бросившим оружие!»
Однако и густая кровь русичей испокон веков ведала: «Победа воина – на острие его меча».
– Береги-ись!
Сорока едва успел пригнуться, и это спасло ему жизнь. Наскочивший на него огромный монгол вспорол воздух лезвием изогнутой сабли ровнехонько в том месте, где только что была Савкина голова. И тут же снова разящий удар с жутким свистом опалил холодком щеку.
Распаренный безумием, кое рычало, скрежетало, лязгало вокруг, сокольничий выбросил вперед меч. Сталь вошла меж ребер врага, и Савка, не успевший выдернуть клинок, явственно ощутил на нем судорожный трепет оседавшей плоти.
Плоское, как сковородка, лицо монгола разорвал немой крик. На краткий миг их взгляды скрестились. На Сороку мертво таращились из узких бойниц залитые болью и ненавистью глаза. Смуглолицый подломился в коленях, в горле его застряло проклятье.
…Мимо пронеслась вспененная кобыла, тащившая зарубленного Хлопоню. Нога его запетлялась в перекрученном стремени, и лошадь несла ошалело в степь, мотая изнахраченное в кровь тело по щебню.
– Врешь, злодыга! Кр-р-руши песью щень!
Боевой топор Василия, умытый кровью, с плеча описал дугу. Страшный удар с длинным протягом развалил череп кочевника, как сосновую чурку, надвое.