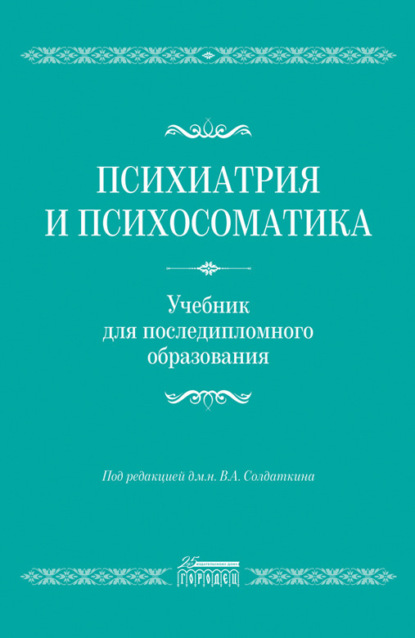
Полная версия:
Психиатрия и психосоматика. Учебник для последипломного образования
Совершенно ненаучным представляется широко используемое понятие «психическое здоровье нации (населения, народа)». Психически здоровым или больным может быть только индивидуум, а не группа людей. Чаще всего речь идет о «ментальном» здоровье, этот термин является не столько клиническим, сколько социологическим, как на это указывают П. И. Сидоров, И. А. Новикова.
В современном определении психического здоровья подчеркивается, что для него характерна индивидуальная динамическая совокупность психических свойств конкретного человека, которая позволяет последнему адекватно своему возрасту, полу, социальному положению познавать окружающую действительность, адаптироваться к ней и выполнять свои биологические и социальные функции в соответствии с возникающими личными и общественными интересами, потребностями, общепринятой моралью. Психическое («психиатрическое») здоровье – это отсутствие болезни («презумпция психического здоровья»). Трактовка нормы как оптимальной адаптации оказывается бессодержательной, так как, во-первых, окружающая среда бесконечно изменчива и, во-вторых, сущность человека определяется его творческим, созидательным отношением к действительности. С другой стороны, критерии нормы нравственной, правовой, культурной, этнической, психической («психопатологической») не совпадают. МКБ-10 заменяет понятие «психическая болезнь» более общим и аморфным понятием «психическое расстройство». Последнее в МКБ-10 и DSM – IV определяется как «болезненное состояние с психопатологическими или поведенческими проявлениями, связанное с нарушением функционирования организма в результате воздействия биологических, социальных, психологических, генетических или химических факторов. Оно определяется степенью отклонения от взятого за основу понятия психического здоровья». Как видно, и здесь происходит смещение понятий «норма» и «патология».
Именно поэтому мы считаем, что психическую болезнь, расстройство или аномалию следует рассматривать как сужение, исчезновение или извращение критериев психического здоровья.
В клинической практике пациент приходит к врачу-психиатру обычно по собственной инициативе, реже – третьих лиц, как правило, родных и близких. Поводом обращения является нечто, что предстает в их понимании как нездоровье, болезнь, расстройство, в том числе как нарушение психического здоровья или поведения. Центральный мотив обращения – потребность в помощи, устранении беспокоящих пациента и его близких нарушений, дискомфорта и соответственно в восстановлении здоровья и психофизического комфорта. Именно это – результат деятельности врача – является целью больного, а не процесс осмысления болезни, не методы обследования и не путь анализа его состояния и расстройств. Но результат является следствием некоего вмешательства, некоторых специальных действий врача, адекватность и полезность которых напрямую зависят от адекватности и полноценности процесса распознавания, анализа и понимания сути болезни. Последнее и составляет диагностическое заключение, которое выступает фундаментом тактики лечения, профилактики, реадаптационно-реабилитационных мероприятий. Таким образом, познание болезни или расстройства, т. е. диагностика, – первейшая, важнейшая и незаменимая частьуспешной терапии.
Принципиально важным является методологический подход к диагностике. Только правильный индивидуальный диагноз, основанный на нозологическом принципе, позволяет разработать соответствующую терапевтическую стратегию и тактику, наметить реадаптационные и реабилитационные мероприятия. От него зависят полнота, объем, качество лечения и соответственно судьба, а иногда и жизнь больного.
Диагностика – процесс распознавания болезни во всем ее много- и своеобразии с оценкой индивидуальных биологических, психических и социальных особенностей пациента. Это одна из специфических форм познания, а в данном случае – познания феномена болезни. И как познание диагностика должна быть построена методологически правильно, иметь внутреннюю логику, динамику и соответствовать определенным принципам: этапность; развернутость во времени; направленность от частного к общему, от внешнего к внутреннему, от случайного к сущностному, к причинно-следственным отношениям, от познания к практике как единственному критерию истины.
Первый этап диагностики – чувственное познание феномена болезни. Его задачи – выявление, выделение и подробное описание разнообразных признаков расстройства, в том числе психического.
На втором этапе происходит обобщение клинической информации – клинический анализ. Его задачи – типировать выявленные признаки терминологически, т. е. обозначить их как симптомы, что является предметом семиотики, и систематизировать, объединив симптомы в синдромы, представляющие собой объект синдромологии.
На третьем этапе формируется представление о болезни конкретного человека – диагностическое заключение о нозологической форме. Его задача – построение клинико-динамической модели болезни конкретного больного с формированием представления об особенностях динамики синдромов (синдромогенезе и синдромокинезе), а также о закономерностях взаимосвязи и сменяемости различных синдромальных образований – синдромотаксисе, что на данном этапе должно быть объединено со всей имеющейся в распоряжении врача информацией. Именно это единение являет собой базис для формирования диагноза, на основании которого и вырабатывается конкретная терапевтическая тактика.
ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССАЗадачей этапа является обнаружение отдельных признаков болезни. Признак болезни – понятие клиническое. Он связан с непосредственным восприятием врачом отдельных свойств и качеств расстройства у конкретного больного. Объем, глубина отражения признака зависят не только от разрешающей способности методов, но и от индивидуальных качеств исследователя-врача: его квалификации, знаний, опыта, наблюдательности, ответственности и чувства долга, часто – от неторопливости врача, который должен знать, что, как и каким способом он должен искать. Выделение признаков отражает эмпирический, чувственный уровень познания.
Патогенез любого заболевания, в том числе психического, проявляет себя вовне в виде «картины болезни», ее феномена. Феномен – реальное клиническое явление, событие, объект и т. д. Как правило, он включает большое число отдельных признаков. На первом этапе диагностики признаки должны быть не только обнаружены и выделены, но и подробно и тщательно описаны, что крайне важно для результатов последующей диагностики. Упущенное на этом этапе в последующем очень трудно восстановить.
Феноменология (субъективная психология по Э. Гуссерлю) составляет фундамент психопатологии. Задача феноменологии заключается в развитии общих понятий для основных видов психопатологического опыта. Чтобы определить эти понятия, сначала феноменолог должен совершить проникновение переносом, погрузиться в опыт переживания другого. Поскольку определенные черты во многих индивидуальных опытах переживания являются общими, феноменолог имеет возможность обобщить и определить понятия, специфицирующие эти общие черты. Согласно К. Ясперсу, первый шаг к научному познанию сферы психического заключается в отборе, разграничении, дифференциации и описании отдельных переживаемых феноменов. Затем эти феномены получают терминологические определения, причем феноменолога интересует только то, что непосредственно наблюдается. Подобный способ представлять, разграничивать и определять психические события и состояния, позволяющий быть уверенными в том, что один и тот же термин всегда обозначает одно и то же, и составляет феноменологический подход. В феноменологии предметом анализа служат отдельные качества или состояния, извлеченные из подвижного контекста психической жизни. Феноменологическое понимание по своей природе статично, поскольку дает не более чем статический отпечаток душевной жизни, в его задачи не входит выяснение взаимосвязи переживаний, их динамики, обусловленности и пр. Главной операцией феноменологического метода является феноменологическая редукция, представляющая выключение слой за слоем из поля суждений врача-психиатра всех концептуализмов, логики, научных и других приобретенных знаний, всех обыденных представлений и собственной включенности в исторический, социальный, политический контекст. Феноменологический взгляд высоко ценит наивное восприятие, не замутненное и не искаженное обывательскими шаблонами. Но, как неоднократно повторяет К. Ясперс, феноменологическая редукция – очищение от предвзятостей – «очень трудная задача», «тяжелое приобретение после долгой критической работы и часто тщетных попыток в конструкциях и мифологиях», требующая все новых усилий. Другим существенным препятствием является неспособность больного внятно выразить свои переживания в силу актуального состояния или невысокого уровня рефлексии. Феноменологические описания – это бережно, непредвзято изложенные конкретные, сугубо индивидуальные развернутые примеры непосредственных переживаний больных. Процесс феноменологического описания представляет последовательность следующих этапов:
● беспредпосылочное, максимально очищенное от всех предвзятостей разного вида и уровня выслушивание психиатром аутентичных описаний больными своих непосредственных переживаний, ощущений, потока сознания, их рефлексии по этому поводу, что достигается посредством табуирования во время первоначального общения с пациентом всех задающих направление вопросов в их неравномерной детализации;
● концентрация внимания на том, что в постоянно текущем изменчивом потоке действительно выходит за рамки обычного и потому «оправдывает наше удивление», выделив и ограничив его;
● воспроизведение в себе этих сообщенных переживаний во всей возможной полноте и структурной расчлененности в «понимающем прочувствующем представлении», что требует акта вчувствования, эмпатии и понимания этих переживаний;
● достижение в результате свободного варьирования в воображении их образа, мысленно экспериментируя с которым, ставя в различные положения и сочетания, можно достичь полной и устойчивой ясности (инвариантности) в наглядной образной форме;
● четкое очерчивание психических состояний в их взаимосвязи («феноменологические провалы» и «феноменологические переходы»), дифференциация их, с разработкой максимально физиогномической терминологии, дающей точное именование (квалификацию).
Феноменология является эмпирическим актом, образующимся благодаря сообщениям больных. Именно поэтому К. Ясперс так высоко ценил подробные истории болезни. В предлагаемом им методе описание требовало, кроме систематических категорий, удачных формулировок и контрастирующих сравнений, выявление родства феноменов, их порядка следования или их появления на непроходимых расстояниях и имело своей задачей наглядно представлять психические состояния, переживаемые больными, рассматривать их родственные соотношения, как можно более строго ограничивать их, различать и определять их во времени. Поскольку мы никогда не в состоянии непосредственно воспринимать чужое психическое таким же образом, как и физическое, речь могла идти, по мнению К. Ясперса, лишь о представлении, вчувствовании, понимании, достижимых посредством перечисления ряда внешних признаков психического состояния и условий, при которых оно возникает, чувственного наглядного сравнения и символизации, посредством разновидности суггестивного изображения. Именно поэтому Ясперс отводил такую роль самоописаниям больных, а также развернутым историям болезни, где необходимо давать отчет о каждом психическом феномене, о каждом переживании, не ограничиваясь общим впечатлением. Феноменологическая психиатрия, в отличие от ортодоксальной психиатрии и некоторых иных (к примеру, психоанализа), использует принципы понимающей, а не объясняющей психологии. Переживание человека рассматривается многомерно, а не толкуется (как это принято в ортодоксальной психиатрии) однозначно. За одним и тем же переживанием может скрываться как психологически понятный феномен-признак, так и психопатологический симптом. Для феноменологически ориентированного психиатра не существует однозначно патологических психических переживаний. Каждое из них может относиться как к нормальным, так и к аномальным. Если в рамках ортодоксальной психиатрии вопрос нормы – патологии трактуется произвольно на базе соотнесения собственного понимания истоков поведения человека с нормами общества, в котором тот проживает, то в феноменологической психиатрии существенное значение для диагностики имеют субъективные переживания и их трактовки самим человеком (то, что представители первого направления обозначили бы «психологизаторством»). Психиатр же следит лишь за логичностью этих объяснений, а не трактует их самостоятельно в зависимости от собственных пристрастий, симпатий или антипатий и даже идеологических приоритетов.
В повседневной практике можно выделить четыре основных принципа клинической феноменологии.
1. Принцип понимания используется как противопоставление принципу объяснения, широко представленному в ортодоксальной психиатрии и основанному на критерии понятности или непонятности для нас (сторонних наблюдателей) поведения человека, его способности поступать правильно и исключать нелепые высказывания и действия. В рамках феноменологической психиатрии критерий понятности переходит в русло понимания и согласия диагноста с логичной трактовкой собственных переживаний и реакцией на них.
В знаменитом примере К. Ясперса с идеями ревности для ортодоксального психиатра базой для диагностики бреда ревности будет выступать «нелепый характер высказываний и умозаключений больного» («жена изменяет, потому что вставила новые зубы»), а для феноменологического психиатра существенным, наряду с другими параметрами, будет анализ понимания человеком сути измены («что вкладывать в понятие измены»). Без оценки субъективного смысла «измены» невозможно говорить о генезе ложной убежденности, характерной для бреда. Без понимания субъективности переживания человека нельзя сделать вывод об их обоснованности и логичности. Принцип понимания позволяет отделить психологические феномены от психопатологических симптомов, а в некоторых случаях и постараться их противопоставить чисто лингвистически. Один и тот же феномен после акта понимания, вчувствования может быть назван нами либо аутизмом, либо интраверсией, резонерством или демагогией, амбивалентностью или нерешительностью и т. д.
2. Следующим феноменологическим принципом является принцип «эпохе», или принцип воздержания от суждения. В психиатрии его можно было бы модифицировать в принцип воздержания от преждевременного суждения. Его суть заключается в том, что в период феноменологического исследования необходимо отвлечься, абстрагироваться от симптоматического мышления, не пытаться укладывать наблюдаемые феномены в рамки нозологии, а пытаться лишь вчувствоваться. Следует указать, что вчувствование не означает полного принятия переживаний человека и исключения анализа его состояния. В своем крайнем выражении вчувствование может обернуться субъективностью и привести к неправильным выводам.
3. Принцип беспристрастности и точности описания феномена заключается в требовании исключить любые личностные (присущие врачу-диагносту) субъективные отношения, направленные на высказывания обследуемого, избежать субъективной их переработки на основании собственного жизненного опыта, морально-нравственных установок и прочих оценочных категорий. Точность описания требует тщательности в подборе слов и терминов для описания состояния наблюдаемого человека.
4. Принцип контекстуальности наблюдаемого феномена, т. е. его описание в контексте времени и пространства. Принцип контекстуальности подразумевает, что феномен не существует изолированно, а является частью общего восприятия и понимания человеком окружающего мира и самого себя.
Восприятие клинико-феноменологических характеристик у опытного клинициста, как правило, сопровождается чувством определенной меры (степени):
● непосредственности переживания того, о чем идет речь; идет ли речь о том, что переживается сейчас, или сообщается о недавнем или давнем прошлом;
● ясности, очевидности предмета рассмотрения (хорошо ли понял);
● надежности его восприятия (хорошо ли увидел, услышал).
Данные всех описаний, измерений, экспериментов и статистической обработки теряют смысл, пока нет ясного понимания того, что именно описано и измерено.
Хотя арсенал диагностических средств огромен и продолжает неуклонно расти, исторически и гносеологически сложилось так, что первыми в процессе чувственного познания феномена болезни применяются клинические методы: наблюдение, беседа, изучение продуктов творчества больных и пр. Однако, как бы совершенны и точны эти методы ни были, следует помнить, что с их помощью определяются только признаки болезни, а не диагноз. Каждый из обнаруженных признаков отражает лишь определенное свойство или качество патологического процесса, выявляемое с помощью адекватного метода исследования. Все патологические свойства-признаки находятся в определенной взаимосвязи, обусловленной патогенезом болезни и теми уровнями функционирования организма, на которых они возникают и существуют.
Познание феномена болезни в психиатрии начинается с обнаружения всех имеющихся у пациента признаков, а не только психопатологических. После их анализа, систематизации, изучения динамики и формирования диагностических гипотез планируется объем дальнейшего обследования, применение методов которого позволяет уточнить выявленные ранее признаки и обнаружить новые, скрытые. Такой подход дает возможность отнести конкретный случай к тому или иному роду заболеваний. Будучи субъективными по своей форме, психопатологические признаки объективны по происхождению, они косвенно, как бы «в снятом виде», отражают внешне невидимые биологические процессы и подчиняются всем общепатологическим закономерностям. Следовательно, диагностика психических заболеваний должна строиться в соответствии с общей теорией патологии человека. Поэтому клинический метод является не только начальным, но и ведущим на этапе распознавания признаков болезни. Данные же любого параклинического обследования, как бы современны и точны они ни были, получают диагностическую ценность и значимость исключительно при клиническом анализе, который использует всю медицинскую информацию. Его основной путь – от признака к симптому, от симптомов к синдрому с распознаванием синдромогенеза и синдромокинеза, затем к синдромотаксису и лишь потом – к нозологической квалификации случая.
ВТОРОЙ ЭТАП ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССАНа втором этапе диагностического процесса проводятся клинический анализ, терминологическое типирование и систематизация симптомов. При этом большое значение приобретает такой важный аспект диагностики, как семиотика. Ее предмет – выделение и изучение диагностического значения отдельных признаков и их связи с патологией. Описание и обозначение патологических признаков осуществляются с помощью системы симптомов. Симптом – абстрактное понятие (результат врачебного суждения или умозаключения), обозначающее строго фиксированное по форме описание признака, соотнесенного с определенной патологией. Это терминологическое обозначение патологического признака. Не каждый признак является симптомом, а только названный при установлении его причинно-следственной связи с патологией. С называния симптома начинается профессиональная коммуникация. Для последней необходима унификация терминологии, в том числе психиатрической, которая является не только материалом для методологически правильного построения диагноза, но и основной формой профессиональной коммуникации. Психиатры должны «видеть одинаково», т. е. одни и те же признаки обозначать одними и теми же терминами. Каждая отрасль медицины имеет свой семиотический аппарат. Семиотический аппарат психиатрии определяется набором психопатологических симптомов. Выявление симптомов в большинстве случаев позволяет лишь констатировать факт наличия болезни вообще и отнести ее к той или иной отрасли медицины, так как каждая клиническая наука имеет их особый набор. Специфическими для психиатрии являются психопатологические симптомы. Они делятся на продуктивные и негативные. Продуктивные обозначают признаки патологической продукции (вновь возникающие дезадаптивные признаки) психической деятельности (сенестопатии, галлюцинации, бред, тоска, страх, тревога, эйфория, психомоторное возбуждение и т. д.). Негативные включают признаки обратимого или стойкого, прогрессирующего, стационарного или регрессирующего ущерба, выпадения, изъяна, дефекта того или иного психического процесса (гипомнезия, амнезия, гипобулия, абулия, апатия и т. п.). Продуктивные и негативные симптомы в клинической картине болезни выступают в единстве, сочетании и имеют, как правило, обратно пропорциональное соотношение: чем более выражены негативные симптомы, тем менее, беднее и фрагментарнее – продуктивные. Совокупность всех симптомов, выявленных в процессе обследования конкретного больного, образует симптомокомплекс. Выделение его – следующий, более высокий по сравнению с определением симптомов уровень познания болезни. Но и этот уровень еще далеко не достаточен для определения болезни, так как набор симптомов может быть обусловлен разнообразными факторами (патогенетическими, патопластическими, конституционально-индивидуальными, социальными, модифицирующими и пр.).
Симптомокомплекс отражает реальную картину болезни на момент обследования и является конкретным проявлением имеющейся у больного совокупной патологии. В нем выделяется ряд закономерно сочетающихся друг с другом симптомов, образующих синдром.
Синдром – строго формализованное описание закономерного сочетания симптомов, которые связаны между собой единым патогенезом и соотносятся с определенными нозологическими формами. В его структуре значимость симптомов различна. Симптомы подразделяются на обязательные (среди них есть ведущие), дополнительные и факультативные.
Возникновение обязательных симптомов обусловлено основными патогенетическими механизмами болезни.
Дополнительные симптомы отражают тяжесть, выраженность патологического процесса, а факультативные связаны с модифицирующим влиянием различных добавочных патопластических факторов.
Ведущие симптомы характеризуют принадлежность данного психопатологического синдрома к определенной группе. Это симптомы, без которых данный синдром не существует. Характерной чертой ведущих симптомов является то, что при становлении синдрома они появляются раньше других симптомов, а при обратном развитии синдрома исчезают во многих случаях в последнюю очередь. Например, к ведущим относят симптом тоски при депрессивных синдромах, симптом истинных слуховых галлюцинаций при вербальных галлюцинозах. Обязательные симптомы, как и ведущие, имеют прямое отношение к патогенетическим механизмам развития болезни и тесно с ними связаны. Они дают возможность выделить из группы синдромов конкретный синдром, диагностировать его типичный вариант и отделить от сходных состояний. Например, ведущий симптом – витальная тоска – позволяет отнести феномен болезни к группе депрессивных синдромов, а обязательные симптомы – гипокинезия и замедление темпа мышления – выделить его в самостоятельный вариант, назвать его «депрессивный синдром классического типа» и дифференцировать с иными депрессивными состояниями, например, с ажитированной депрессией.
Ведущие и обязательные симптомы с позиции формальной логики относятся к существенным признакам синдрома. При этом ведущие симптомы – родовые признаки синдрома, а обязательные – его видовые отличия. Дополнительные симптомы характеризуют признаки, которые закономерно встречаются в рамках определенного синдрома, но могут и отсутствовать. Они свидетельствуют об определенной тяжести патологического процесса, сопровождающегося появлением данного синдрома, степени его клинической выраженности. Так, голотимические бредовые (или сверхценные) идеи пониженной самооценки, суицидальные мысли, намерения, замыслы и действия, являясь дополнительными симптомами в структуре депрессивного синдрома классического типа, указывают на его психотический уровень, особую тяжесть, позволяют отличить от непсихотического субдепрессивного синдрома и являются клиническим показанием для применения медико-социальных мер, в частности – недобровольной госпитализации. Факультативные симптомы имеют еще меньшую связь с базисным патогенезом. Их появление большей частью зависит от действия привходящих патопластических факторов («почвы»), модифицирующих структуру синдромов. Они позволяют выделить атипичные варианты последних. Например, появление в структуре субдепрессивного синдрома таких факультативных симптомов, как выраженные соматовегетативные расстройства, фобии, обсессии, сенестопатии и др., позволяет типировать его атипичный вариант, называемый ларвированной субдепрессией. Дополнительные и факультативные симптомы с позиции формальной логики относятся к несущественным признакам синдрома. При этом дополнительные симптомы – собственные признаки, а факультативные – несобственные. Таким образом, разделение симптомов, образующих синдром, на ведущие, обязательные, дополнительные и факультативные дает возможность не только отнести конкретное синдромальное образование к той или иной группе, но и выделить его конкретный вид, определить выраженность, форму, обозначить как типичный или атипичный вариант.



