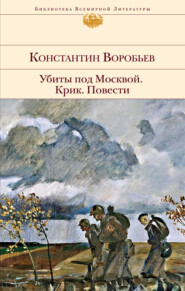
Полная версия:
Убиты под Москвой. Крик. Повести
В рассказе «Чертов палец» главный герой Иван Кондратьев приезжает в родную Чекмаревку после тридцати трех лет отсутствия. У него в детстве от голода умер отец, которого Иван похоронил прямо на огороде. Вступив в диалог с бывшим председателем сельсовета Кочетком, Кондратьев быстро понимает, что тот ни в чем себя виноватым не считает, а стиль своего руководства оправдывает государственной необходимостью. Кочеток – фигура отталкивающая, но главный герой даже после адресованного ему вопроса: «А чего ж ты не помер?» – не испытывает к нему ненависти. У Кондратьева нет желания наказывать кого-либо за пережитую в детстве трагедию. Как мы видим, автобиографическим героям Воробьева легче отказаться от мыслей о возмездии, нежели кому-либо воздать по заслугам. Единственный суд, который они способны вершить, – это суд над собой. Перестать жить идеей возмездия – это значит спасти в первую очередь собственную душу. Как выразился Игорь Золотусский, вся проза К. Д. Воробьева «чистая и немстящая».
Насколько страшно для писателя впасть в состояние ожесточения, сам Воробьев отмечает в одном из писем В. П. Астафьеву: «Уже вот полгода, как я служу в газете. За это время не написал ни строчки. Да и не берут меня, не хотят, вертают без отписок даже, просто с обратной почтой. Это раздражает, зовет к отпору, ожесточает душу, а с таким настроем писать трудно».
Представление о человеческой жизни как о высшей ценности является сквозной идеей всего творчества К. Д. Воробьева. Писатель ясно дает понять читателю: людей нельзя мучить и тем более убивать, какими бы красивыми словами о благе государства такие действия ни прикрывались. И когда я читаю в статье критика Л. Лавлинского «Биография подвига» о повести «Убиты под Москвой»: «Пережив невыносимое, герой простой бутылкой с горючим поджигает вражеский танк, становится опытным и беспощадным воином», – мне хочется возразить: «Это не про Алексея Ястребова и не про Константина Воробьева!» Всепроникающая гуманистическая направленность творчества писателя в первую очередь состоит в том, что никто из его автобиографических героев, несмотря на все перенесенные испытания, не может стать беспощадным по отношению к другим, – только к себе!
Писатель, на долю которого выпало столько тяжелого и мрачного, остро ощущал, что человек имеет право на счастье, и лишать его этого права – преступление. В «Записных книжках» Воробьев высказывает такое желание: «Написать рассказ о тех, кто сулит рай в будущем. Природа этого. Жить тем, что будет после тебя? В этом страшная ложь. И люди должны противиться ей. Человек должен сделать себе радость при своей жизни. Себе. И это останется потомкам. Это очень просто».
Сергей Романов
Повести
Крик
Уже несколько дней я командовал взводом, нося по одному кубарю в петлицах. Я ходил и косил глазами на малиновые концы воротника своей шинели, и у меня не было сил отделаться от мысли, что я лейтенант. Встречая бойца из чужого взвода, я шагов за десять от него готовил правую руку для ответного приветствия, и если он почему-либо не козырял мне, я окликал его радостно-гневным: «Вы что, товарищ боец, не видите?» Обычно красноармеец становился по команде «смирно» и отвечал чуть-чуть иронически: «Не заметил вас, товарищ лейтенант!» Никто из них не говорил при этом «младший лейтенант», и это делало меня их тайным другом.
Наш батальон направлялся тогда на фронт в район Волоколамска. Мы шли пешим порядком от Мытищ и на каждом привале рыли окопы. Сначала это были настоящие окопы, – мы думали, что тут, под самой Москвой, и останемся, но потом бесполезный труд осточертел всем, кроме командира батальона и майора Калача. Он был маленький и кривоногий и, наверное, поэтому носил непомерно длинную шинель. Мой помощник старший сержант Васюков назвал его на одном из привалов «бубликом». Взводу это понравилось, а майору нет, – кто-то был у нас стукачом. После этого Калач каждый раз лично проверял качество окопа, отрытого моим взводом. У всех у нас – я тоже рыл – на ладонях вспухли кровавые мозоли: земля была мерзлой – стоял ноябрь.
На шестой день своего землеройного марша мы вступили в большое село. Было уже под вечер, и мы долго стояли на улице – Калач с командирами рот сверял местность с картой. Весь день тогда падал редкий и теплый снег. Может, оттого что мы шли, снежинки не прилипали к нашим шинелям, и только у майора – он ехал верхом – на плечах лежали белые, пушистые эполеты. Он так осторожно спешился, что было видно – ему не хотелось отряхивать с себя снег.
– Гляди-ка, товарищ лейтенант! Бублик наш подрос!
Это сказал мне Васюков на ухо, и мне не удалось справиться с каким-то дурацким бездумным смехом. Майор оглянулся, посмотрел на меня и что-то сказал моему командиру роты. Я слышал, как тот ответил: «Никак нет!»
Село стояло ликом на запад, и мы начали окапываться метрах в двухстах впереди него, почти на самом берегу ручья. Воды в нем было по колено, и она казалась почему-то коричневой. Моему взводу достался глинистый пригорок на правом фланге в конце села. Дуло тут со всех сторон, и мы завидовали тем, кто окапывался в низинке слева.
– Застынем за ночь на этом чертовом пупке, – сказал Васюков. – Может, спикировать в хаты за чем-нибудь?
Я промолчал, и он побежал в село. У него была плоская стеклянная фляга с длинным, узким горлом, оплетенная лыком. Он носил ее на брючном ремне, и она не выпирала из-под шинели. Васюков называл ее «писанкой».
Я ждал его часа полтора. За это время на нашем чертовом пупке побывали Калач и командир роты.
– Окоп отрыть в полный профиль, – распорядился Калач. – Отсюда мы уже не уйдем.
Когда они ушли, я спустился к ручью. Он озябло чурюкал в кустах краснотала. За ним ничего не виделось и не слышалось. Мне не верилось, что мы не уйдем отсюда.
Васюков ожидал меня, сидя на краю полуотрытого окопа.
– Не достал, – шепотом сообщил он. – Шинель хотят…
– За сколько? – спросил я.
– За пару литров первача… Жителей совсем мало. Ушли.
– А за что сам тяпнул? – поинтересовался я.
– Да не-е, это я пареных бураков порубал, – сказал он.
Лишних шинелей у нас еще не было. А Васюков все же выпил, – я с самых Мытищ знал, чем отдает самогон из сахарной свеклы.
– Между прочим, тут есть валяльня, – сказал он. – Полный амбар набит валенками. И никого, кроме кладовщицы… Бабец, между прочим, под твой, товарищ лейтенант, рост, а под мою…
– Давай-ка рыть, – предложил я. – Отсюда мы, между прочим, не уйдем, понял?
Становилось совсем темно, но мы продолжали работать, ругаться – ветер дул с запада и забивал глаза землей и снегом.
– Если на самом деле тут засядем, то не худо бы первыми захватить валенки, а? – сказал Васюков. От него хорошо все-таки пахло. Закусывал он, видать, не бураками. Он был прав насчет валенок. Хотя бы несколько пар. Почему не попытаться?
– Давай сходим, – сказал я.
Село как вымерло. Нигде ни огонька, ни звука – даже собаки не брехали. Мы миновали сторонкой школу, где разместился на ночь штаб батальона, потом завернули в темный двор, и там я минут десять ждал Васюкова. Из хаты он выходил шагом балерины, но сначала я увидел белую чашку, а затем уже его протянутые руки.
– Держи, – таинственно сказал он, и пока я пил самогон, он не дышал и вырастал на моих глазах – приподнимался на цыпочки.
После этого мы выбрались на огороды села. У приземистого деревянного амбара Васюков остановился и постучал ногой в дверь.
– Ктой-то? – песенно отозвался в амбаре чуть слышный голос.
– Мы, – сказал Васюков.
– А кто?
– Командиры, – сказал я.
Амбар и на самом деле был забит валенками. Они ворохами лежали по углам и подпрыгивали – мигала «летучая мышь», стоявшая у дверей на полу. Я приподнял фонарь и увидел у притолоки девушку в черной стеганке, в большой черной шали, в серых валенках. Она держала в руках железный засов.
В жизни своей я не видел такого дива, как она! Да разве об этом расскажешь словами? Просто она не настоящая была, а нарисованная – вот и все!..
– Ну, что я говорил? – сказал Васюков.
Я сделал вид, будто не понял, о чем он, и сказал:
– Забираем сейчас же!
– Все? – обрадованно спросила девушка, глядя на меня так же, как и я на нее.
– Пока тридцать две пары, – сказал Васюков.
Он подмигнул мне и побежал во взвод за бойцами, а мы остались вдвоем. Мы долго молчали и почему-то уже не смотрели друг на друга, будто боялись чего-то, потом я спросил:
– Кладовщицей работаете тут?
Она ничего не сказала, вздохнула и поправила шаль, не выпуская из рук засова. Да! Ни до этого, ни после я не встречал такой живой красоты, как она. Никогда! И Васюков говорил правду – ростом она была почти с меня.
Я всегда был застенчив с девушкой, если хотел ей понравиться, и сразу же превращался в надутого индюка, как только оставался с нею наедине. Что-то у меня замыкалось внутри и каменело, я молчал и делал вид, что мне все безразлично. Это, наверно, оттого, что я боялся показаться смешным, неумным.
Все это навалилось на меня и теперь. Я щурил глаза, начальственно осматривал вороха валенок, стены и потолок амбара. Руки я держал за спиной. И покачивался с носков на каблуки сапог, как наш Калач.
– А расписку я получу? – спросила хозяйка валенок. Я понял, что подавил ее своим величием и кубарями, и молча кивнул.
– Ну, тогда пишите, – сказала она.
Я написал расписку в получении тридцати двух пар валенок от колхоза «Путь к социализму» и подписался крупно и четко: «Командир взвода воинской части номер такой-то м. лейтенант Воронов». Я проставил число, часы и минуты совершения этой операции. Она прочла расписку и протянула ее мне назад:
– Не дурите. Мне ж правда нужен документ!
– А что там не так? – спросил я.
– Фамилия, – сказала она. – Зачем же вы мою ставите? Не дурите… – Никогда потом я не предъявлял никому своих документов с такой горячей радостью, почти счастьем, как ей! Она долго рассматривала мое удостоверение – и больше фотокарточку, чем фамилию, – потом взглянула на меня и засмеялась, а я спросил:
– Хотите сахару?
Я достал из кармана шинели два куска рафинада и сдул с них крошки махорки.
– Берите, у меня его много, – зачем-то соврал я.
Она взяла стыдливо, покраснев, как маков цвет, и в ту же минуту в амбар ввалился Васюков с четырьмя бойцами. Конечно, он пришел не вовремя – мало ли что я мог теперь сказать и, может, подарить еще кладовщице! Она стояла, отведя руку назад, пряча сахар и глядя то на вошедших, то призывно на меня, и я, ликуя за эту нашу с нею тайну на двоих, встал перед нею, загородив ее, и не своим голосом распорядился отсчитывать валенки.
Через минуту она вышла на середину амбара. Руки ее были пусты.
Васюкову не хотелось нагружаться, но связывать валенки было нечем, а каждый боец мог унести лишь шесть-семь пар.
– Давай забирай остальные, – сказал я ему.
– А может, кто-нибудь из бойцов вернется за ними? – спросил он, но, взглянув на меня, взял валенки.
– Пошли, – сказал я всем и оглянулся на кладовщицу. – А вы разве остаетесь?
– Нет… Я после пойду, – сказала она. Васюков протяжно свистнул и вышел. Я догнал его за углом амбара.
– Смотри там за всем, я скоро! – сказал я.
– Да ладно! – свирепо прошептал он. – Гляди только, не подхвати чего-нибудь в тряпочку…
Я постоял, борясь с желанием идти во взвод, чтобы как-нибудь нечаянно не потерять то хорошее и праздничное чувство, которое поселилось уже в моем сердце, но потом все же повернул назад, к амбару. Внутрь я не пошел. Я заглянул в дверь и сказал:
– Я вас провожу, хорошо?
– Так я же не одна хожу, – песенно, как в первый раз, сказала кладовщица, пряча почему-то руку за спину.
– А с кем? – спросил я.
– С фонарем.
Я не хотел, чтобы она шла с фонарем. Он был третий лишний, как Васюков, и я сказал:
– С фонарем нельзя теперь. Село на военном положении…
В темноте мы долго запирали амбар, – петля запора не налезала на какую-то скобу, и мне надо было нажимать плечом на дверь. Наши руки сталкивались и разлетались, как голуби, и, поскользнувшись, я схватился за концы ее шали. Мы оказались лицом к лицу, и я смутно увидел ее глаза – испуганные, недоуменные и любопытные. В глаз и поцеловал я ее. Она отшатнулась и прикрыла этот глаз ладонью.
– Я нечаянно. Ей-богу! – искренне сказал я. – Вам очень больно?
– Да не-ет, – протянула она шепотом. – Сейчас пройдет.
– Подождите… Дайте я сам, – едва ли понимая смысл своих слов, сказал я.
– Что? – спросила она, отняв ладонь от глаза. Тогда я обнял ее и поцеловал в раскрытые, ползущие в сторону девичьи губы. Они были прохладные, упруго-безответные, и я ощутил на своих губах клейкую пудру сахара.
Странное, волнующее и какое-то обрадованно-преданное и поощряющее чувство испытывал я в тот момент от этого сахарного вкуса ее губ. Я недоумевал, когда же она успела попробовать сахар, и было радостно, что сахар этот был моим подарком, и мне хотелось сказать ей спасибо за то, что она попробовала его украдкой… Я думал об этом, насильно целуя ее и чувствуя слабеющую силу ее рук, упершихся мне в грудь. О том, что она заплакала, я догадался по вздрагивающим плечам, – лицо ее было в моей власти, но я его не видел, и испугался, и стал умолять простить меня и гладить ее голову обеими руками.
– Я хороший! – убежденно, почти зло сказал я. – У меня никогда никого не было… Вот увидишь потом сама!
Что и как могла она увидеть потом, я до сих пор не знаю и сам, но я говорил правду, и, видно, она ее услышала, потому что перестала плакать.
– Я больше не прикоснусь к тебе пальцем! – верующе сказал я. Она подняла ко мне лицо, держа сцепленные руки на груди, и с укором сказала:
– Хоть бы узнали сначала, как меня зовут!
– Машей, – сказал я.
– Мари-инкой, – протяжно произнесла она, а я качнулся к ней и закрыл ее рот своими губами. Я чувствовал, что вот-вот упаду, и вдруг блаженно обессилел; я куда-то падал, летел, и мне не хватало воздуха. Я разнял свои руки и прислонился к стене амбара, а Маринка кинулась прочь.
– Подожди! – крикнул я. – Подожди минуточку!
Она вернулась, издали тронула пальцем пуговицу на моей шинели и сказала:
– Ну, что это вы? А шапка где?
Она нашла ее под ногами и протянула мне.
– Мари-и-инка, – произнес я как начальное слово песни и стал целовать ее – напряженную, трепетную, прячущую лицо мне под мышку.
– Не надо… Пожалуйста! Ну разве так можно!..
– Скажи: «Ты, Сергей», – просил я.
– Нет, – отбивалась она. – Не буду…
– Почему?
– Я боюсь…
– Чего?
– Не знаю…
– Ты мне не веришь?
– Не знаю… Я боюсь… И, пожалуйста, не нужно больше целоваться!
– Хорошо! – отрешенно и мужественно сказал я. – Больше я к тебе пальцем не прикоснусь!
До ее дома мы дошли молча. Она поспешно и опасливо скрылась за калиткой палисадника и, невидимая в черных кустах, песенно сказала:
– До свидания!
– Я приду завтра! – шепотом крикнул я.
– Нет-нет. Не надо!
– Днем приду, а потом еще вечером… Хорошо?
– Я не знаю…
Через пять минут я был в окопе.
В девять утра на наш пупок прибыл Калач в сопровождении своего начальника штаба и нашего командира роты.
– Младший лейтена-а-ант! – не останавливаясь, идя с подсигом, как все маленькие, закричал Калач еще издали, и я враз догадался, что сейчас будет – ему доложили о валенках. Может, еще ночью кто-то стукнул, черт бы его взял! Я побежал к нему, остановился метров за пять и так врезал каблуками, что он аж вздрогнул.
– Командир второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона младший лейтенант Воронов по вашему приказанию явился!
У меня получилось это хорошо, и, наверно, я правильно смотрел в глаза майору, потому что он скосил немножко голову, как это делают, когда разглядывают что-нибудь интересное, потом обернулся к командиру роты:
– Видал орла?
Капитан Мишенин пощурился на меня и вдруг подмигнул. Ему не нужно было это делать – я ведь тогда весь был захвачен широкой и бездонной радостью, поэтому не выдержал и засмеялся.
– Что-о? – рассвирепел Калач. – Тебе весело? Мародерствуешь, а потом зубы скалишь? В штрафной захотел?
– Никак нет, товарищ майор! – доложил я.
– Куда девал государственное имущество? – спросил он. Я не совсем понял, и тогда Мишенин негромко сказал:
– Это кооперативное, товарищ майор.
– Все равно! – отрезал Калач. – Где валенки, я спрашиваю?
– У бойцов на ногах, – ответил я.
– На ногах? – опешил майор. – Сейчас же возвратить! Немедленно! Самому!
– Есть возвратить самому! – повторил я и обернулся к окопу: – Разуть валенки-и!
Я любил в эту минуту Калача. Любил за все – за его рост, за то, что он майор, за его ругань, за то, что он приказал мне самому отнести валенки в амбар… Они все, кроме двух пар, были изрядно испачканы землей и растоптаны, и бойцы начали чистить их, а Васюков, когда удалилось начальство, спросил меня:
– Может, вдвоем будем таскать?
– А ты не слыхал, что сказал майор? – ответил я. – Мне одному приказано.
– Да откуда он узнает!
– От стукача, который доложил ему!
– Это верно, – вздохнул он.
Я захватил под мышки шесть пар валенок и побежал к амбару, и за дорогу раза три складывал валенки на землю, и поправлял на себе то шапку, то ремень и портупею. Сердце у меня давало, наверно, ударов полтораста в минуту, и когда я увидел запертые двери амбара, то даже обрадовался – я боялся увидеть Маринку днем, боялся показаться сам ей.
Я долго сидел на крыльце амбара – курил и глядел в поле, и когда от махры позеленело в глазах, неожиданно решил идти за Маринкой.
В селе оказалось много изб с палисадниками, и я выбрал тот, где кусты были погуще, и, ссыпав валенки во дворе, постучал в двери сеней. Я на всю жизнь запомнил дверь эту – побеленную зачем-то известью, с засаленной веревочкой вместо ручки. Большими печатными буквами-раскоряками пониже веревочки объявлялось:
«МАРИНКА
ДУРА»
Открыл мне пацаненок лет семи, – это был Колька, Маринкин братишка, как узнал я потом.
– Марина Воронова тут живет? – спросил я его.
– Она сичас не живет, – сказал Колька, – она за водой пошла.
Я сошел с крыльца и увидел Маринку, входившую с ведрами в калитку. Заметив меня, она даже подалась назад и покраснела так, что мне стало ее жалко.
– Вот принес валенки, – сказал я вместо «здравствуй».
– Не налезли? – виновато спросила Маринка. Ближнее ко мне ведро раскачивалось на коромысле, и вода плескалась на мои сапоги.
– Налезли, – сказал я, – но приказано вернуть. Все. Ясно?
– Ага, – сказала Маринка. – Сейчас выйду. Подождите…
Я подобрал валенки и пошел со двора, но меня окликнул Колька:
– А ты красноармеец или командир?
– Командир, – сказал я, и в это время из сеней вышла Маринка, и я был благодарен Кольке за его вопрос: мне казалось, что она тоже не знает, что я лейтенант, хоть и младший.
По улице села мы прошли молча – я впереди, а она сзади, и когда на околице я оглянулся, Маринка остановилась и начала хохотать, как сумасшедшая, взглядывая то на мое лицо, то на валенки. Конечно, я, наверно, был смешон до нелепости.
– Ну и что тут такого? Подумаешь! – сказал я, выронил валенки и пнул их ногой. Обессилев от смеха, Маринка повалилась прямо на снег. Я кинулся к ней и губами отыскал ее рот.
– Увидят же… все село… бешеный, – не просила, а стонала она, да мне-то что было до этого? Хоть весь мир пускай бы смотрел!
Кое-как мы дошли до амбара, – как только она начинала хохотать, я бросал валенки и целовал ее. На крыльце амбара она пожаловалась:
– У меня уже не губы, а болячки. Хоть бы не кусался…
– Больше не буду, – сказал я.
– Да-а, не будешь ты…
Разве мог я после этого сдержать свое слово?
Когда я вернулся в окоп за очередной порцией валенок, взвод мой гудел, как улей:
– Товарищ лейтенант! Давайте отнесем разом, и шабаш! Что же вы будете мотаться один до обеда?!
Знали бы они, что я согласен «мотаться» так не только до обеда, а хоть до конца своей жизни. Конечно, я не позволил бойцам помочь мне, сославшись на приказ Калача…
Подходя к амбару, я еще издали услыхал музыку Маринкиного голоса. Она пела «Брось сердиться, Маша…»
То, чего я больше всего боялся и не хотел – возможного марша вперед, – в этот день не случилось: мы остались на месте. Я чуть дожил до темноты: в двадцать ноль-ноль мы договорились с Маринкой встретиться у амбара. Перед моим уходом у нас состоялся с Васюковым мужской разговор.
– Почапал, да? – мрачно спросил он. – А что сказать, ежели начальство явится?
– Скажи, что я забыл свою расписку на валенки. Скоро вернусь.
– Порядок! – сказал Васюков. – Гляди, распишись там как положено. В случае нужды – свистни. Поддержу…
Я поманил его подальше от окопа.
– Если ты хоть один раз еще скажешь это, набью морду. Понял? – решенно пообещал я.
– Так я же думал… Я же ничего такого не сказал, – растерянно забормотал он. – Мне-то что?
На следующий день утром через ручей переправилась какая-то кавалерийская часть. Маленькие заморенные кони были одной масти – буланой, и до того злы, что кидались друг на друга. Они грудились в улице села, привязанные к плетням и изгородям, а кавалеристы шли и шли с котелками к нашим кухням. Изголодались, видать, ребята.
День был низенький, туманный и тихий, как в апреле, и все же в обед черти откуда-то принесли к нам девятку «юнкерсов». Бомбили они не окопы, а село, и сбросили ровно девять бомб. Я сам считал удары. От них подпрыгивал весь наш пупок, – до такой степени взрывы были мощны и подземно-глухи.
– Железобетонные, – сказал Васюков. – Из цемента. По тонне каждая. Я точно знаю!
– Ну и что? – спросил я.
– А ничего. Воронка с хату. Озеро потом нарождается…
Над селом клубился серый прах; истошно, не по-лошадиному визжали и ржали кони, кричали и стреляли куда-то кавалеристы, хотя «юнкерсы» уже скрылись. Я схватил Васюкова за локоть. Он отвел глаза и отчужденно сказал:
– Ну, тут… сам понимаешь. Они могут сейчас завернуть и к нам. Так что решай, где ты должен находиться…
– Пять минут! – сказал я. – Только взгляну, узнаю… Ну?!
Он молчал, и я отвернулся к ручью и стал закуривать.
Удивительно, какая осмысленная, почти человечья мука может слышаться в лошадином ржании!
– Вообще-то можно и сбегать, – сказал позади меня Васюков. – Ну, сколько тут? Двести метров!
Я сунул ему незажженную цигарку и бросился в село.
На улице валялись снопы соломы, колья и слеги заборов – это сразу, а глубже, уже недалеко от Маринкиной хаты, я увидел огромную, круглую воронку, обложенную метровыми пластами смерзшейся земли. Рядом с нею, у раскиданного плетня, высокий смуглолицый кавалерист, одетый в бурку и похожий на Григория Мелехова, остервенело пинал сапогами в разорванный сизый пах коня, пробуя освободить седло. Конь перебирал, будто плыл, задранными вверх ногами, тихонько ржал, изгибал длинную мокрую шею, заглядывая на свой живот, и глаза у коня были величиной в кулак, чернильно-синие, молящие.
Через минуту я увидел – нет, не Маринкину еще – разрушенную хату. Наверно, тут было прямое попадание, потому что даже печка не сохранилась. Да там вообще ничего не уцелело. Просто это была исковерканная куча бревен и соломы, осевшая в провал.
В тесовой крыше Маринкиной хаты, прямо над сенцами, темнела большая, круглая дыра. Во дворе и на крыльце валялась пегая щепа дранки. Я решил, что крышу прободал осколок. Цементный. Но дыра была чересчур велика, и у меня похолодело во рту: «Бомба замедленного действия!» Я мысленно увидел ее почему-то никелированно-блестящей, тикающей и побежал со двора пригнувшись, как бегал в детстве с чужих огородов. Я то и дело оглядывался и видел белую дверь и веревочку, а пониже ее, там, где вчера было «Маринка дура» – бурое продолговатое пятно. «Стерла, чтобы я опять когда-нибудь не прочитал», – понял я и повернул назад.
Дверь я открыл с ходу, плечом, и в полутьме сеней, под белым столбом света, проникавшего в дыру крыши, увидел лошадь. Она лежала комком, подвернув под себя ноги и голову, и на ее мертвой спине выпячивалось и блестело медной оковкой новенькое комсоставское седло.
В хате никого не было, но на столе, в крошеве стекла, лежал хлеб, три ложки и стоял чугунок. От него шел пар, – окна на улицу были разбиты. Я заглянул в чулан и позвал:
– Есть кто-нибудь?
– Есть! – слабо донесся откуда-то Колькин голос.
– Где ты? – спросил я.
– А тут… В погребе!
Прямо у моих ног приоткрылся люк, и Колька вылез первым, за ним мать, а потом Маринка. Она была непокрытой, и я впервые увидел ее волосы – черные до синевы, в двух косах. Она смотрела на меня так, будто хотела предупредить о чем-то, боялась, видно, что я брякну ей что-нибудь лишнее тут, при матери, и я сказал:

