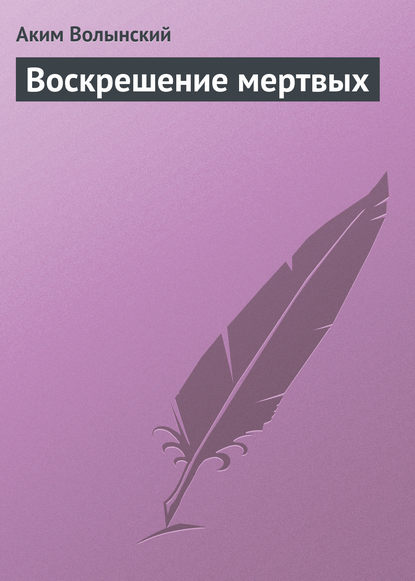 Полная версия
Полная версияВоскрешение мертвых
Искусственное воскрешенье, о котором говорит Н. Ф. Федоров, совершается непрерывно в человечестве, в каждом атоме культуры, в каждой пылинке бытия. Хочет или не хочет человечество, а оно воскреснет непременно, и не путем трудового воскрешения, а общего со всею природою дарового воскресения. Сын, имманентный отец, со всеми его прибавочными ценностями, со всеми его рычагами реформы и творчества, со всею его изобретательностью и предприимчивостью в духе Аполлона, а не просто труба прошлого, ведет все на свете к светлому пределу, предчувствием которого люди жили и живут до сих пор. У Федорова больше чем у кого бы то ни было на свете живущего прошлым, не было вдумчиво-приемлющего взгляда в текущий миг, в завоевания минутной культуры, в тихий рост благодетельных сил, безмолвно и неведомо работающих в добром союзе с лучшими из его идей.
3. Дельфинийский Аполлон
Николай Федорович Федоров полагал, что регуляция сил природы слепой и неразумной является главнейшей задачей сына человеческого на земле. Он должен расстреливать тучи в одних местах, направлять их в другие, подниматься на привязанном воздушном шаре в верхние слои атмосферы с громоотводами, чтобы извлечь оттуда грозовые силы и тем начертать другие пути для двигающихся облаков. Вооруженные войска всего мира должны превратиться в систематически и согласованно работающие естественно-испытательские силы, а солдатские казармы – в метеорические экспериментальные станции: тогда можно будет общими средствами вести планомерную борьбу с неразумными силами природы, «поражающими нас засухами, наводнениями, землетрясениями и другими всякого рода бедствиями». «Нужно желать, – пишет Федоров, – чтобы распределение дождей было поставлено в зависимость от действия именно войска, или войск, от операций, производимых на огромных пространствах, или – еще лучше – на всей земле, а не от действия отдельных фермеров». «Обращение слепой силы, направляющей сухие и влажные токи воздуха, в силу, управляемую сознанием, может быть дано только согласию всех народов, всех людей». Подчеркивая необходимость в такого рода экспериментах солидарности всех народов, Федоров оспаривает полезность и даже правомерность изолированных попыток в этом направлении. По мысли Федорова, война, зависящая в его представлении не от волевых импульсов, а только от материально-экономических причин, будет в результате такой регуляторной деятельности раз навсегда упразднена. Оружие превратится в орудие спасения. Стреляющие в людей войска превратятся в усмирителей природы. Артиллерийские огни обратятся в благотворные снопы света, направленные к разрушению слепых и злых стихий. «Война не волевое явление, – неоднократно говорит Федоров, – и никакими уговариваниями, как бы сильны и красноречивы они ни были, уничтожить войну нельзя».
Вот в русской обстановке зложелательных друг другу и разрозненных людей одна из первых стадий Аполлона: Аполлон дельфинийский расстреливает тучи, собравшиеся над островом Анафи. Конечно, мы имеем тут дело с культурнейшими антрепризами, намеченными научной фантазией большого человека. В таких попытках, о каких говорит Федоров с провидением будущих завоеваний технического гения; много реального разума и здорового предприимчивого духа. Сейчас перед нами программа его раскрылась в большом масштабе, и одна за другой создаются фирмы международной помощи в разных областях человеческой деятельности. Безбрежная, почти детская наивность открывается только в те мгновения, когда Федоров подходит к своим окончательным выводам, имеющим исключительно антропоцентрический характер. В его концепции человек действительно является претендентом на всемирное владычество, а злая и капризно-бездушная природа противопоставлена ему как его единственный враг. Вопрос младенчески упрощен и открывается со всех сторон многочисленным возражениям. Начнем с самого существенного. Необходимо установить следующий незыблемый факт. Дух человеческий не адекватен природе и не симметричен ей. Федоровский сын человеческий прежде всего сын природы. Он малая часть ее, деталь в системе мироздания. Природа бесконечно превышает его, неся в себе все его философии, все его разумения. Сколько бы человек ни расширял своего интеллекта, устремляя его в подземные и воздушные пространства, природы ему не охватить. Многообразными импульсами она зажигает в нем мысль, освещающую его небольшой житейский путь. И если в интеллекте человека ощущается какая-то бесконечность, то это только частичное рефлекторное отображение беспредельно неистощимой и неисповедимой природы. Как часто лучшие попытки исправить природу приводили к катастрофам как в человеческом организме, так и в окружающем нас мире! Так, например, попытка упразднить какой-нибудь, по-видимому ненужный орган влечет за собою одряхление человека. Задуманная было попытка изменить направление холодных течений, идущих от берегов Лабрадора, с целью достичь более мягкого климата в Европе при ближайшем рассмотрении оказывалась влекущею за собой, в случае реализации, в цепи метеорической причинности, фатально парализующее влияние благотворных ветров. Природа часто может перехитрить наивно-благородного дельфинийского Аполлона. Тайное созвучие между человеческим духом и природою не обусловливает еще адекватности и симметричности ей человеческого разума. Здесь возможны даже и наивнейшие аберрации, по которым человек видит себя в центре дела, причем в действительности он играет в нем лишь самую второстепенную роль. Мальтус ужасается тому, что население растет в геометрической прогрессии, а средства пропитания в арифметической. Ученые изыскивают пути ограничить размножение людей. Джон Стюарт Милль рекомендует рабочим не вступать в брак, забывая, что даже если бы его простодушный совет был исполнен, число детей, рождаемых вне брака, возросло бы в соответственной степени. Но вот в человеческом обществе появляются многочисленные группы людей, обрекающих себя на добровольное бесплодие из религиозных и этических мотивов, образуя коллективы хлыстов, скопцов и иные аскетические союзы. Происходит неизбежный отлив населения по совершенно неожиданной мотивировке. Природа часто предусмотрительнее и всегда разумнее человека. Так, она устанавливает гармонию в рождении детей обоего пола. Если бы предоставить человеку выбор иметь дочерей или сыновей в любом соотношении их чисел, то водворился бы совершенный беспорядок. Одни пожелали бы девочек, а другие мальчиков. К отдельным вкусам присоединились бы и неудачные законодатели. Но мудрая природа без апперцепции человека блюдет тут свой закон, непрерывно восстановляя нарушаемое войнами и иными катастрофами равновесие полов. Она же после истребительных войн усиливает рост сексуального инстинкта, направленного к возмещению убыли людей. Например, в посленаполеоновское время, после некоторых революций, а также во время и после больших эпидемий в целом народе замечается интенсивное повышение сексуально-романтического духа. «Декамерон» пишется во время чумы. Бесконечные ассиро-вавилонские войны, наводившие ужас на тогдашнее человечество, поражающие даже и сейчас своею наружною бесполезностью, обусловили в свое время – таинственными воздействиями природы – возникновение и рост новых цивилизаций. Кто решится сказать, глядя в хаос современности, что только что пережитая всемирная резня народов не представляет собою ничего, кроме разорванных в проволочных заграждениях тел? Конечно, все призывы Федорова имеют высокую педагогическую ценность, побуждая и воодушевляя людей в самых полезных культурных предприятиях. Я решаюсь, однако, как бы дискредитировать их только тогда, когда Федоров переносит эти призывы из мира практических проектов в планы какой-то универсальной борьбы против жестокой и ненавистной природы.
Другое возражение, уже не универсального характера, скорее поправка, имеет в виду утверждение Федорова, что «война не волевое явление», а только экономическое. Здесь Федоров упускает из виду многообразие причин, сил и факторов, порождающих наступление войны – от детских крестовых походов в Средние века до войны за освобождение американских невольников. В этом комплексе мы находим все революционные войны, все войны за освобождение угнетенных народностей, все походы Александра Македонского. Мы встречаем здесь и некоторые войны Юлия Цезаря, от которых у нас остались каналы, виадуки и мосты. Тут воля кричит из всех событий прошлого. Почти абсурдом кажется всякое отрицание воли, являющейся по существу своему дальним, но прямым отображением в человеческом интеллекте стихийных стремлений космоса. Воля разлита в природе, и воля в человеке только брызг всемирного хотения. Не нужно черпать у Шопенгауэра философских обоснований для таких утверждений. Вся современная мысль, воспитанная научно-критическими исследованиями в области гносеологии, стоит перед нами интеллектуально-волюнтаристической до конца. Все – воля! Сам Федоров, так возлюбивший вертикальность человека, должен был бы признать, что в этой вертикальности мы имеем манифестацию волевого принципа человека и природы. Если прав и Кант в своем споре с Гердером, утверждающий примат духа в вопросе о вертикальной выправке, то тут совершенно и очевидно налицо именно то тайное согласие интеллекта и природы, о котором я говорил выше. Природа и дух – в одном клубке, и если природа рождает из себя мир горизонтального, то и она же создает бесконечные вертикали. Воля пронизывает решительно все в индивидуальной и социальной сфере.
Н. Ф. Федоров необычайно прогрессивен для России. Как в свое время дельфинийский Аполлон принес в Грецию дух благородных, воинственных инициатив, так и он встревожил сознание русского общества, погрязшего в вине и картах, взятках и политических счетах, возвышенной мечтою о чем-то большом и всеобщем. Но как и дельфинийский Аполлон, расстреливающий тучи, Федоров уступит место бранхидскому Аполлону, который ответит иному будущему, более высокому уровню мысли и чувства. Дельфинийский Аполлон в Греции – это тот же бранхидский Аполлон, но переписанный почерком эллинской эстетической культуры. В России красота не у себя дома, и русский дельфинийский Аполлон оказался переписанным уставным почерком Византийской церковности, в которой уже почти затерялся солнечно-музыкальный древний бог. Федоров является величайшим позитивистом, какого только знает мир, о каком Огюст Конт и Литтрэ не могли и догадаться. Он был не только исповедником позитивизма, но его единственным блистательным идеологом.
4. В архиерейских покоях
2 января 1907 года в покоях преосвященного Димитрия, епископа Туркестанского и Ташкентского, собрались приглашенные гости духовного и светского звания из общества города Верного. Накануне ими было получено письмо следующего содержания. «В моей епархии, – писал владыка, – напечатана и скоро выйдет в свет книга под заглавием „Философия Общего Дела“. По мысли автора этой книги, в ней заключается призыв к общему всех делу нашего спасения, к делу Божию, по божественному к нам милосердию через нас же, через людей, совершаемому. По предмету этой книги она не может быть оставлена мною без внимания, а потому я решил познакомиться с нею и обсудить, насколько надежен указываемый путь и обсудить это с сопастырями моими и теми из паствы моей, кои стали мне известны особою ревностью к делу нашего спасения, а также с теми, кои стоят во главе различных учреждений и от коих зависит, следовательно, дать то или другое направление деятельности этих учреждений, направить их к Богу или же от Бога, так как, по мысли автора книги, нет такой деятельности, которая была бы безразлична для дела нашего спасения, которая не могла бы и не должна бы быть религионизирована, не могла бы стать священною». Дальше – обычная пригласительная формула. Таково было циркулярное приглашение, разосланное преосвященным Димитрием. Несомненно, интеллигентный епископ был увлечен философией Федорова, когда писал или подписывал свое пригласительное письмо. В нем звучат прямо мотивы, взятые из федоровского учения. Уже одна фраза о том, что все государственные учреждения должны быть «религионизированы», что божественное милосердие осуществляется через людей и через их солидарную деятельность, кажется экстравагантною в устах православного архиерея. Но увлечение преосвященного обрисовывается еще ярче в словах приветственного обращения, сказанных им при открытии собрания. Слова эти являются настолько интересным документом, что заслуживают быть приведенными целиком. «Апостол Павел, проповедуя Евангелие, прибыл и в Афины. Там он проповедовал Христа и в синагоге иудеям, и на площадях. Некоторые спорили с ним и привели в ареопаг, требуя, чтобы он объяснил им, что это за новое учение, которое он проповедует. Тогда апостол стал проповедовать пред ареопагом Христа, и афиняне слушали его со вниманием, и только когда апостол стал говорить о воскресении, слушавшие сказали ему: об этом послушаем тебя в другое время. Тем не менее проповедь апостола была действенна и если не всех, то некоторых обратила ко Христу. Вот и в нашем городе вышла книга под заглавием „Философия Общего Дела“, поднимающая и освещающая с своеобразной точки зрения многие религиозные вопросы, и я считал невозможным оставить без внимания эту книгу нашего русского мыслителя, мыслившего, как мне кажется, истинно по-христиански. Вас я пригласил, чтобы совместно обсудить предлагаемое книгою, и думаю, что мы будем хуже язычников афинян, если не обратим должного внимания на эту книгу». Таковы точные слова преосвященного, опубликованные в «Семиреченских областных ведомостях» 1907 года (№ 2). Чрезвычайно важно подчеркнуть, что преосвященный считает мысли Федорова истинно христианскими и, следовательно, православными. Затем была прочитана знаменитая статья «Разоружение», первоначально напечатанная Федоровым на страницах «Нового времени».
Через неделю в покоях того же владыки состоялось новое собрание, с чтением других материалов из только что отпечатанной книги Федорова. Эти материалы обнимают целый цикл статей, устанавливающих коренные различия между православием, католицизмом и протестантизмом, дух и смысл православия с точки зрения воскресительских проектов Федорова, соборно-религиозный смысл русского самодержавия. Отметим между прочим, что благодаря пропагандной работе Н. П. Петерсона статьи эти были уже отпечатаны раньше появления книги, именно в 1901 году, как я узнаю об этом из лежащих передо мною номеров газеты «Асхабад» за это время. Но уже в № 7 «Семиреченских областных ведомостей» от 23 января 1907 года, появилось письмо секретаря владыки, священника С. Аполлова, сообщающее, что преосвященный не берет на себя ответственности за высказанные на собрании частные мнения, а также указывает на то, что «долг воскрешения предков» не находится в соответствии с идеею «воскресения мертвых», по учению православной церкви. Из этих поспешных заявлений, публикуемых в газете, явствует с очевидностью, что система Федорова начинает вызывать в церковно-православной среде серьезные сомнения догматического характера. Но первое очарование от нее держалось еще довольно долго. Преосвященный Димитрий, сочиняя свои послания к пастве, наполнял их выражениями из книги Федорова, очевидно в душе продолжая их считать истинно христианскими, кафолически православными. В этом убеждает нас внимательное чтение этих посланий, напечатанных в тех же «Семиреченских областных ведомостях». Гипноз системы, продуманной со всех сторон, изложенной чудесным русским языком и с огненною убедительностью, был чрезвычайно велик. При первом знакомстве с Федоровым и сейчас еще кажется, что имеешь дело с чистейшим православником. Все православное, все древле-лепное, старокнижно-прилепленное к учению и быту, любо ему до бесконечности. Никто лучше Федорова не описывает царских титулов с обозначенными в них символическими идеалами владычества от Памира до московского Успенского Собора, никто на таком крепком, как камень, левкасном грунте не наносил таких красочных иконных изображений, как Федоров. Было от чего закружиться голове не одному семиреченскому архиерею! В сети великого прельстителя попали и более крупные умы современности, как я говорил об этом выше. Федоров и интимен, и универсален. Самая универсальность его безмерно выигрывает от связанности с родной почвой, с преданиями русской истории, с шумом речных перекатов, с звоном московских церквей и молчанием необозримых лесов. Универсальность Данте тоже утвердилась на флорентийском камне, который Федорову заменяли московские переулки.
Однако стоит на минуту рассеяться волшебным чарам, как сразу же становится ясным, что Федоров прежде всего не православный мыслитель. В своих писаниях он тщательно отгораживается от католицизма и протестантизма. Католицизм для него только гнет и иго, не дающие собраться человечеству в мировое всеединство для разрешения одной общей задачи. Самая идея западной церкви об оправдании делом кажется ему индивидуальной и потому противоречащей соборному принципу. Папский авторитет, вознесенный над Вселенскими соборами, вырождается в его глазах в ненавистный образ кафедрального индивидуалиста и безнародного непогрешимца. Протестантизм для Федорова только восстание и рознь, принцип вечной полемики без творческого упокоения. И опять индивидуализм, но уже не только одного дела, но и анализирующего, испытывающего разума, с преступным отвержением дорогого сердцу Федорова предания. Православие же, по мысли Федорова, есть долг воскрешения. «Многовековой спор католицизма и протестантизма, – пишет Федоров, – о спасении верою или делами тотчас же был бы разрешен, если бы под верою стали разуметь осуществление чаемого воскресения мертвых, то есть единое дело воскрешенья». Федоров развивает свою мысль шире и дальше, в рационалистических аспектах и планах, незаметно для себя отступая от неподвижного камня кафоличности и ортодоксальности, от столпа и утверждения истины. «Православие в смысле долга воскрешенья налагает на всех один общий труд, в котором соединяется и знание и дело». «Отрицательно православие есть печалование об иге и гнете католическом, а вместе и о протестантском восстании и розни. Положительно же православие есть храм собирания, воссоединения отделившихся. Точно так же отрицательно православие есть печалование о всех умерших и умирающих, а положительно оно есть долг воскрешенья». Самый культ предков, который проповедывается на всех страницах федоровской «Философии Общего Дела», является только «первобытным выражением долга воскрешенья» и потому он так характерен для православия, которое одно из всех религий мира творит самым своим укладом реальное восстановление древнего духа. Хотя славянофилы и уловили одну из характернейших черт православия – его соборность, но прямой задачей соборности они себе не представляли. «В долге воскрешенья, – читаем мы у Федорова, – заключается и сущность православия, как это признавал Достоевский и догадывался, надо полагать, один лишь из славянофилов – Языков».
Прежде всего, как ни отгораживался Федоров от римской церкви, он сам вступил на католический путь. Он нападает на католицизм, предпочитая ему православие. В православии дух – культура, просвещение, художественное творчество – исходит только от Отца, а по терминологии Федорова, от Отца угасших поколений. В католической же теодицее дух исходит от Отца и Сына (filioque). Отсюда прибавочная ценность в католической догматике, даже новые догматы, к которым не присоединяется православие, оставшееся при семи Вселенских соборах, как армяно-грегориане при четырех. Отсюда бездейственность, косность и консервативность православия, поскольку его не оживляют протестантские веяния из Духовных Академий и разных сект. В этом единственном пункте Влад. Соловьев, исповедующий соединение церквей, поднимается над ученьем Федорова, будучи бесконечно ниже его во всем остальном. Filioque – это реальный элемент в метафизическом богословствовании католицизма. Культурный дух есть создание двух стихий – Отца и Сына, двух начал – ирреального и реального, действующих вместе, в органическом переплетении, которое сказывается во всем и повсюду. Бенедиктинцы основывают ученые монастыри, спасают редкие рукописи, издают миниатюры. Божьи Собаки – доминиканцы – борются в лице Савонаролы за свободу Флоренции, пишут политические конституции и хартии вольностей. Иезуиты сооружают астрономические обсерватории в Китае и просветительные учреждения в Парагвае. Миссионерская деятельность католиков необозрима. Только они одни, в сущности, исполняли во всем объеме повеление Священного Писания: «Шедше научите все народы». Православие же в Серафиме Саровском пребывает в каком-то сладостно-упокоительном погружении в мысли Отца, а не в дело Сына.
Но вот в лоне этой экстатически бездеятельной церкви вдруг раздается проповедь грандиозного делания, притом не национального только, но всемирно-исторического. Сын человеческий должен воскресить отцов, не полагаясь на то, что воскресенье мертвых есть дело Отца небесного. Здесь явно католический путь. Реальный сын тут физически смешивается с метафизическим отцом. Они делают одно и то же дело и одухотворены одним и тем же принципом. Но, вступив на католический путь в пункте filioque, Федоров тут же покидает его, становясь чистым позитивистом, свободным от всякой мистики. Задача ставится трудовая и совершенно реальная. Дух для разрешения этой задачи требуется только реальный. Методы воскрешения, приуготовленные регуляцией сил природы, исключительно экспериментальные, лабораторно-механические и научные. Можно удивляться, как в сети такого очарования попало хотя бы на минуту и мистическое православие, с его не-плотскими воздыханиями о грехах, святым пренебрежением к миру, с его елейно-кадильным горением к небу, подателю и источнику всех благ.
Подведя мину под католицизм и протестантизм, Федоров допустил этой мине взорваться у борта собственного корабля. Исчезла всякая вера – остался трудовой путь материализма.
5. Ересиарх
Сейчас после смерти Николая Федоровича Федорова между двумя его главными учениками разгорелся довольно пламенный спор на существеннейшую тему его философии. У В. А. Кожевникова, посвятившего Федорову целую книгу, стали возникать сомнения относительно правильности и церковности нового учения. Н. П. Петерсон же, допуская частичные отступления Федорова от духа церкви, настаивал на том, что система его явится, во всяком случае, благотворным элементом в деле будущего православия, подлежащего естественной эволюции. Спор этот сам по себе настолько существенен и принципиален, что я посвящаю ему особую дополнительную главу. К сожалению, я не располагаю в настоящую минуту всеми необходимыми материалами. Третий том «Философии Общего Дела», за смертью Н. П. Петерсона, задержался изданием, но именно в этом томе впервые будет опубликована вся переписка Федорова не только с друзьями и единомышленниками, но и с различными посторонними лицами, приходившими в соприкосновение с волновавшими огромный круг людей идеями. В моем распоряжении имеются в рукописи все же два больших письма, отчетливо обрисовывающих позиции главных распространителей учения Федорова.
Прежде всего Петерсон устанавливает отношение Н. Ф. Федорова к центральному пункту кафолического вероучения – к вопросу о благодати. В книгах Федорова, утверждают противники, несомненно гениальных и несомненно завлекательных по своим благородным нахождениям, слишком «мало и бледно» говорится о благодатных эманациях Отца в мировом процессе. Остановлюсь здесь на минуту, еще не давая возражений Петерсона, чтобы напомнить вкратце сущность учения о благодати. Что такое благодать? В понятии церкви – это дар, и как дар она может испрашиваться, а отнюдь не зарабатываться. Сама вера есть благодать. Никаким изучением книг, никакой добродетельной жизнью она не может быть заслужена и добыта, если не будет ниспослана человеку особым актом божественного изволения. Такова строго церковная формулировка природы благодати как в православии, так и в католичестве, где только магический оттенок ее чувствуется живее. Такой точки зрения в системе Федорова, конечно, нет и быть не может. Петерсон всячески подчеркивает автономность человека в процессе строительства того спасения, о котором идет речь, при этом он совершенно уверен, что передает подлинные мысли своего учителя. Но, будучи автономным, человек в то же время является орудием Божества, орудием Отца, соучаствующего в строительстве всеобщего спасения. Петерсону кажется, что этого совершенно достаточно для сохранения в мире благодати. Даже явление самого Христа, передатчика благодати от Отца к человечеству, не лишает никого самостоятельности, не парализует ничьей самодеятельности. Вот точка зрения Федорова на благодать. Как уже сказано, в самих книгах Федорова мы подробных изложений этого вопроса не находим. Но Петерсон ссылается на свои личные разговоры с Федоровым, которых ни проверить, ни достаточно точно оценить мы не можем. По его словам, Федоров верил во все догматы христианской церкви и в благодатно-мистическое руководительство Бога на земле. «Кроме того, Николай Федорович не раз мне говорил, что мы можем не бояться такой катастрофы, как столкновение земли с каким-либо другим подобным телом, катастрофы, которая уничтожила бы землю и род разумных существ, потому что до этого не допустит Создатель мира, создавший мир не для гибели, а для того, чтобы он достиг совершенства. Выражена ли эта мысль в писаниях Николая Федоровича, я не знаю, но твердо помню эти слова его». Это более чем наивное место вызывает большие сомнения. Мысль прямо детская и недостойная сколько-нибудь глубокого ума. Странно, что Петерсон, своим пером написавший большую часть книг Федорова, не припомнит тех мест, которые подтвердили бы такое многозначительное суждение. Н. Ф. Федоров умел мыслить космически. При всем своем антропоцентризме философия его облетала мировые пространства, населяя людьми, воскрешенными предками, далекие планеты. Но здесь к наивному антропоцентризму присоединяется уже совершенно элементарный геоцентризм. Пылинка, земля объявляется предметом особой попечительной благодати творца вселенной и всех миров, долженствующего милостиво охранять эту пылинку от крушения на небесных путях. Ее эвентуальная гибель квалифицируется как катастрофа мироздания, в безумном предположении, что божественная мысль соизмерима с мыслью человека! Таких абсурдов в печатных трудах Федорова я не встречал. Решаюсь думать, что Петерсон в заботах о спасении системы своего учителя перед церковным ареопагом России приписал Федорову свои собственные недостаточно взвешенные богословские домыслы. Трансцендентного воскресенья в системе Федорова нет. Имеется только воскрешенье имманентное, трудовое, вооруженное всеми средствами научного арсенала.

