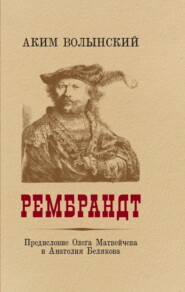
Полная версия:
Рембрандт
Таков именно и Симеон-богоприимец на рассматриваемой нами картине Рембрандта. Голова у него слегка наклонена внутренним потрясением, никогда не покидающим еврея. Потрясение это от надземного голоса, признанного и почти сентиментально любимого, а не от каких-нибудь тревог и несчастий. В потрясении этом есть неизбывная, целомудренная черта: еврей не называет бога по его имени, не разоблачает его перед людьми, избегает всякой выставки, чреватой кощунственными прикосновениями. Он связан с богом, как супруга, как невеста, и связь эта прикрыта дорогим атласным одеялом из всего окружающего. Нежным и осторожным склонением головы еврей сразу же создает вокруг себя атмосферу доверия и внимания. Так именно склонил свою голову Симеон-богоприимец. Длинная белая борода его, не расчесанная гребнем, но разглаженная разве лишь движением задумчивой руки, это не искусственный парк завитой и выхоленной бороды Леонардо да Винчи, а все тот же шумиро-аккадийский лес древних времен, отдаленнейших эпох Арам-Нахарэим. Мы разглядываем на картине профильную фигуру старца и улавливаем апперцептивно открытый левый глаз его. Апперцептивной иглой можно проколоть всего человека – такой иглы нет во взгляде Симеона. Но ею же можно приоткрыть чужую душу для признаний, и это именно и делает взгляд Симеона. Этому человеку можно не только на официальном духу, но и в обычной обстановке сказать всю правду, всё на свете, ничего не тая, ничего не скрывая. Спина его полукруглая объемлет ребенка своим светлым сиянием, как нимбом. Венца, в ипокритном стиле итальянского искусства, решительно никакого. Никаких концентрических кругов христианской аллегорики. Эта заботливая спина, молодая и старая в одно и то же время, с преизбытком заменяет пустой воздух схематической иконографии. Тут родная плоть простирается над головкою и дышит на неё теплом, защитой и приветом. И держит старец ребенка тоже легко и мягко, без насилия и даже усилия. Всё так естественно и просто, как это могло бы быть только там, где уже не действуют законы земного тяготения, где-то далекодалеко, в надзвездных каких-нибудь пространствах, в условиях иных миров. А между тем все это представлено Рембрандтом именно по-еврейски и по-иудейски – наиреальнейшими бытовыми очертаниями. Даже сомкнутые колени Симеона, даже иератический плащ, лежащий на нём, всё отдает израильским колоритом, пластикой вековечного Иуды и Беньямина. Перед ним на коленях, с молитвенно-сложенными руками, мать мадонна. Что-то в её лице и наряде напоминает чудесных Мадонн Сассоферато, хотя с определенностью установить тут связь двух художников, при посредстве ита-льянофильствующего Ластмана, нет никакой возможности. Оба художника были почти однолетками. Во всяком случае, в фигуре и позе Марии итальянское влияние ощущается довольно заметно. Разве только руки сложены чуть-чуть по еврейскому, с перешептывающимися между собою пальцами. Лицо осенено глубокою тенью от покрывала, спускающегося с головы на плечи. Рядом фигура Иосифа – вся темная, открытою головою, со сложенными на груди молитвенно руками.
Вершину треугольника образует фигура св. Анны. Это уже настоящая еврейка, с лицом матери Рембрандта. По лицу разлита чудесная экспрессия. Весь будущий Рембрандт в этом лице, которое мы будем изучать отдельно и подробно, по всем его деталям. Оно выражает на картине удивление, смешанное с каким-то почтительным гневом, сквозящем в полуоткрытых устах. Руки её разбросаны по сторонам с открытыми к зрителю ладонями. Эти раскрытые ладони, несомненно, написаны по итальянскому образцу. Весь жест св. Анны разительно напоминает жест апостола Андрея в «Тайной Вечере» Леонардо да Винчи. Да и смысл жеста один и тот же – и тут, и там: удивление, смешанное с гневом. Пророчица что-то услышала из сказанного Симеоном-богоприимцем и по душе её прокатилась волна негодующего отрицания. От удивления она развела руками черезчур широким жестом, не совсем свойственным еврейской женщине. Симеон задает Марии вопрос, обычный в таких случаях, при принятии новорожденного младенца: подлинно ли он от сего мужа? Этому и удивляется св. Анна, проникнутая бесконечною верою в свою дочь. Но отсюда ясно, что Рембрандт, окончательно отступая от христианской легенды, рисует нам бытовую еврейскую сцену каждого дня. От церковной фантастики не осталось ни следа. О супружестве со святым духом здесь так же мало речи, как и о белом слоне Будды в легенде индийской. Всё сведено к быту, в реальности жизни, окружающей художника. И только опять символическая светотень разлита по всей картине, подчеркнуто выражая исследование двойственной философии христианства. Вообще говоря, Рембрандт широко использует светотень во всех решительно будущих своих картинах, заменяя ею византийско-христианский нимб. Нет нигде у Рембрандта условно-традиционного нимба, но светотень его – тот же нимб.
Chiaro-Scuro[46]
Среди произведений Рембрандта, относящихся к 1630 году, имеется изображение св. Иеронима, оригинал которого утрачен, но сохранилась старая его копия. Это нечто значительное в плоскости тех идей, которые мы сейчас рассматриваем. И невозможно представить себе более яркой и поразительной иллюстрации – использования светотени для присвоения картине условно христианского ореола. Перед нами нимб, охвативший лик того святого, утрированный до невозможности. Этот нимб большим и замкнутым световым пространством располагается вокруг тела святого, следуя его общим контурам. Бывает, что по тем или иным противоречащим мотивам человек моментами впадает в некоторое затмение художественной меры и допускает почти карикатурное преувеличение принятой им манеры говорить, писать или изображать. Такая утрировка особенно чувствительна в рассматриваемой картине. Разрешу себе [в] этом месте маленькое интимное признание, тешащее моё исследовательское чувство. Значение светописи у Рембрандта было уже для меня совершенно ясно задолго до того, как я набрел на репродукцию «св. Иеронима». Сначала фотографический снимок с картины произвел на меня странное впечатление, и я подумал, что имею здесь дело с одним из многочисленных недостоверных произведений Рембрандта. Но когда я узнал, что эта картина в оригинале принадлежит действительно его кисти, я почувствовал некоторое удовлетворение: догадки мои оправдались.
Что, в самом деле, представляет собою этот большой, широкий и белый, почти повторяющий внешние очертания фигуры нимб? Иероним изображен опустившимся в коленопреклоненной позе перед стеной, увитой растениями, читающим священную книгу. Книга грубо и наивно снабжена двумя аллегорическими атрибутами святости христианского отшельника: крестом и четками. Всё во мраке. Сама фигура Иеронима тоже чернильно черна, и только громадное световое пятно, захватившее видимую часть льва, наполняет центральное место картины. Не видно и не понятно, откуда мог пролиться сюда такой фантастический свет, который, исходи он от любого фокуса, не принял бы столько послушных очертаний. Никакой театральный режиссер не мог бы осуществить его никакою фотомеханикою на сцене. Ясно, что по мысли Рембрандта свет этот излучается, льется потоками из самого Иеронима, оставляя его туловище странным образом неозаренным. Свет призван как бы к какой-то педагогической роли. Он должен существовать для зрителя, ничем не изменяя общего оптического миропорядка. Лев освещен. Но лев только символ, та же педагогика. Освещен и крест – по той же причине. Впрочем, некоторая доля освещения задевает и святого. Так озарёнными представляются нам пятки Иеронима, как если бы они и были отправными пунктами световой эманации. Отметим, что эти пятки представлены замечательно, и мы ещё будем иметь случай вернуться в дальнейшем изложении к вопросам, ими возбуждаемым. Что касается самой фигуры Иеронима, то надо сказать, что Рембрандт сумел оттенить, незаметно и тонко, что перед нами человек иудейского происхождения. Наклон головы лишен нежной сладости и неустойчивости, свойственных наклону еврейскому. Спина суха и мускульно крепка. Едва видное сбоку лицо, физически вполне возмужалое, не обнаруживает никаких следов умственной муки. И тем не менее это святой в христианском смысле слова, окруженный пышным ореолом.
Некоторое отдаленное подобие Иерониму представляет изображение св. Франциска, имеющееся в одной частной английской коллекции, относящееся к 1637 году. Поза приблизительно такая же, как и у Иеронима. Святой стоит коленопреклоненный, с открытыми к зрителю полуосвещенными пятнами, смотря в книгу и держа между руками распятие. Освещена голова, книга, пятки, но уже и часть неодушевленной природы затрагивается откуда-то идущим тем же светом, как, например, солома, бревно и череп, лежащее около Франциска. Тут уже дана, через семь лет после Иеронима, некоторая уступка реализму, без преувеличенного страха представиться зрителю недостаточно пиэтетно настроенным в христианском стиле художником. У Иеронима мы находим только расширенный до невозможности церковно-ипокритный нимб, или такую форму мистики, которая превзошла фантазию всяких Беме и Эккартов. В словах литературно-поэтических мистиков мы имеем дело с задушевным лиризмом и чисто философскими наваждениями, действующими на всякий живую и чуткую душу. По христианской канве вышиты цветочки, которые ещё расцветут и раскроются в позднейшей литературе Новалиса и других немецких романтиков. Такая мистика, плодотворная в своих основах, сама по себе углубила изучение природы и явилась толковательницей естества в терминах духа. Но что собою в этом отношении представляет светотень «Иеронима». И даже «св. Франциска»? Она не углубляет христианского миросозерцания, не выявляет самих фигур в разительном и поучительном рельефе, кажется неестественным водоемом света среди окружающего черного мрака – вообще она, как и всё условное, не плодоносна в познавательном смысле слова, как не может быть плодотворна никакая аллегорика по сравнению с глубинно жизненными символами. Тут именно не символы, которые делаются из конкретностей и реальности, а лишь надуманная конфессиональная выставка миросозерцания, недостаточно крепкого в душе самого художника. Художник провел это миросозерцание через все свои полотна и через всю свою графику с невероятным упорством. Светотень является кричащей темой всего творчества Рембрандта и от его имени неотделима, но с внутренним голосом естества она всё-таки бороться победоносно не могла. Надо всем простерт христианский покров из теней и светов, но христианского впечатления всё-таки не получается.
Иероним представлен ещё в сангвинном рисунке, находящемся в Лувре. Те же черты, что и в красочном оригинале: не иудейский наклон головы, сухая спина, жесткие открытые пятки, без всякой одухотворенности, скрещенные кисти рук – без трепетной благоговейности в пальцах. По-видимому, это рисунок именно к Иерониму, а не св. Франциску, судя по общему ритму всех линий фигуры. Да и существенно детали иные, чем у Франциска. Перенесется рисунок на холст, Рембрандт изменил лишь направление коленопреклоненного святого и окружил его потоком условного света. Художнический инстинкт не обманул его в изображении человека семитической расы, с другим, чем у евреев, иератическим пламенем в сердце. Именно сухость этого рисунка, выдержанного в реальных тонах, без каких- либо оттенков сладостной экзальтации, выдает какую-то личную психологию самого Рембрандта. Как только он выходит из мира тем еврейских, так сейчас же покидает его та благословенная умиленность, которую мы в нём так ценим и любим. Всё каменеет и мертвеет, в лучшем случае итальянизируется. Не то выражение лица, глаз, головы, спины. Иная колющая и слегка раздражающая апперцепция. Иные контрпостные повороты и движения. А светотень, прошедшая в творчество Рембрандта не без крупного воздействия Эльсгеймера, тоже подпавшего под итальянский гипноз, только мутит и холодит восприятие зрителя.
Chiaro-Scuro явилась в искусстве двух стран, в Нидерландах и Италии, великим вкладом, которым мы обязаны гению Антонетто да Мессина. С момента деятельности этого художника он начинает утверждаться в живописи, расцветая чудесным цветом у Ван-Эйка и расширяясь всё более и более у художников нидерландской итальянофильской эпохи в XVI веке и нидерландского ренессанса XVII века. В Италии Chiaro-Scuro имеет своих блистательных представителей в искусстве Леонардо да Винчи, Корреджно, Караваджио, на юге, среди постоянной солнечной игры теней и света в их ярких аффектах. Чего стоит замечательная светотень «Мадонны в скалах», особенно в её луврской редакции, или классическая светотень, поющая и звучно романская, в «Поклонении пастухов» у Корреджно или в его же «Мадонне Цингарелле», иные, находящиеся в Неаполитанском музее. Но совершенного триумфа Chiaro-Scuro достигает только в Голландии и именно у Рембрандта, с именем которого оно связывается на все времена. Несмотря на то, что у некоторых голландских пейзажистов, как Рюмсдаль, Кейп, Гойен, светотень дана в гениальных трактовках и производит захватывающее впечатление. Chiaro-Scuro Рембрандта все же остается несравненным. Тем не менее именно у Рембрандта оно и стало объектом величайшего в истории живописи злоупотребления, послужив орудием тенденциозного утверждения двойственной философии христианства. Он залил светотенью все темы и сюжеты Ветхого и Нового Завета. Всё плещется в потоках неожиданного сияния среди окружающей тьмы. Происходит какое-то неестественное водосвятие или вернее сказать – светосвятие великолепных самих по себе композиций. Но цели своей Рембрандт однако не достиг.
Католическая церковь отнеслась подозрительно к его иллюстрациям и только в позднейшее время некоторые северные протестанты стали собирать изображения Рембрандта для популярного сборника библейских картинок. Что же касается евреев, то никаких попыток в этом направлении мы у них до сих пор не находим. Всё у Рембрандта евреизировано, но иудейского света мы здесь всё-таки не встречаем.
11 мая 1924 года
Попробуем взглянуть на судьбы еврейского народа с наивно-элементарной точки зрения левита-иеговиста. Конечно, за последнее столетие библейская наука и экзегетика выросли необъятно. Сейчас это целый мир идей, генеалогий, расовых характеристик и филологических построений. Иной раввин с интересом перелистает ту или другую книгу новой науки, но основные традиционные точки зрения пребывают в его душе незатронутыми. Так и сказал мне недавно один духовный раввин, выслушав длинный мой рассказ о Велльгаузене. «Читайте Библию, как вы читаете Гомера, – только тогда вы и поймете в ней то, что в ней есть существенного». Генезис генезисом, но если руководиться только научными реконструкциями, Библия потеряет цвет и свет, и из цельного создания народного гения превратится в рассыпанную храмину. В этом отношении первоначальные кодификаторы были правее позднейших исследователей. Для меня же лично, озабоченного установлением народно-психологических классификаций, важно на мгновение остановиться на точке зрения моего раввина.
На Сионе духовном
Свет, зажженый Моисеем на Сионе, распространялся по миру медленным темпом. В Синайском сиянии он бил, как солнце. Это было первое солнце духа, солнце справедливости и гуманизма, которое блеснуло в глаза тогда ещё молодому народу. Если присмотреться, в самом деле, к скрижалям ветхого завета, сквозь облекающий их мифологический туман, мы различаем в них вечные какие-то письмена, которые не устареют никогда. Законодательство Моисея для раввина предвечно и вечно по самому своему содержанию, и до сих пор ещё человечество читает первые пять книг Библии с неослабевающим изумлением. Всё равно, всё чисто, всё светозарно. Всё светится с высокой горы. Что бы ни произошло в долинах, свет синайский остается путеводным навсегда. Он прорезывает воздух истории остриями своих лучей, не рождая в нём никаких теней. Тени появляются только в его соприкосновении с реальными предметами земли, с их плотской материальностью, не пропускающею через себя световых потоков. Ударившись в землю, он озаряет только те её части, которые оказались не замеченными. Таков свет Синая, отразившийся в Моисеевом законодательстве. Если бы мир бил бесплотен, если бы он не таил в своих недрах источников тьмы и хаоса. Тогда Моисей одним своим словом с Синайской горы явился бы создателем какого-то нового, невиданного до него космоса, и бесконечное сияние света разлилось бы раз и навсегда по всем векам и по всем пространствам. Так мыслит раввин-иеговист. Сразу же устранилась бы ночь и настал он – непрерывный, немеркнущий и неиссякающий день.
Но такое целостное воплощение цвета на землю есть-только мечта. Преломление его в условиях реального мира, в исторической действительности, совершается не только медленно, но и в мучительной борьбе с силами хаоса и мрака. Уже в тот самый момент, когда зажигался светильник Синая, еврейская толпа выходцев из Египта плясала перед идолом материализма. Конечно, относящийся рассказ легендарен, как и вообще легендарна вся история Моисея, писанная не его содержательным пером, а пером кодификаторов эпических преданий, окружающих первые шаги народа по историческому пути. Но в легендах больше правды, чем в иных подлинных документах достоверной действительности. Как это ни покажется парадоксальным, легенда действительнее самой действительности. Написанное о золотом тельце показывает с несомненностью одно, что народ еврейский, прошедший в течение нескольких веков кушито-хамитскую культуру египтян, не был ещё готов к восприятию Моисеева закона. В нём бурлили разбуженные натуралистические страсти, кипела кровь природных влечений, нерегулируемая ещё контролем разума. Но слово Моисея было сказано, и руководство на все времена преподано. Была намечена идея вечного дня.
В ханаанской земле завоевания, среди широко расплескавшейся] хеттейско-аморейской культуры, слово Моисея, входя в процесс истории, звучало призывною трубой и требовало борьбы с местными религиозными верованиями, с их жертвенными ритуалами на габимах. Габима сделалась тою пропастью, которую надлежало взять. В своих непобежденных ещё натуралистических стремлениях народ еврейский то и дело смешивался с местными этническими элементами и, изменяя преподанным ему нормам права и справедливости, впадал в кровную органическую связь с хеттеями и амореями. Но труба продолжала звучать и делала своё направительное дело. Иногда раздавались и новые замечательные слова наподобие слов Моисея. Говорили жрецы, левиты и пророки, направляя челн иудейский по верному руслу. Так или иначе, но эта эпоха в жизни еврейского народа может быть названа эпохою борьбы с габимами. Свет лился с высоты и, преломляясь в фактах слагающегося быта, озарял верхушки жизни, оставляя всё прочее в колеблющихся и трепетных потемках. Вечный день ещё не наступал.
Храм Соломона на Сионе является третьим и почти законченным этапом в истории автономного народа. Был литургический парад, были жертвоприношения и всесожжения, была процедура усвоения вечной мысли законодателя, с теми необходимыми ограничениями, которые создаются реальным укладом жизни. С течением веков кое-что обросло плотью и становится рутинным. Создавалась полумертвая инерция в богослужебном молитвословии, может быть, уже не шевелившем сердца, особенно в тот момент, когда меч Веспасиана уже навис над святым городом. Об этом свидетельствует шум сектантско-гражданской борьбы, разлившийся по всем градам и весям Палестины перед великою катастрофою 70-го года. Храм Соломона – великая вещь в истории Израиля. В нём был свет, было пламя, было вдохновение, достигавшее замечательных высот. Все же силы эти не были адэкватны Синаю. Именно тут, на Сионе, в подобиях материального и временного, они были заключены как бы в коробку ковчега и сведены к условно-иератическим нормам. Элогим со своих высот следил за происходившим, принимал жертвы и слушал возносившуюся к нему молитву, но самолично не говорил к народу, как говорил он некогда с Моисеем. Голос его приносился иногда в речах тех или других пророков. Но в общем он молчал, и жизнь текла в берегах неотвратимой судьбы. Свет был, но была и ночь. День был короток. Синай иногда просто померкал в сознании людей. Этот третий период в истории еврейского народа можно назвать периодом храма Соломона.
Но храм пал – наступает последний, четвертый период, возвращаемый рабби Иоханааном бен Заккеем. Это период синагоги и книги, ещё не изжитый историей, период всей диаспоры вплоть до наших дней. Нет самостоятельного государства. Народ рассеян по лику земли. Нет больше никаких жертвенных всесожжений, восходящих к небу в облаках душистого фимиама. Но слово Моисея, как никогда раньше, изученное, развитое, разъясненное и дополненное, звучит сердцем с новою силою. Вот когда впервые оказались поверженными все габимы всего мира. Вот когда культ материализма испытал жесточайшие удары, от которых он не поднимется никогда. На смену старой розни Ефрема и Беньямина появляется святая солидарность, обнимающая все разорванные части живущего в изгнании еврейского народа. Рассыпанная каменная храмина Иерусалима вдруг, неслыханным чудом каким-то, по слову рабби Иоханана, чудом острого воздействия на умы и сердца, восстановлена в ином нетленном и всё же реальном виде. И всё наглядно. Сам духовный Сион, сменивший старый материальный и минутный Сион, видим, созерцаем и осязаем везде, в каждом бесгамидрате, на каждом шагу. Синагога оказалась куда величественнее пышного храма Соломона. Весь Синайский свет тут налицо. Вся легенда Моисея стала плотью и кровью новой истории. Наступает царство вечного дня и вечной молитвы. Эту наступившую эпоху, длящуюся и ныне, можно назвать синагогальною или эпохою рабби Иоханана бен Заккая.
Молитвенный дом открыт во всякое время дня и ночи. Ночи он и не знает. Ушли живые, пришли мертвые. Так же как и живые, мертвые творят всю ту же молитву в очередь с живыми. А если в неурочный час заглянет в синагогу живой, то он предварительно заботливо постучит в дверь, не считая дом пустым. Как это великолепно. И как общение с почившими здесь осуществляется полнее, живее и лучше, чем в дуалистической христианской доктрине представительства святых. Все вместе. Все на молитве, – и вся жизнь в молитве. Сон, еда, дело и размышление – всё в пеленах вечного дня и вечного света. Вот он свет без теней. Chiaro без Scuro, истинно иудейское монистическое понимание действительности и правды, в каких бы формах они не представали нашим глазам.
Если с таких высот подойти к творчеству Рембрандта, то пришлось бы сказать, что разве лишь для эпохи габимы и эпохи материального Сиона применима с большими ограничениями его изобразительная светотень. Как только художник, знавший еврейство, как ни один другой художник в мире, касается своею кистью тем высшего порядка, светотень его становится искусственною, а временами и аффективною. Черты моисеева законодательства требуют для своего изображения полностного света во все стороны. Всё, что отдает преданием рабби Иоханана, все эти бабушки и старцы, склоненные над книгами, все эти бесконечные раввины, мыслители и философы, – всё это тоже тяготеет к полному и всестороннему освещению. Когда Леонардо да Винчи, в своём «Trattato della Pittura»[47], указал на основные принципы светотени и перспективных окружений, как на зиждительные элементы живописи, он, конечно, имел в виду, скорее внешние эффекты творческого процесса, чем внутреннее существо дела. Для передачи этого внутреннего существа светотень должна быть использована с необыкновенною экономией, особенно если речь идет о картинах с тем или иным библейским содержанием, о сюжетах, схваченных из той или другой полосы еврейской истории.
12 мая 1924 года
Отец
Мы имеем портрет отца Рембрандта в масляных красках и в нескольких офортах, собранных вместе Ровинским. Если присмотреться к чертам этого лица, то можно будет восстановить с большою правдоподобностью внутренний облик, за ним скрывающийся. Отец Рембрандта родился в 1567 году и умер в 1633 году. Мы имеем изображение его, относящееся к 1629 году. Ему было, значит, в то время за шестьдесят лет. Перед нами старец, представленный без бороды, с широким мускулистым лицом, изборожденным мягкими тонкими морщинами. Сетка этих морщин проходит по всему лицу. Лоб высокий, открытый, без следа волос на темени. Во всём лице ощущается какая-то тяжесть. Но под этою тяжестью прочной и крепкой лепки чувствуется большой фонд душевной мягкости и та интеллектуальность, которая отделяет иногда простого еврейского мельника какою-то аристократическою гранью от вульгарного безинтеллектного нидерландского фермера из галлереи Остаде, Теньера, Броуера и других. Это весьма умный человек, с огромным опытом, много живший и много передумавший. При массивности общего впечатления в чертах лица замечается здоровая утонченность, всегда придаваемая общей экспрессии вдумчивой и деятельною мыслью. Есть люди, которые думают широко, бесформенными темами и схемами, стихийными элементами своего сознания. От такого суммарного процесса мышления по душе их в данных очертаниях проплывают настроения общерелигиозного и общефилософского характера. Не таков отец Рембрандта в рассматриваемом изображении из частной парижской коллекции Пауля Миллера. Он устремил глаз своей изнутри в какой-то определенный предмет и апперцептирует его тихо и проникновенно. В сжатых губах, дающих приятно-спокойную линию, заключен еле уловимый намек на улыбку. Подбородок крупный, прекрасно моделированный, с едва намеченным в нижней его части, около шеи, что живою припухлостью без всякой обрюзглости. Скула выдающаяся, образующая впадинную тень на лицо. Глаза смотрят вниз спокойно и тихо. Легким мазком художник наметил редкие брови.



