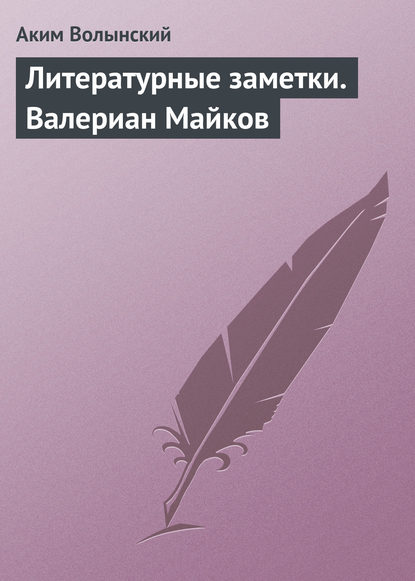 Полная версия
Полная версияЛитературные заметки. Валериан Майков
Главные мысли Майкова об искусстве собрались в статье его о Кольцове. Обширная и растянутая, статья эта трактует о многих предметах, но её главное содержание может быть разбито на две части. В первой говорится о тайне художественного творчества, во второй – о народности в жизни и литературе. После длинных рассуждений о классицизме и романтизме, Майков, установив свое отношение к критике Белинского, которую он обвиняет в отсутствии определенных, неизменных научных доказательств, в бессознательном стремлении к диктаторству, переходит к чисто теоретическим вопросам. Он проводит твердое разграничение между явлениями, входящими в область искусства и явлениями, относящимися к научной сфере. Никоим образом не следует смешивать вещей занимательных с тем, что волнует наше чувство. Все, лежащее вне нас, не сродное с нами по природе, все, наделенное собственною, еще не ясною для нас индивидуальностью – все это возбуждает любознательность, мучит и манит нас в даль, пока таинственное не становится ясным, отдаленное близким и понятным. В этой области действует наука, постоянно разъясняя то, что подстрекнуло любопытство, возбудило интерес ума, в известном направлении. Вот где не может проявиться никакое поэтическое творчество, требующее иного материала, иных сил, иных горизонтов. Искусство имеет дело с тем, что симпатично, сродно с нашими человеческими интересами, тождественно с нами по существу. Мы умеем сочувствовать только тому, в чем нашли самих себя. Мы восторгаемся природою, потому что ощущаем ее внутри себя. Нет на свете ни одного неизящного, непленительного предмета, если только художник, изображающий его, обладает достаточным, талантом, чтобы отделить в нем «безразличное от симпатического», чтобы не смешать «симпатического с занимательным». В искусстве все дело не в художественности форм, которые никогда не могут быть лучше живых форм действительности, в каких она движется перед нашими глазами, а в поэтической мысли, радикально отличной от научно-дидактической мысли. Всякая художественная идея никогда не выливается в форму сухого, рассудочного силлогизма, не заключает в себе никакого доказательства и влияет на нас своими общечеловеческими, симпатическими свойствами. Художественная идея рождается в форме живой любви или живого отвращения от предмета изображения, У великих талантов каждая поэтическая черта одушевлена человеческим чувством. Истинный художник умеет открывать присутствие человеческого интереса в том мире явлений, которым занято его воображение. Мы не можем проследит, как возникает и как затем выражается художественная мысль в определенной форме, но для научной эстетики достаточно, что она в праве установить следующую несомненную истину: «тайна творчества состоит в способности верно изображать действительность с её симпатической стороны, иными словами: художественное творчество есть пересоздание действительности, совершаемое не изменением её форм, а возведением их в мир человеческих интересов, в поэзию»[7].
Вот в общих словах главные черты новой эстетической теории Майкова. Искусство не имеет дела с тем, что занимательно, тайна его воздействия на людей заключается в том, что оно воспроизводит действительность с её симпатической стороны, что оно гуманизирует ее, переводит ее в сферу человеческих интересов. В искусстве не должно быть никакой дидактики, потому что сухое логическое рассуждение убивает все виды чистой поэзии, даже сатиру, в которой привыкли искать назидания и поучения. Современная эстетика раз навсегда отказалась «от титла руководительницы» художественных талантов, сфера её влияния ограничивается исключительно «опытным исследованием обстоятельств, сопровождающих зачатие, развитие и выражение художественной мысли»[8]. О самой художественной идее, в отличие её от идеи научно-дидактической, Майков высказывается с некоторой сбивчивостью, при всей решительности отдельных фраз. На одной и той же странице говорится, что всякая поэтическая идея рождается в форме живой любви или отвращения от предмета изображения и тут же, через несколько строк, прибавляется новый оттенок к её определению. Художественная мысль, говорит Майков, есть ничто иное, как чувство тождества, чувство общения какой бы то ни было действительности с человеком. Очевидно, Майков не делает никакого различия между поэтической идеей и поэтическим чувством. Если прибавить к этим определениям задачи и цели искусства соображения Майкова о том, что художественное творчество не допускает никакой копировки внешнего мира, мы будем иметь все его эстетическое учение, в полном объеме его главных и второстепенных положений. Борьба с дидактикой и открытие симпатических сил искусства – вот те новые принципы, которыми Майков хотел, по-видимому, оказать решительное научное сопротивление начавшемуся в журналистике брожению утилитарных понятий. Оградив искусство от чуждых ему элементов. Майков в то же время указывает ему высокую задачу в области живых человеческих интересов. Однако, если внимательно присмотреться к этому учению, легко заметить в нем недостатки философского характера, имеющие немаловажное значение. Во-первых, самое деление предметов на занимательные и симпатические, играющее в теории Майкова первенствующую роль, надо признать совершенно условным. Как мы уже говорили, все, что входит в сознание человека, что интересует его в том или другом отношении, не может не произвести известного впечатления на чувство. В каждом акте познания мир открывается нам с «симпатической» стороны, т. е. со стороны, задевающей и волнующей нашу душу. Научное исследование известных явлений так же овладевает нашими чувствами, как и художественное воспроизведение природы, тех или других событий в жизни людей. Когда мы говорим о теле, замечает Жуковский в письме своем к Гоголю, мы можем определенно означать каждую отдельную его часть. Но когда мы говорим: ум, воля, мы разными именами означаем одно и то же – всю душу, неразделимо действующую в каждом частном случае. Но если-бы искусство поражало только чувство, оно не могло бы иметь такого широкого культурного значения, какое оно имеет в развитии каждого общества. Во-вторых, характеристика творческого процесса вышла у Майкова крайне узкою, недостаточною для борьбы с утилитарными представлениями о задаче искусства. В этой характеристике особенно ярко выступил его ошибочный взгляд на самую природу художественного процесса, в котором синтез является в действительности настоящею творческою силою. Майков выдвигает на первый план вопрос о человеческих интересах, с которыми должно слиться всякое художественное произведение. Но понятие о человеческих интересах, не развитое философским образом, даже не связанное в рассуждении Майкова с каким-нибудь определенным психологическим содержанием, дает совершенно случайное мерило при оценке истинно талантливых созданий искусства. Художник должен изображать, говорится в вышеупомянутом письме Жуковского, не одну собственную человеческую идею, не одну свою душу, но широкую мировую идею, проникающую все доступное нашему созерцанию. Задумав бороться с дидактикой, Майков не сумел, однако, возвыситься до теории настоящего свободного искусства, которое не только не подчиняется никаким временным человеческим интересам, но и самые эти интересы подчиняет непреходящим объективным целям и мировым принципам красоты и правды. Мало изгонять из искусства холодное резонерство. Надо показать его важную философскую задачу в цельной системе, отражающей самые таинственные, бескорыстные, вдохновенные стремления человеческой души. В-третьих, наконец, деление идей на художественные и дидактические представляется искусственным, формальным делением, лишенным истинно научного и эстетического значения. Все без исключения идеи могут быть предметом искусства: они становятся художественными, поэтическими, когда получают гармоническое, правильное, не случайное выражение в определенной конкретной форме. Майков не придает значения тому, что в искусстве стоит на первом плане, как его внешняя природа. Художественные формы, говорит он, всегда останутся тождественными с формами действительности. Но в том-то и дело, что между искусством и действительностью нет такого соответствия и каждый предмет, перенесенный из внешнего мира на полотно, в литературное произведение, высеченный из мрамора, совершенно преображается в идеальный, законченный, символический образ. Если в мире грубых фактов нашего внешнего опыта, в мире жизненных явлений мы можем еще не видеть и не чувствовать за ними присутствия высшей духовной стихии, то, обращаясь к произведениям человеческого творчества, мы неизбежно соприкасаемся и разумом, и чувствами с верховными силами и законами, с животрепещущим воплощением безусловной истины. Не поняв действительных свойств ни обыденного, ни научного синтеза, Майков не мог оценить и синтеза художественного, которым в каждое произведение вносится целое миросозерцание, ряд эстетических и нравственных понятий, высоко поднимающих все его образы, все повествование над повседневными явлениями жизни Идеи, влагаемые художником в его творения, суть те же самые идеи, которые разрабатываются в науке, приводятся в систему в философии, которые становятся дидактическими в сухом логическом рассуждении. Выраженные;в поэтической форме, они получают как бы живое индивидуальное существование и говорят одновременно и воображению, и чувству, и разуму.
Подходя с своими позитивными эстетическими взглядами к различным явлениям русской словесности, Майков не дал ни одной настоящей характеристики, которая могла бы остаться в литературе, как образец таланта и тонкого критического вкуса. О Пушкине он не сумел сказать ни одного яркого, оригинального слова, хотя вся деятельность Белинского, полная противоречий в этом вопросе, должна была бы возбудить на работу его лучшие умственные силы, если бы он был создан для настоящего литературно-критического дела. Лермонтова он сравнивает с Байроном на том основании, что произведения обоих «выражают собою анализ и отрицание людей, дошедших до того и другого путем борьбы, страдания и скорбных утрат». Гоголем Майков занимается во многих заметках. Он считает его главным представителем новейшего русского искусства, основателем натуральной школы, в произведениях которого «торжество русского анализа, анализа мощного, бестрепетного и торжественно-спокойного» достигло своего апогея. Собрание сочинений Гоголя Майков, с чувством наивного удовлетворения, называет «художественной статистикой России». Его рассуждения о Достоевском, о Герцене – при всем его глубоком сочувствии к этим писателям, не обнаруживают никакой особенной проницательности. Следует, между прочим, заметить, что не поняв существенного тождества дидактических и художественных идей, отрицая в искусстве чисто-идейное содержание и усматривая на примерах с беллетристическими произведениями какое то противоречие с основными своими убеждениями, Майков решился создать по этому случаю новую полу-дидактическую, смешанную форму искусства. На этой фальшивой почве не было никакой возможности глубоко постигнуть и осмыслить тот новый, широко развившийся впоследствии род творчества, которому присвоено название романа. Наконец, характеристика Кольцова, несмотря на пространность, не отличается ни глубиною, ни меткостью. «Думы» Кольцова он совершенно отвергает, как «неудачные попытки самоучки заменить истину, к которой стремился, призраками, которые для самого его имели силу кратковременно действующего дурмана». Белинскому Майков, как мы видели, делает упреки за стремление к диктаторству и спорит с ним, между прочим, по случайному вопросу о термине «гениальный талант».
Остается рассмотреть еще новую теорию народности, предложенную Майковым в той-же статье о Кольцове, оттененную некоторыми отдельными замечаниями в других его статьях библиографического отдела «Отечественных Записок». По прошествии одного только года, взгляды Майкова изменились самым радикальным образом. Теперь он иначе определяет значение идеи народности в развитии человечества, переделывает все прежние выводы и является защитником безусловного космополитизма. Не заботясь о приведении в надлежащую систему своих воззрений на социальную философию, в связи с новыми своими мыслями, он идет теперь совершенно другим путем, излагает свои убеждения без малейших ссылок на прежние научно-философские теоремы. Рассуждения Майкова приурочены к вопросу о том, можно-ли считать Кольцова национальным поэтом, что такое народность в литературе и дух народности в жизни отдельных людей. Майков следующим образом разрешает все сомнения, возникавшие и возникающие на этой почве, и в заключение формулирует новый закон, до сих пор не оцененный, как он говорит, этнографами, но вполне выражающий собою «отношение национальных особенностей к человечности и указывающий на путь, но которому народы стремятся к идеалу». Вот его собственные слова, напечатанные в «Отечественных Записках» особенным, крупным шрифтом. «Каждый народ, говорит Майков, имеет две физиономии. Одна из них диаметрально противоположна другой: одна принадлежит большинству, другая – меньшинству. Большинство народа всегда представляет собою механическую подчиненность влиянию климата, местности, племени и судьбы. Меньшинство-же впадает в крайность отрицания этих явлений»[9]. Обе эти крайности – типические черты народных масс и умственные и нравственные качества людей из интеллигентных слоев – представляют уклонение от нормального человека с его коренными, прирожденными психическими особенностями. Человек вообще, к какому-бы племени он ни принадлежал, говорит Майков, под каким бы градусом он ни родился, должен быть и честен, и великодушен, и умен, и смел. Общий всем людям идеал человека составлен из положительных свойств, которые обыкновенно называются добродетелями. Ни одна добродетель не приходит извне. Нет такой добродетели, зародыш которой не таился-бы в природе человека. Но в противоречии с положительными силами, прирожденными человеку, все пороки суть ничто иное, как добрые наклонности – «или сбитые с прямого пути, или вовсе не уваженные внешними обстоятельствами». В устройстве стихий нашей жизненности, замечает Майков, господствует полная гармония, и потому совершенно несправедливо видеть в самом человеке источник его несовершенств. Но народные массы, живущие среди тяжелых условий, обессиливаются в своих лучших, человеческих чертах и, под долгим гнетом исторических обстоятельств, обростают каким-то безобразным внешним покровом, которому название общенациональной физиономии присваивается только по ошибке. В народной толпе всегда находятся люди, которые высоко поднимаются над своими современниками, над инертными культурными слоями, над их привычками и умственными стремлениями. Оби выходят из среды своего народа, отрешаются от его типических особенностей и развивают в себе черты прямо противоположного характера. Проникаясь иными идеями, побеждая в себе всякую подчиненность внешним силам, угнетающим народную жизнь, эти люди делают спасительный шаг к богоподобию, хотя и впадают при этом, как уже сказано, в новые крайности. Они являются защитниками настоящей цивилизации, в которой не может быть ничего народного. Подобно тому, как мы должны считать наиболее совершенным того человека, который ближе всего подходит к воображаемому, идеальному, бестемпераментному человеку, мы должны признать наиболее совершенною ту цивилизацию, в которой меньше всего каких-бы то ни было типических особенностей. Цивилизация и народность – идеи совершенно непримиримые, одна другую исключающие. Майков выясняет свою мысль на примере с поэзией Кольцова. Вот истинно совершенное искусство, которое избегло обеих указанных крайностей, преодолев дух подчиненности, разлитый в народной толпе, и дух «отчаянного удальства», отличающий меньшинство. Стихотворения Кольцова, выражая «изумительную жизненность», проникнуты вместе с тем «какою-то необыкновенною дельностью и нормальностью». В них нет никаких крайностей, никаких проявлений болезненной раздражительности. Читая его произведения, вы беспрестанно видите перед собою человека, «в самой ровной борьбе с обстоятельствами», человека, которому нет надобности сострадать, потому что вы уверены, что победа останется на его стороне и что силы его «еще более разовьются от страшной гимнастики». В них вы, наверно, не встретите никакого злостного увлечения, никакой желчности, никакой односторонности, «образующейся в людях посредственной жизненности вследствие вражды с обстоятельствами». Вся его биография переполнена фактами, доказывающими, что в нем господствовала полная гармония «между стремлением к лучшему и разумным уважением действительности».
Несмотря на некоторый внешний блеск, это новое учение о народности тоже страдает очень существенными недостатками, которые делают его особенно непригодным при изучении человеческого творчества в его разнообразных формах и проявлениях. При таких понятиях о народной индивидуальности, особенно ярко выступающей в поэтических произведениях, Майков должен был потерять всякий интерес и чутье к тому, что в искусстве стоит на первом плане – к совершенству оригинального выражения общечеловеческих, мировых идей и настроений. Самое создание этой теории показывает в Майкове человека, без яркого темперамента и глубоких художественных симпатий к разнообразным формам красоты, к игре высшей жизни в индивидуальных; воплощениях и образах. Признав, в противоположность своим прежним ложным взглядам, космополитический характер всякого общего понятия и всех отвлеченных идей и сделав в этом отношении существенный, прогрессивный шаг, Майков не разглядел, однако, в чем именно заключается идея народности, понятой вне каких бы то ни было шовинистических и политических стремлений. Во-первых, устанавливая;«закон двойственности народных физиономий», при чем одна физиономия принадлежит народной массе, а другая интеллигентному меньшинству, он не видит истинных отношений глубокой оригинальной личности к той умственной и социальной среде, из которой она вышла. При выдающихся духовных силах научного или художественного характера, при ярком уме и воле, способный бороться с слепыми жизненными стихиями и предрассудками, даровитый человек обнаруживает в наиболее чистом и законченном виде те именно качества группового темперамента и характера, которые затерты в массе грубыми историческими силами. В истинно интеллигентной среде типические народные черты, часто скрытые от глаза, искаженные внешними влияниями, выступают с большою свободою и потому с большею красотою. О народной индивидуальности приходится судить именно по самым талантливым людям. Образованный человек, участвующий в создании литературы и науки, или добровольно и сознательно отдающийся их течению, говорит Потебня, какой бы анафеме ни придавали его изуверы за отличие его взглядов и верований от взглядов и верований простолюдина, не только не отделен от него какою то пропастью, но, напротив того, имеет право считать себя более типическим выразителем своего народа, чем простолюдин[10]. Образованный человек устойчивее в своей народности, чем человек малой и шаткой умственной культуры. Самое содержание его научных и нравственных убеждений и общественных понятий должно остаться общечеловеческим, но выражение их в жизни, в литературе будет непременно иметь свою особенную форму, своеобразный стиль данного народа. Необходимо при этом отметить то обстоятельство, что, поняв ошибочно смысл и психологическое значение идеи народности, Майков не решился стать на сторону того меньшинства, которое он сам признает выразителем интеллигентного протеста во имя человеческого богоподобия. Вот почему, желая выразить свою симпатию к могучему, страстному, порывистому таланту Кольцова, он рисует фигуру спокойного, уравновешенного, рассудительно-деловитого человека. Во-вторых, представление Майкова о прирожденности «добродетелей» и случайности «пороков» имеет самый поверхностный характер. Его изображение не передает той драмы, которая совершается в человеческой душе – борьбы противоположных идей и понятий, идущих изнутри человека, из глубины его диалектического по природе духа. По представлению Майкова человек, преодолевший внешние жизненные силы, выйдя из под давления исторических предрассудков, вместе с этим окончательно сбрасывает с себя свою порочную оболочку и становится олицетворением бестемпераментной добродетели. А между тем, истинный освободительный процесс совершается прежде всего внутри самого человека, в глубине сознания – с его коренным метафизическим разладом, который может разрешиться только в высших идеальных обобщениях. В-третьих, наконец, при правильном понимании народности, Майков не мог бы говорить о радикальном противоречии между народностью и цивилизацией. В прежних своих рассуждениях на эту тему он сделал принципиальную ошибку, дав место идее национальности в чисто научных и философских вопросах. Теперь, ошибочно усматривая в народности то же идейное содержание, он неизбежно должен был признать ее разрушительным началом по отношению к цивилизации. Он и теперь не видит, что типические свойства народа в его индивидуальном темпераменте, в характере его непосредственных сил, и что разнообразие этих свойств в человечестве, порождающее разнообразие в склонностях и бессознательных влечениях, никоим образом не может находиться в логическом противоречии с идеей просвещения, с идеей единой для всех людей цивилизации.
IV
Белинский, встретивший сочувственными словами первую большую статью Майкова, отнесся с резким отрицанием к его новым идеям о народности. В обозрении русской литературы 1846 г., он, не называя по имени нового критика «Отечественных Записок», в довольно решительных выражениях оспаривает его учение о народности, изложенное в статье о Кольцове. Рассуждения Белинского отличаются обычною страстностью, и несмотря на многие преувеличения и сочувственные фразы по адресу славянофильской партии, производят яркое, сильное впечатление. Статья написана с лихорадочным жаром. Столкновение с новой либеральной силой, выступавшей с научными и социальными теориями и отвергавшей индивидуальность в формах поэтического творчества, разбудила в Белинском его прежние, когда-то глубоко пережитые, эстетические симпатии. Он накидывается на молодого писателя, разбрасывает по всем направлениям фразы, полные огня и вдохновения, с особенной силой противопоставляет взглядам Майкова свои собственные, смелые, на этот раз оттененные некоторым преувеличенным патриотством, националистические убеждения[11]. Как известно, статья эта вызвала смущение в литературных кругах, близко стоявших к «Современнику». Сам Майков, по-видимому, не склонился на сторону своего достойного оппонента, хотя и нашел нужным объясниться перед Тургеневым относительно своих критических замечаний о Белинском. Возникшая полемика, в виду некоторых неловких фраз Белинского, быть может, даже подняла Майкова в глазах людей, следивших за развитием молодых талантов, и уже в первые месяцы 1847 г. критик «Отечественных Записок» подучил приглашение участвовать в «Современнике», приглашений, столь настоятельное, что у него мелькнула даже мысль, рассказывает Порецкий, прервать обязательные отношения с Краевским. Дело, однако, обошлось так, что Майков стал писать в обоих журналах: в июньской книге «Современника» уже были помещены две написанные им рецензии[12].
Когда Майков умер, в журналах появился целый ряд некрологов и заметок, в которых его кратковременная деятельность была представлена в самом сочувственном свете. Около семейства Майковых уже тогда группировались лучшие деятели печати, люди ума и таланта, для которых Аполлон Майков должен был являться притягательною поэтическою силою. В этом обществе, где преобладающую роль играли писатели с художественным направлением мысли, с широкими эстетическими интересами, Валериан Майков и получил свои первые умственные впечатления. Можно допустить, что молодой критик именно здесь услышал и воспринял некоторые из литературных отзывов, которые потом и перешли в его статьи без надлежащей и самостоятельной аргументации. Так, например, в печати много раз указывалось, как на доказательство тонкого эстетического чутья Майкова, на его отзыв о стихах Тютчева. А между тем, немногочисленные фразы, брошенные Майковым об этом превосходном таланте, вовсе не свидетельствуют о критическом понимании Тютчева. В них нет никакого самостоятельного колорита – образ Тютчева не намечен ни единым штрихом, его поэтические настроения, полные глубокого философского смысла, не обрисованы ни единым словом. Явившись случайным заключением в рецензии о стихах Плещеева, несколько фраз о Тютчеве могли быть простым отголоском каких-нибудь более или менее типических, метких рассуждений, напр., Тургенева, которые, как известно, очень высоко ценил это оригинальное и глубокое дарование. Вращаясь в обществе людей с самым изысканным вкусом, Майков постоянно натыкался на чисто литературные вопросы, при разрешении которых он пускал в ход свои теоретические способности, свою начитанность в ученых книгах новейшего характера. При отзывчивости на различные интересы и некоторой легкости в восприятия самых трудных истин науки, Майков должен был производить выгодное впечатление многообещающего и талантливого юноши. Он быстро двигался в своем умственном развитии, и когда в печати появились его первые статьи, не чуждые реформаторских притязания, снисходительный суд таких крупных художников, как Тургенев, Достоевский, Гончаров, должен был отнестись к ним с крайней благосклонностью. Тургенев, как мы уже рассказывали, свел Валериана Майкова с Краевским, выслушивал его объяснения и оправдания по поводу его полемической характеристики Белинского. Он же, через много лет, вспоминал о Майкове в словах, заключающих в себе, кроме покровительственного одобрения, некоторую двусмысленную критику и Белинского, и Майкова: «Незадолго до смерти, пишет он, Белинский начинал чувствовать, что наступило время сделать новый шага, выйти из тесного круга. Политико-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные. Но сам он себя уже устранял и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника – В. Н. Майкова, брата поэта»[13]. С полным сочувствием, без всяких ограничений, с добродушием человека, готового хвалить всякий добрый порыв, как некоторую положительную заслугу, выставляет умственные и нравственные качества Майкова Гончаров, в некрологе, напечатанном в «Современнике». Отличительные достоинства статей Майкова, пишет он – «строгая последовательность в развитии идей, логичность и доказательность положений и выводов, потом глубина и верность взгляда, остроумие и начитанность». Обозначив в таких полновесных, можно сказать, великодушных выражениях положительные стороны его таланта, Гончаров кратко и как-бы неохотно отмечает его главные недостатки: излишнюю плодовитость, непривычку распоряжаться богатством своих сил, раздробленность и местами «слишком тонкую и отвлеченную изысканность анализа»[14]. Раздробленный анализ при строгой последовательности идей и доказательности общих положений – едва-ли в этом сочетании логически противоречивых признаков можно найти твердую опору для упрочения литературной репутации Майкова, Достоевский в статье о Добролюбове, напечатанной в 1861 г., тоже посвятил несколько сочувственных фраз памяти рано умершего критика, хотя в словах его звучит горячая похвала скорее человеческой личности Майкова, чем его литературному таланту. После Белинского, пишет он, занялся отделом критики в «Отечественных Записках» Валериан Майков, брат всем известного и всеми любимого поэта. «Он принялся за дело горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности. Но он не успел высказаться»[15].

