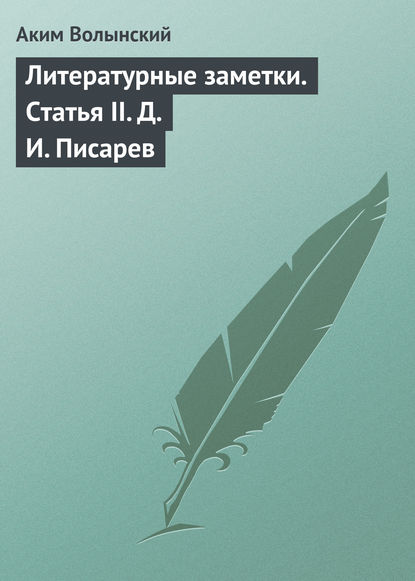 Полная версия
Полная версияЛитературные заметки. Статья II. Д. И. Писарев
В ноябрьской книге «Русского Слова» мы находим другую огромную статью Писарева «Писемский, Тургенев и Гончаров», разрешающую по своему, в самом начале, несколько чрезвычайно важных теоретических вопросов и затем представляющую анализ художественных произведений трех названных писателей. Особенно подробно Писарев останавливается на Гончарове, которому дает совершенно новую, по сравнению со статьею в «Рассвете», характеристику, противоречащую всем его прежним эстетическим убеждениям, фальшивую по содержанию и мелкую по своей крикливой придирчивости к некоторым чертам этого замечательного художественного таланта. Но еще не занявшись настоящим предметом статьи, Писарев для эффектного начала бросает грубое осуждение людям с выдающимся поэтическим талантом, на том единственном основании, что в их произведениях он не видит прямого ответа на требования современной эпохи. По его мнению, молодое поколение, которое должно считаться высшею инстанциею при разрешении серьезных литературных вопросов, имеет право остановиться в полном недоумении перед деятельностью таких писателей, как Фет, Полонский, Мей. Они ничего не внесли в сознание русского общества. Ни одним своим произведением они не шевелили протестантского чувства своих читателей. Прогрессивная молодежь, прикинув к их сочинениям новое критическое мерило, в праве задать «этим господам» ряд очень важных вопросов, на которые она наверно не получит никакого ответа. «Сказали-ли вы теплое слово за идею? может спросить их молодое поколение. Разбили-ли вы хоть одно господствующее заблуждение? Стояли-ли вы сами хоть в каком-нибудь отношении выше воззрений вашего времени»[26]. На все эти вопросы такие версификаторы, как Мей, Фет, Полонский, подобно Щербине и Грекову, не в праве откликнуться ни единым положительным словом. Шлифуя русский стих, они только усыпляли общество своими «тихими мелодиями» и воспевали на тысячу ладов «мелкие оттенки мелких чувств». Их стихотворения не оставляют в памяти почти никаких следов, содержание их улетучивается с такою же быстротой, как забывается докуренная сигара. Интересоваться их деятельностью нет почти никакого смысла, потому что чтение их поэтических писании «действительно хорошо только в гигиеническом отношении, после обеда», а самые стихи полезны в очень ограниченном смысле слова – для верстки листов, «для пополнения белых полос, т. е. страниц между серьезными статьями и художественными произведениями, помещающимися в журналах»[27]. «Попробуйте, милостивый государь, обращается Писарев с коварным подмигиванием к читателю, переложить два, три хорошеньких стихотворения Фета, Полонского, Щербины или Бенедиктова в прозу и прочтите их таким образом. Тогда всплывут наверх, подобно деревянному маслу, два драгоценные свойства этих стихотворений: во-первых, неподражаемая мелкость основной идеи, и во-вторых – колоссальная напыщенность формы»[28]. При внимательном изучении, в них не оказывается совершенно того внутреннего содержания, которого нельзя заменить никакими «фантастическими арабесками». Авторы этих стихотворений не настолько развиты, чтобы стать в один уровень с требованиями века, и не настолько умны, чтобы силою собственного здравого смысла выхватить новые идеи из воздуха эпохи. «Они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающие явления обыденной жизни, отражать в своих произведениях физиономию этой жизни с её бедностью и печалью. Им доступны только маленькие треволнения их собственного, узенького психического мира». Из всех современных лириков Писарев выделяет только Майкова и Некрасова. Некрасова он уважает «за его горячее сочувствие к страданиям простого человека, за честное слово, которое он всегда готов замолвить за бедняка и угнетенного», Майкова – «как умного и совершенно развитого человека, как проповедника гармонического наслаждения жизнью, как поэта, имеющего определенное, трезвое миросозерцание». Но у Фета и Полонского нет ни мировоззрения, ни простого сочувствия людским страданиям. Три писателя, имена которых перейдут в потомство в неразрывном союзе, которые постоянно тяготели друг к другу и, несмотря на упорный свист журнальной критики, сумели твердо устоять на своих местах, не принося бессмысленных жертв никаким капризным богам, оказались почему-то не заслуживающими общего суда и приговора. Судьба, странным образом воплотившаяся в суждениях Писарева, нашла нужным пощадить одного только Майкова от публичного посрамления на глазах передовой толпы. Даже Фету Писарев отказывает в настоящем поэтическом таланте, хотя талант этот бьет в глаза и моментами играет удивительными красками. Двумя годами раньше Писарев, наверно не решился-бы поставить так низко писателя, который с редким искусством описал целый мир новых и свежих впечатлений, обнаружив при этом поразительную отзывчивость на самые нежные движения человеческой души. Но под конец 1861 года Писарев, обуреваемый стремлениями эпохи, с её гражданственною страстью, не нашедшею для себя настоящих теоретических оправданий, с её грубыми философскими предрассудками, широко распространявшимися в окружающей атмосфере, должен был пойти в разрез с своим собственным критическим чутьем в угоду новому шаблону. Перед его строгим трибуналом Фет оказался каким-то умственным ничтожеством, а Полонский поэтическим пигмеем, с которым легко разделаться несколькими пренебрежительными фразами – тот самый Полонский, которого Майков еще в 1855 году воспел в следующих звучных стихах, прекрасно передающих лучшие особенности его лирического таланта, полного огня и вдохновения:
Твой стих, росой и ароматомРодной и небу и земле,Блуждает странником косматымМежду миров, светя во мгле.Люблю в его кудрях я длинныхИ пыль от млечного пути,И желтый лист дубрав пустынных,Где отдыхал он в забытьи.Стремится речь его свободно.Как в звоне стали чистой, в нейЗакал я слышу благородной,Души возвышенной твоей.Но оценка русской лирической поэзии, сделанная Писаревым, прямо вытекает из его общих поэтических положений, выраженных с обычною смелостью, не знающею никаких границ, не останавливающееся даже перед явными логическими абсурдами. Упрощая смысл самого поэтического творчества до степени нехитрого проявления известной нервной впечатлительности, соединенной с «техническим» умением отливать готовую идею в определенную, виртуозную форму, Писарев не мог уже отнестись с сочувствием к тем произведениям, в которых нет открытой, бьющей в глаза, современной тенденции. Там, где поэтический образ органически неотделим от идеи, где внешняя форма, облекая творческую мысль художника во всех её подробностях, не может быть искусственно оторвана от неё, не может открыть своего глубокого внутреннего содержания иначе, как в широком критическом истолковании по эстетическим законам красоты, там Писарев уже не видит теперь ничего, кроме пустых слов и фантастических арабесок. Надо, чтобы мысль висела над произведением, как ярко размалеванная вывеска. Читатель, «платящий за произведение деньги», в праве требовать, чтобы художник точно определил, в выражениях, не порождающих никакого сомнения, свои симпатии и антипатии, потому что лирика, занятая только «любовными похождениями» и «нежными чувствованиями», не имеет права серьезно претендовать на видную роль в развитии общества. Кому какое дело, спрашивает Писарев, до того, что чувствует тот или другой поэт, при виде любимой им женщины? Кому охота вооружаться терпением и микроскопом, чтобы следить за мелкими движениями мелких душ Фета, Мея или Полонского…
Характеристика Гончарова, представленная в этой статье и дополненная через месяц в критическом очерке, под названием «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова», дает прекрасный образчик тех заблуждений, в которые часто впадала мысль Писарева, несмотря на его природную чуткость к поэтическим и художественным красотам. Как мы уже говорили, Писарев разошелся в этой характеристике с своей собственной заметкой о Гончарове, написанной для «Рассвета». Горячая симпатия к таланту Гончарова, сказавшаяся тогда в немногих, но смелых рассуждениях, сменилась теперь какою-то странною враждою, упорным чувством неудовольствия всею его художественною манерою, лучшими сторонами его творческого процесса. На писательскую личность Гончарова брошен здесь другой свет, и все, что прежде вменялось ему в особую заслугу, теперь призвано к ответу перед обличительной критикой нового направления.
Бойко перебирая наиболее яркие стороны в произведениях Гончарова, Писарев не находит нигде ни одной черты, ни одного образа, которым мог бы подарить свое сочувствие. Все в них вдруг оказалось ничтожным, мелким, фальшивым. Еще недавно великий художник, сумевший разгадать, понять и отразить в совершенном образе одну из типических особенностей русского национального характера, писатель с огромным умом, никогда не уклоняющимся в сторону от настоящего искусства, с его полным, цельным и свободным творчеством, Гончаров в новой характеристике Писарева вышел каким-то жалким педантом без определенного взгляда на вещи, без художественного пафоса, без умения проникаться внутренними мотивами русской жизни. Своею опрометчивою резкостью эти страницы Писарева о Гончарове непосредственно примыкают к его статьям о Пушкине и вместе с ними, останутся навсегда неопровержимым доказательством полной логической несостоятельности его основных теоретических положений.
Писарев не может найти у Гончарова ни одной новой и свежей мысли. Его «микроскопический анализ» останавливается только на мелочах, не проникая глубоко в суть предмета. Великий мастер обрабатывать разные безделушки, он никогда не поднимается до созидания настоящих живых типов. «Гончаров, как художник, говорит Писарев, то же самое, что Срезневский, как ученый[29]». Он творит для процесса творчества, не заботясь о важности сюжета, не спрашивая себя о том, высекает-ли он своим резцом великолепную статую, или вытачивает ничтожное украшение для письменного стола. Ни одно из созданий Гончарова не вносит никакого света в окружающую жизнь, и потому «мы можем взглянуть на всю его деятельность, как на явление чрезвычайно оригинальное, но вместе с тем в высокой степени бесполезное». Даже «Обломов» показался теперь молодому критику ничтожной, клеветнической выдумкой на русскую действительность[30]. В этом романе действующие лица вращаются в безразличной атмосфере, ничем не обнаруживающей своего чисто русского колорита. Отделайтесь от обаяния великолепного языка, отбросьте аксессуары, мало относящиеся к делу, обратите внимание на те фигуры, в которых сосредоточивается мысль романа, и вы увидите, что во всем произведении нет ничего русского, нет ничего типичного. Даже Ольга, та самая Ольга, которую так недавно Писарев оценил с увлечением в своей студенческой рецензии, кажется ему теперь только красивою марионеткою…
Объективное творчество Гончарова, не обнаруживающее его личных взглядов, являющееся перед читателем в образах и картинах без всякого партийного клейма, произвело замешательство в критических суждениях Писарева. Огромная идея Обломова, обнимающая целую национальную психологию, но не дающая никаких конкретных указаний, пригодных для данной минуты, не могла не подвергнуться критическим нападкам с его стороны. Произведениями Тургенева можно было воспользоваться для целей журнальной агитации. Его художественное дарование, никогда не перестававшее следить за веяниями эпохи, постоянно давало материал для публицистических рассуждений на живые темы. Новые люди, выступавшие у Тургенева в ярком освещении, раздражавшем и поднимавшем нервы, не могли не сделаться предметом самых горячих дебатов в литературе и жизни. Но в эпическом творчестве Гончарова Писарев не нашел этой волнующей стихии живой современности, и потому он, открыто покаявшись в своих прошлых ошибках, в резко написанной характеристике развенчал и низверг того бога, которому недавно пропел почти восторженный гимн. И эта новая оценка выдающегося художника, наглядно показавшая воинствующий дух молодого писателя, произвела в свое время огромную сенсацию, хотя для понимающих людей не оставалось никакого сомнения в том, что в литературном отношении Писарев сделал очень грубый промах…
В последней статье этого года – «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» – Писарев опять выступает пламенным защитником полной женской эмансипации. С настоящим красноречием, он, не щадя обличительных красок, рисует всю ненормальность того положения, которое занимает женщина в современном обществе. Своею свежею наивностью многие страницы этой статьи производят впечатление увлекательных монологов, вырванных из превосходного художественного произведения. Писарев сам набрасывает ряд картин, в которых личная и семейная жизнь старого поколения расходится с идеальными формами бытовых и нравственных отношений, рисующимися его пылкому воображению. Привязывая свои рассуждения к случайным образам, взятым из романов Тургенева, Писемского и Гончарова, он совершенно не стесняется находящеюся перед его глазами художественною рамкою и дает свободный полет своей собственной фантазии. Он как бы вмешивается в события интересного романа или повести, и где его личное убеждение не сходится с настроением изображенных героев, обращается к ним с внушительными речами, выражающими горячее чувство протеста. Тирады, проникнутые рыцарскою готовностью биться до последней возможности за нрава русской женщины, чередуются со страницами, на которых преступление мужчин рисуется в ужасающих фразах. «Посмотрим, что мы даем нашим женщинам, восклицает Писарев. Посмотрим – и покраснеем от стыда! Порисоваться перед женщиною изяществом чувств, огорошить ее блестящею оригинальностью вычитанной мысли, очаровать ее красивою смелостью честного порыва – это наше дело. А дальше, дальше, когда надо эту же самую женщину поддержать, защитить, ободрить – мы на попятный двор, мы начинаем делаться благоразумными, мы стараемся залить тот пожар, который сами раздули. Да, вот мы каковы»[31]. И среди таких рассуждений на эмансипационную тему Писарев вдруг, по старой памяти, бросает несколько замечаний, относящихся к делу и, вернее самых смелых монологов, выводящих его на широкую литературную дорогу. В рассматриваемой статье есть одна страница, на которой в немногих словах дается прекрасная характеристика Писемскому, характеристика уже намеченная, как мы видели, в предыдущем очерке. Сравнивая Тургенева с Писемским, Писарев говорит: «у Тургенева мы находим разнообразие женских характеров, у Писемского разнообразие положений. Тургенев входит своим тонким анализом во внутренний мир выводимых личностей, Писемский останавливается на ярком изображении самого действия. Романы Тургенева глубже продуманы и прочувствованы, романы Писемского плотнее и крепче построены». Тургенев иногда мудрит над жизнью, у Писемского букет нашей жизни, «как крепкий запах дегтя, конопляника и тулупа», поражает нервы читателя с огромною силою. Общая атмосфера нашего быта схвачена у Писемского полнее, чем у Тургенева. Он лепит прямо с натуры, и некрасивые, грубые, «кряжистые» создания его таланта передают русскую действительность без малейшей тенденции в ту или другую сторону[32].
Несмотря на некоторое преувеличение, в этой параллельной характеристике фигура Писемского встает, как живая. В минуты, свободные от публицистических тревог, Писарев умел показывать себя настоящим критиком. Поэтические сравнения возникали у него с необычайною легкостью, и надо было с сектантским упорством постоянно загонять свои рассуждения на готовые рельсы, чтобы светлое дарование вдруг не изменило в нем убеждениям партийного бойца, презирающего всякие праздные забавы искусства…
IV
«Отцы и дети» появились в февральской книге «Русского Вестника» 1862 года, а в марте месяце Писарев уже печатает свой критический разбор этого романа. По силе таланта – это одна из лучших его статей. Произведение Тургенева глубоко захватило его, взволновало и очаровало. Не поддавшись никаким партийным соображениям, он с пылом и жаром оценил его художественные достоинства, его огромное литературное значение и, несмотря на враждебное настроение передовой печати, усмотревшей в романе лукавую мысль осмеять лучших героев современного общества, Писарев отнесся к Тургеневу с полным уважением за широкую и смелую постановку важного вопроса о новом поколении. Он не уличает Тургенева ни в каких ретроградных тенденциях, как это делал Антонович, и главный герой произведения, Базаров, очерченный художником с необычайною силою таланта, кажется ему не пародией на новых русских людей, а их лучшим и совершеннейшим оправданием, хотя между Базаровым в романе и Базаровыми в жизни есть, по мнению критика, существенная разница. Писарев согласен допустить, что Тургенев не сочувствует вполне ни «отцам», ни «детям», что его отрицание гораздо глубже и серьезнее «отрицания тех людей, которые, разрушая то, что было до них, воображают себе, что они – соль земли и чистейшее выражение полной человечности». Но, не угождая никому, Тургенев в главном, в самом существенном не погрешил против фактов действительной жизни, и Базаров, с его крупным умом, железною волею, со всеми привлекательными чертами его яркой индивидуальности, стоит перед нами, как живой человек, как героический характер, не изменивший себе с начала до конца романа ни единым поступком, ни единым словом. Взглянув на Базарова со стороны, рассмотрев его тем холодным, испытующим взглядом, который вырабатывается опытом жизни, Тургенев оправдал и оценил его по достоинству, удостоверил его силу, признал его перевес над окружающими людьми. «Этого слишком достаточно, говорит Писарев, для того, чтобы снять с романа Тургенева всякий, могущий возникнуть, упрек в отсталости направления, этого достаточно даже для того, чтобы признать его роман практически полезным для настоящего времени». Вся статья Писарева имеет одну только цель: объяснить Базарова как можно полнее, выставить его главные принципы в самом ярком освещении, показать его живую связь с новыми стремлениями русского общества. Шаг за шагом следит он за движением рассказа, и повсюду он видит блеск идеи, воплощенной в сильной, художественной фигуре. Какова эта идея? Что в ней нового по сравнению с старыми понятиями «отцов?» Какие новые пути она открывает молодым силам, не желающим идти старыми путями? Базаров – чистый эмпирик. Прослушанный им курс естественных и медицинских наук развил в нем природный ум и отучил его принимать на веру какие бы то ни было понятия и убеждения. Опыт сделался для него единственным источником научного познания, личное ощущение – точкою опоры для всякого доказательства. Как эмпирик, Базаров «признает только то, что можно ощущать руками, увидать глазами, положить на язык, словом, только то, что можно освидетельствовать одним из пяти чувств». Для Базарова не существует никаких идеалов и, кроме непосредственного влечения, он может руководиться в жизни только еще расчетом. «Ни над собою, ни вне себя, ни внутри себя он не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. Впереди – никакой высокой цели, в уме – никакого высокого помысла, и при всем этом – сила огромная»[33]. Его можно назвать убежденным циником в самом широком смысле слова. Он циник по складу своего ума и по резкости своих внешних манер, и, несмотря на этот двойной цинизм, приводящий постоянно в замешательство его знакомых, он обладает непонятною силою притягивать к себе людей. К нему тянутся все, в каждом обществе он быстро делается центром внимания, ум его производит возбуждающее действие на людей различных классов… Дав такую общую характеристику Базарову, Писарев приступает к подробному анализу важнейших событий романа. Отношение Базарова к Аркадию Кирсанову, к родителям, к представителям старого поколения, в особенности к Павлу Петровичу Кирсанову, отношение Базарова к народу, любовь к Одинцовой и, наконец, потрясающая по художественной силе картина смерти Базарова, – все это Писарев изучает и освещает до мельчайших подробностей. Он как бы живет мыслями и чувствами Базарова. В художественном образе Базарова он увидел черты своей собственной умственной и нравственной физиономии, отражение своих лучших симпатий и влечений. Некоторые фразы Базарова звучат в его ушах, как выражение его личной мысли. Непримиримое отрицание, с которым он относится к патриархальному строю русской жизни, могло бы показаться блестящим поэтическим комментарием к его собственным идеям, изложенным в некоторых его статьях. Писареву не кажется трудным объяснить самые мелкие проявления его натуры и, становясь на место Базарова, проникаться его духом, говорить его афоризмами, продолжать его деятельность в фантастических условиях грядущей эпохи. Между ним и Базаровым нет никакого разногласия, в их главных, принципиальных убеждениях, хотя он видит некоторые его грубые заблуждения в несущественных, второстепенных вопросах. Человек с изысканно аристократическими манерами, с привычками утонченного внешнего изящества, Писарев недоволен угловато-резкими приемами Базарова в обращении с людьми, приемами, которые, очевидно, должны уронить и опошлить его в глазах фешенебельных читателей. «Можно быть крайним материалистом, заявляет Писарев, полнейшим эмпириком, и в то же время заботиться о своем туалете, обращаться утонченно вежливо с своими знакомыми, быть любезным собеседником и совершенным джентльменом». Еще не дойдя до явного и безусловного отрицания искусства, Писарев упрекает Базарова за опрометчивые суждения в эстетической области. Базаров «завирается». Он отрицает с плеча вещи, которых не знает. Поэзия, по мнению Базарова, ерунда, читать Пушкина – потерянное время, заниматься музыкою – смешно, наслаждаться природою – нелепо. Затертый трудовою жизнью, Базаров потерял или не успел развить в себе «способность наслаждаться приятным раздражением зрительных и слуховых нервов, но из этого никак не следует, чтобы он имел разумные основания отрицать или осмеивать эту способность в других»[34]. Здесь Базаров не верен своим собственным убеждениям, и решительно отвергая всякое значение за эстетическими удовольствиями, он этим самым вдается в некоторый умственный деспотизм и, во всяком случае, уклоняется с пути чистого эмпиризма. «Последовательные материалисты, в роде Карла Фохта, Молешота и Бюхнера, не отказывают поденщику в чарке водки, а достаточным классам употребление наркотических веществ, – отчего же, спрашивает Писарев, допуская употребление водки и наркотических веществ вообще, не допустить наслаждения красотою природы, мягким воздухом, свежею зеленью, нежными переливами контуров и красок?»[35]. Базаров с ненужною подозрительностью ищет проявлений романтизма там, где его никогда не было. Он хотел-бы предписывать человеку законы. Он хотел-бы запретить ему известные удовольствия – вопреки здравой и верной, теории личных ощущений, имеющих в его собственных глазах высший авторитет пред всеми другими, старыми критериями.
От Писарева не ускользнули некоторые тонкие, едва заметные черты, обнаруживающие смущенное состояние духа Базарова после любовной неудачи с Одинцовою. Ему понятно, что, несмотря на всю свою убежденность, Базаров в глубине души затаил стремления и чувства, выходящие из рамки нигилизма, Увлеченный до фанатизма известною мыслью, целою системою теоретических понятий, Базаров постоянно сковывал свою богатую природу в определенном направлении. Никогда он не пошел-бы в разрез не только с своими убеждениями, но и привычками, пока он мог твердо держаться на холодной высоте своих сознательных, рассудочных требований. Но вот случилось несчастье. Базаров умирает, и в минуту смерти он как-бы сбрасывает с себя всякие оковы и показывает свою натуру такою, какою никто не видел ее в обыкновенное время, в суматохе жизни, с её вечною борьбою желаний, предрассудков, с её никогда не умолкающим гулом препирательств из-за каждого пустяка, Перед смертью Базаров становится естественнее, человечнее, непринужденнее и, открывшись весь, возбуждает к себе такое сочувствие, какого никогда не вызывал в минуты полного здоровья, когда «он холодным рассудком контролировал каждое свое движение и постоянно ловил себя на романтических поползновениях»…
На последних страницах своей статьи Писарев следующим образом формулирует главную идею «Отцов и детей». Смысл романа, пишет он, такой: «Теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности, но в самых увлечениях сказываются свежая сила и неподкупный ум. Эта сила и этот ум без всяких посторонних пособий и влияний выведут молодых людей на прямую дорогу и поддержат их в жизни[36]»… Вот как понял Писарев замечательное произведение Тургенева. Сличая идеи Базарова с собственными мыслями и настроениями, он пришел к убеждению, что у Тургенева все намерения, вольные и невольные, склонились к тому, чтобы не только оправдать, но и возвеличить новое движение умов в русском обществе. Если откинуть некоторые ничтожные логические погрешности Базарова, то окажется, что он прав перед всеми окружающими его людьми, что определенные убеждения проникают все его существо, что в его характере нет ни малейшей трещины. Суждения Базарова об искусстве можно оставить в стороне, как совершенно ничтожный промах, нисколько не влияющий на все его другие понятия. Его внешняя неделикатность и даже чрезмерная резкость в обращении с людьми не имеет никакого серьезного значения и вовсе не вытекает из его общих понятий. Это все случайные черты в художественной фигуре, выхваченной непосредственно из жизни, но не во всем пользующейся сочувствием самого Тургенева. Базаров мог-бы быть и человеком с изящными манерами, а к искусству он мог-бы относиться с тем же снисходительным одобрением, с каким известные материалисты, в роде Карла Фохта, Молешота и Бюхнера, относятся к чарке водки, выпиваемой рабочим человеком в минуты отдохновения от тяжелого труда…



