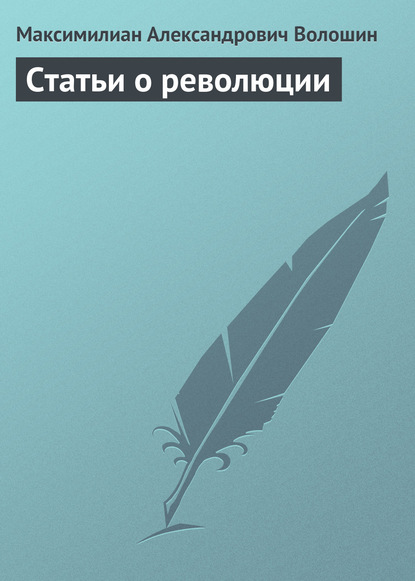 Полная версия
Полная версияСтатьи о революции
«Святая Русь»
Суздаль и Москва не для тебя лиПо уделам землю собирали,Да тугую золотом суму?В сундуках приданое копили,И тебя невестою растилиВ расписном да тесном терему?Не тебе ли на речных истокахПлотник-Царь построил дом широко –Окнами на пять земных морей?Из невест красой, да силой браннойНе была ль ты самою желаннойДля заморских княжих сыновей?Но тебе сыздетства были любы –По лесам глубоких скитов срубы,По полям – кочевья без дорог,Вольные раздолья да вериги,Самозванцы, воры да расстриги,Соловьиный посвист да острог.Быть Царевой ты не захотела:Уж такое подвернулось дело.Враг шептал: «Развей да расточи…Ты отдай казну свою богатым,Власть – холопам, силу – супостатам,Смердам – честь, изменникам – ключи».Поддалась лихому подговору,Отдалась разбойнику и вору,Подожгла посады и хлеба,Разорила древнее жилище,И пошла поруганной, и нищей,И рабой последнего раба.Я ль в тебя посмею бросить камень?Осужу ль страстной и буйный пламень?В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,След босой ноги благословляя, –Ты – бездомная, гулящая, хмельная,Во Христе юродивая Русь!Когда в октябре 17-го – года с русской Революции спала интеллигентская идеологическая шелуха и обнаружился ее подлинный лик, то сразу начало выявляться ее сродство с народными движениями давно отжитых эпох русской истории. Из могил стали вставать похороненные мертвецы; казалось, навсегда отошедшие страшные исторические лики по-новому осветились современностью.
Прежде всего проступили черты Разиновщины и Пугачевщины и вспомнилось старое волжское предание, по которому Разин не умер, но, подобно Фридриху Барбароссе, заключен внутри горы и ждет знака, когда ему вновь «судить русскую землю». Иногда его встречают на берегу Каспийского моря и тогда он расспрашивает: продолжают ли его предавать анафеме, не начали ли уже в церквах зажигать сальные свечки вместо восковых, не появились ли уже на Волге и на Дону «самолетки и самоплавки»?
Эти вопросы, столь напоминающие совершавшееся теперь, и сама идея Страшного Суда, вершащегося над Русской землей темными и мстительными силами, раздавленными русской государственностью и запечатанными в гробах церковной анафемой, внушили мне поэму
«Стенькин суд»
У великого моря Хвалынского,Заточенный в прибрежный шихан,Претерпевый от Змея Горынского,Жду вестей из полуночных стран.Всё ль как прежде сияет – несглазенаПравославных церквей лепота?Проклинают ли Стеньку в них РазинаВ воскресенье, в начале поста?Зажигают ли свечки, да сальныеВ них заместо свечей восковых?Воеводы порядки охальныеВсё ль блюдут в воеводствах своих?Благолепная да многохрамая,А из ней хоть святых выноси.Что-то чую, приходит пора мояПогулять по Святой по Руси.Как бывало казацкая, дерзкая,На Царицын, Симбирск, на Хвалынь –Гребенская, Донская да ТерскаяСобиралась ватажить сарынь.Да на первом на струге, на «Соколе»С полюбовницей – пленной княжнойРазгулявшись, свистали да цокали,Да неслись по-над Волгой стрелой.Да как кликнешь сподручных – приспешников: – «Васька Ус! Шелудяк да Кабан!Вы ступайте пощупать помещиков,Воевод, да попов, да дворян.Позаймитесь-ка барскими гнездами,Припустите к ним псов полютей!На столбах с перекладиной гроздамиПоразвесьте собачьих детей».Хорошо на Руси я попраздновал,Погулял, и поел, и попил,А за все, что творил неуказного,Лютой смертью своей заплатил.Принимали нас с честью и с ласкою,Выходили хлеб-солью встречать,Как в священных цепях да с опаскоюПривезли на Москву показать.Уж по-царски уважили пыткою,Разымали мне каждый сустав,Да крестили смолой меня жидкою,У семи хоронили застав.А как вынес я муку кровавую,Да не выдал казацкую Русь,Так за то на расправу на правуюСам судьей на Москву ворочусь.Рассужу, развяжу – не помилую –Кто хлопы, кто попы, кто паны…Так узнаете: как пред могилою,Так пред Стенькой все люди равны.Мне к нему царевать да насиловать,А чтоб равен был всякому – всяк.Тут пойдут их, голубчиков, миловать,Приласкают московских собак.Уж попомнят, как нас по ОстоженкеШельмовали для ихних утех,Пообрубят им рученьки-ноженьки:Пусть поползают людям на смех.И за мною не токмо что дранаяГолытьба, а – казной расшибусь –Вся великая, темная, пьяная,Окаянная двинется Русь.Мы устроим в стране благолепье вам –Как, восставши из мертвых – с мечом, –Три угодника – с Гришкой Отрепьевым,Да с Емелькой придем Пугачом.Наравне с Разиновщиной еще более жуткой загадкой ближайшего, может быть завтрашнего дня, вставала Самозванщина на фоне Смутного времени. Мне показалась заманчивой и благодарной идея написать все Смутное время, как деяния одного и того же лица, много раз убиваемого, но неизбежно воскресающего, неистребимого, умножающегося, как темная сила в былине о том, как перевелись витязи на святой Руси, как единое царствование зарезанного Дмитрия-царевича, начинающееся его убиением в Угличе и кончающееся казнью другого младенца, царевича Ивана – сына Марины, повешенного у Серпуховских ворот в Москве в 1613 г. в царствование первого из Романовых.
«Дмитрий император»
Убиенный много и восставшиДвадцать лет со славой правил яОтчею Московскою державой,И годины более кровавойНе видала Русская земля.В Угличе, сжимая горсть орешковДетской окровавленной рукой,Я лежал, а мать, в сенях замешкав,Голосила, плача надо мной.С перерезанным наотмашь горломЯ лежал в могиле десять лет;И рука господняя простерлаНад Москвой полетье лютых бед.Голод был, какого не видали:Хлеб пекли из кала и мезги,Землю ели, бабы продавалиС человечьим мясом пироги.Проклиная царство Годунова,В городах без хлеба и без кроваМерзли у набитых закромов.И разъялась земная утроба,И на зов стенящих голосовВышел я – замученный – из гроба.По Руси что ветер засвистал,Освещал мой путь двойной луною,Пасолнца на небе засвечал;Шестернею в полночь над МосквоюМчал, бичом по маковкам хлестал,Вихрь-витной гулял я в ратном поле,На Московском венчанный престолеДревним Мономаховым венцом,С белой панной – с лебедью – с МаринойЯ – живой и мертвый, – но единыйОбручался заклятым кольцом.Но Москва дыхнула дыхом злобным –Мертвый я лежал на месте ЛобномВ черной маске с дудкою в руке,И вокруг, вблизи и вдалеке, –Огоньки болотные горели,Бубны били, плакали сопели,Песни пели бесы на реке.Не видала Русь такого сраму!А когда свезли меня на яму,Я свалился в смрадную дыру, –Из могилы тело выходилоИ лежало – цело – на юру.И река от трупа отливала,И земля меня не принимала.На куски разрезали, сожгли,Пепл собрали, пушку зарядили,С четырех застав Москвы палилиНа четыре стороны земли.Тут меня тогда уж стало много:Я пошел из Польши, из Литвы,Из Путивля, Астрахани, Пскова,Из Оскола, Ливен, из Москвы…Понапрасну в обличенье вораЦарь Василий, не стыдясь позора,Детский труп из Углича опятьВез в Москву – народу показать,Чтобы я на царском на призореПочивал в Архангельском соборе,Да сидела у могилы мать.А Марина в Тушино бежалаИ меня живого обнимала,И, собрав неслыханную рать,Подступал я вновь к Москве со славой…А потом лежал в снегу – безглавый –В городе Калуге над Окой,Умерщвлен татарами и жмудью…А Марина с обнаженной грудью,Факелы подняв над головой,Рыскала над мерзлою рекой,И, кружась по-над Москвою, в гневеВоскрешала новых мертвецов,А меня живым несла во чреве…И пошли на нас со всех концов,И неслись мы парой сизых чаекВдоль по Волге, Каспию – на Яик, –Тут и взяли царские стрелкиЛебеденка с Лебедью в силки.Вся Москва собралась, что к обедне,Как младенца – шел мне третий год –Да казнили казнию последнейОколо Серпуховских ворот.Так, смущая Русь судьбою дивной,Четверть века – мертвый, неизбывный –Правил я лихой годиной бед.И опять приду – чрез триста лет.Все эти стихи были написаны в последние месяцы 1917 года. Между тем волна всеобщего развала достигла Крыма и сразу приняла кровавые формы. Началось разложение Черноморского флота. Когда я в первый раз при большевиках подъезжал из Коктебеля к Феодосии, под самым городом меня встретил мальчишка, посмотрел на меня, свистнул и радостно сообщил: «А сегодня буржуев резать будут!» Это меня настолько заинтересовало, что, приехав на два дня, я остался в городе полтора месяца. Феодосия представляла в эти дни единственное зрелище: сюда опоражнивалась Трапезундская армия, сюда со всех берегов Черноморья стремились транспорты с войсками и беженцами, как в единственный открытый порт.
Наш древний град – богоспасаем –Ему же имя «Дар богов» –В те дни стал социальным раем:С анатолийских береговСолдаты навезли товаруИ бойко продавали тутОрехи – сто рублей за пуд,Турчанок – пятьдесят за пару.На том же рынке, где рабовСлавянских продавал татарин.Наш мир культурой не состаренИ торг рабами вечно нов.Хмельные от лихой свободыВ те дни спасались в нем народы:Затравленные пароходыВрывались в порт, тушили свет,Причаливали, швартовались,Спускали сходни, выгружалисьИ шли захватывать Совет.Пестрели бурки и халаты,И пулеметы, и штыки,Румынские большевикии трапезундские солдаты,«Семерки», «Тройки», «Румчерод»,И «Центрослух», и «Центрофлот»,Полки одесских анархистовИ анархистов-коммунистов,И анархистов-террористов –Специалистов из громил.В те дни понятия так смешались,Что Господа буржуй молил,Чтобы Совет их охранил.Чтобы у власти продержалисьОстатки большевицких сил…Положение было у нас настолько парадоксальное, что советская власть в городе была крайне правой партией порядка. Во главе Совета стоял портовый рабочий – зверь зверем, – но когда пьяные матросы с «Фидониси» потребовали устройства немедленной резни буржуев, он нашел для них слово, исполненное неожиданной государственной мудрости: «Здесь буржуи мои и никому чужим их резать не позволю», установив на этот вопрос совершенно правильную хозяйственно-экономическую точку зрения. И едва ли не благодаря этой удачной формуле Феодосия избегла своей Варфоломеевский ночи.
В те дни в Феодосию прибыло турецкое посольство и привезло с собою тяжело раненных военнопленных. Совет устроил банкет – не военнопленным, умиравшим от голоду, а турецкому посольству. Произносились политические речи, один за другим вставали ораторы и говорили: «Передайте турецкому пролетариату и вашей молодежи… Социальная республика… Да здравствует Третий Интернационал!»
После каждой речи вставал почтенный турок в мундире, увешанном орденами, и вежливо отвечал одними и теми же словами:
«Мы видим, слышим, понимаем… и обо всем, что видели и слышали, с отменным чувством передадим Его Величеству – Султану».
Между тем борьба с анархистами шла довольно успешно и однажды феодосийцы могли прочесть на стенах трогательное воззвание: «Товарищи! Анархия в опасности: спасайте анархию!»
Но на следующий же день на тех же местах висело уже мирное объявление: «Революционные танц-классы для пролетариата. Со спиртными напитками».
Анархия была раздавлена. Но помню еще одну запоздалую партию анархистов, прибывшую из Одессы, уже занятой немцами. Они выстроились на площади с огромным черным знаменем, на котором было написано: «Анархисты-Террористы». Вид они имели грозный, вооружены до зубов, каждый с двумя винтовками, с ручными гранатами у пояса. Одна знакомая по какой-то совершенно непонятной интуиции подошла к правофланговому и спросила: «Sind Sie Deutsche?» – «О ja, ja! Wir sind die Treunde!»[5] Через несколько дней германские войска заняли город.
Таковы были комические и бытовые гримасы тех дней, но они только углубляли трагические впечатления и патетические переживания тех дней, которые я старался передать в стихотворении:
Молитва о городе
(Феодосия – весной 1918 г.)
И скуден и неукрашенМой древний градВ венце Генуэзских башен,В тени аркад;Среди иссякших фонтанов,Хранящих гербТо дожей, то крымских ханов:Звезду и серп;Под сенью тощих акацийИ тополей,Средь пыльных галлюцинацийСедых камней,В стенах церквей и мечетейДавно храняГлухой перегар столетийИ вкус огня;А в складках холмов охряных –Великий сон:Могильники безымянныхСтепных племен;А дальше – зыбь горизонтаИ пенный валНегостеприимного ПонтаУ желтых скал.Войны, мятежей, свободыДул ураган;В сраженьях гибли народыДалеких стран;Шатался и пал великийИмперский столп;Росли, приближаясь, кликиВзметенных толп;Суда бороздили воды,И борт о бортЗаржавленные пароходыВрывались в порт;На берег сбегали люди,Был слышен трескВинтовок и гул орудий,И крик, и плеск,Выламывали ворота,Вели сквозь строй,Расстреливали кого-тоПеред зарей.Блуждая по перекресткам,Я жил и гасВ безумьи и в блеске жесткомВраждебных глаз;Их горечь, их злость, их муку,Их гнев, их страсть,И каждый курок, и рукуХотел заклясть.Мой город, залитый кровьюВнезапных битв,Покрыть своей любовью,Кольцом молитв,Собрать тоску и огонь ихИ вознестиНа распростертых ладонях:Пойми… прости!2 июня 1918 г. КоктебельСреди тех, чью руку хотелось удержать тогда, выделялись два типа, которые оба уже отошли теперь в историческое прошлое: это тип красногвардейца и тип матроса. Личины их я зарисовал позже, уже в 19 году, при втором нашествии большевиков, но наблюдены и задуманы, они были тою весной.
«Красногвардеец»
(1917)
(Тип разложения старой армии)
Скакать на красном парадеС кокардой на головеВ расплавленном Петрограде,В революционной Москве.В бреду и в хмельном азартеОтдаться лихой игре.Стоять за Родзянку в марте,За большевиков в октябре.Толпиться по коридорамТаврического дворца,Не видя буржуйным спорамНи выхода, ни конца.Оборотясь к собранью,Рукою поправить ус,Хлестнуть площадною бранью,На ухо заломив картуз.И показавшись толковым –Ввиду особых заслугБыть посланным с МуравьевымДля пропаганды на юг.Идти запущенным садом.Щупать замок штыком.Высаживать дверь прикладом.Толпою врываться в дом.У бочек выломать днища,В подвал выпускать вино.Потом подпалить горище,Да выбить плечом окно.В Раздельной, под Красным РогомГромить поместья – и прочьВ степях по грязным дорогамСкакать в осеннюю ночь.Забравши весь хлеб, о «свободах»Размазывать мужикам.Искать лошадей в комодахДа пушек по коробкам.Палить из пулеметов:Кто? С кем? Да не все ли равно –Петлюра, Григорьев, Котов,Таранов или Махно…Слоняться буйной оравой.Стать всем своим невтерпеж, –И умереть под канавойРасстрелянным за грабеж.«Матрос»
(1918)
Широколиц. Скуласт. Угрюм.Голос осипший. Тяжкодум.В кармане браунинг и напилок.Взгляд мутный, злой, как у дворняг,Фуражка с надписью «Варяг»,Надвинутая на затылок.Татуированный драконПод синей форменной рубашкой.Браслеты. В перстне кабошон,И красный бант с алмазной пряжкой.При Керенском, как прочий флот,Он был правительству оплот,И Баткин был его оратор,Его герой Колчак. Когда жВесь Черноморский экипажСорвал приезжий агитатор,Он стал большевиком. И самНа мушку брал и ставил к стенке,Топил, устраивал застенки,Ходил к кавказским берегамС «Пронзительным» и с «Фидониси»,Ругал царя, грозил Алисе;Входя на миноносце в порт,Кидал небрежно через борт:«Ну как буржуи ваши, живы?»Устроить был всегда не прочьВарфоломеевскую ночь.Громил дома, ища наживы,Награбленное грабил, пил,Швыряя керенки без счета,И перед немцами топилПоследние остатки флота.Так целый год прошел в бреду…Теперь, вернувшись в Севастополь,Он носит красную звездуИ, глядя вдаль на пыльный тополь,На Инкерманский известняк,На мертвый флот, на красный флаг,На илистые водорослиСудов, лежащих на боку, –Угрюмо цедит земляку:«Возьмем Париж… весь мир… а послеПередадимся Колчаку».«Спекулянт»
1919
Кишмя кишеть в кафе у Робина,Шнырять в Ростове, шмыгать в Одессе,Кипеть на всех путях, вползать сквозь все затворы,Менять все облики,Все масти, все оттенки,Быть торговцем, попом и офицером,То русским, то германцем, то евреем,При всех режимах быть неистребимым,Всепроникающим, всеядным, вездесущим,Жонглировать то совестью, то ситцем,То спичками, то родиной, то мылом,Творить известия, зажигать пожары,Бунты и паники; одним прикосновеньемУдорожать в четыре, в сорок, во сто,Пускать под небо цены, как ракеты,Сделать в три дня неуловимым,Неосязаемым тучнейший урожай,Владеть всей властью магии:Играть на биржеЗемлей и воздухом, водою и огнем;Осуществить мечты о превращенье,Веществ, страстей, программ, событий, слуховВ золото, а золото – в бумажки,И замести страну их пестрою метелью,Рождать из тучи град золотых монет,Россию превратить в быка,Везущего Европу по Босфору,Осуществить воочьюВсе россказни былых метаморфоз,Все таинства божественных мистерий,Преосуществлять за трапезой вино и хлебМильонами пудов и тысячами бочек –В озера крови, в груды смрадной плоти,В два года распродать империю,Замызгать, заплевать, загадить, опозорить,Кишеть как червь в ее разверстом теле,И расползтись, оставив в поле костиСухие, мертвые, ошмыганные ветром.«На вокзале»
В мутном свете увялыхЭлектрических фонарейНа узлах, тюках, одеялах,Средь корзин, сундуков, ларей,На подсолнухах, на окурках,В сермягах, шинелях, бурках,То врозь, то кучей, то в ряд,На полу, на лестницах – спят:Одни – раскидавшись, будтоПодкошенные на корню,Другие вывернув крутоШею, бедро, ступню.Меж ними бродит заразаИ отравляет их кровь:Тиф, холера, проказа,Ненависть и любовь.Едят их поедом жаднымМухи, москиты, вши.Они задыхаются в смрадномИспареньи тел и души.Точно в загробном мире,Где каждый в себе несетПротивовесы и гириДневных страстей и забот.Так спят они по вокзалам,Вагонам, платформам, залам,По рынкам, по площадям,У стен, у отхожих ям:Беженцы из разоренных,Оголодавших столиц,Из городов опаленных,Деревень, аулов, станиц.Местечек, – тысячи лиц…И социальный Мессия,И баба с кучей ребят, –Офицер, налетчик, солдат,Спекулянт, мужики, – вся Россия!Вот лежит она, распята сном,По вековечным налогам,Расплесканная по дорогам,Искусанная огнем,С запекшимися губами,В грязи, в крови и во зле,И ловит воздух руками,И мечется по земле.И не может в бреду забыться,И не может очнуться от сна…Не все ли и всем простится,Кто выстрадал, как она?И вот, несмотря на все отчаяние и ужас, которыми были проникнуты те месяцы, в душе продолжала жить вера в будущее России, в ее предназначенность.
«Из бездны»
(Октябрь 1917)
Полночные вздулись воды,И ярость взметенных толпШатает имперский столпИ древние рушит своды.Ни выхода, ни огня…Времен исполнилась мера.Отчего же такая вераПереполняет меня?Для разума нет исхода,Но дух ему вопрекиИ в безднах чует росткиНеведомого всхода.Пусть бесы земных разрухКлубятся смерчем огромным –Ах, в самом косном и темном –Пленен мировой дух!Бичами страстей гонимы –Распятые серафимыЗаточены в плоть:Их жалит горящим жалом,Торопит гореть Господь.Я вижу в большом и маломВодовороты комет…Из бездны – со дна паденья,Благословляю цветеньеТвое – всестрастной свет!«Родина»
«Каждый побрел в свою сторону,И никто не спасет тебя».Слова Исайи, открывшиеся в ночь на 1918 г.И каждый прочь побрел, вздыхая,К твоим призывам глух и нем.И ты лежишь в крови, нагая,Изранена, изнемогая,И не защищена никем.Еще томит, не покидая,Сквозь жаркий бред и сон – твояМечта в страданьи изжитаяИ не осуществленная…Еще безумит хмель свободыТвои взметенные народыИ не окончена борьба –Но ты уж знаешь в просветленьи,Что правда Славии – в смиреньи,В непротивлении раба;Что искус дан тебе суровый:Благословить свои оковы,В темнице простираясь ниц,И правды восприять ХристовойОт грешников и от блудниц;Что, как молитвенные дымы,Темны и неисповедимыТвои последние пути,Что не допустят с них сойтиСторожевые Серафимы.Память невольно искала аналогий судьбам России в истории падений и разрушений других империй и останавливалась, конечно, на Риме.
В половине шестого века, одного из самых темных и печальных веков, которые переживало человечество, был один изумительный по смыслу и значению момент. Рим, уже не однажды разграбленный варварами, но еще сохранивший нетронутыми свои стены, здания и храмы, был на сорок дней совершенно оставлен своим народонаселением. Это было после вторичного взятия Рима готским королем Тотилой. Это было моментом перелома истории Рима. До этого он управлялся последними остатками сенаторских фамилий. Во время этого бегства они исчезают бесследно и, когда население Рима возвращается на свои пепелища, то власть естественно переходит в руки римского епископа – папы. Эти сорок дней безлюдья и запустенья отделяют императорский Рим от Рима папского, который постепенно вырастает из развалин и вновь подымается до мирового владычества, на этот раз духовного.
Избрание Патриарха в октябрьские дни в Москве, когда окончательно были смыты и унесены последние остатки царской власти, невольно приводило сознание к этой исторической аналогии и внушило идею стихотворения:
«Преосуществление»
Postquam devastationem XL aut amplius dies Roma fuit ita desolata, ut nemo ibi hominum, nisi bestiae moriuntur.
Marcellini CommentariiВ глухую ночь шестого века,Когда был мир и Рим простертПеред лицом Германских ордИ Гот теснил и грабил Грека,И грудь земли и мрамор плитГудели топотом копыт,И лишь монах, писавший«Акты Остготских королей», следилС высот оснеженной Соракты,Как на равнине средь могилБродил огонь и клубы дыма,И конницы взметали прахНа желтых Тибрския берегах, –В те дни все населенье РимаТотила приказал изгнать.И сорок дней был Рим безлюден.Лишь зверь бродил средь улиц. ЧуденВсе вековые отложеньяЗавоеваний и побед:Трофеи и обломки тронов,Священный Путь, где камень стертСтопами медных легионовИ торжествующих когорт,Водопроводы и, аркады,Неимоверные громады:Дворцов и ярусы колонн,Сжимая и тесня друг друга,Загромождая небосклонИ горизонт земного круга.И в этот безысходный час,Когда последний свет погасНа дне молчанья и забвенья,И древний Рим исчез во мгле,Свершалось преосуществленьеВсемирной власти на земле:Орлиная разжалась лапаИ выпал мир. И принял ПапаДержаву и престол воздвиг.И новый Рим процвел – велик,И необъятен, как стихия.Так семя, дабы прорасти,Должно истлеть…Истлей, Россия,И царством духа расцвети!В русской революции прежде всего поражает ее нелепость:
Социальная революция, претендующая на всемирное значение, разражается прежде всего и с наибольшей силой в той стране, где нет никаких причин для ее возникновения: в стране, где нет ни капитализма, ни рабочего класса.
Потому что нельзя же считать капиталистической страну, занимающую одну шестую всей суши земного шара, торговый оборот которой мог бы свободно уместиться, даже в годы расцвета ее промышленности, в кармане любого американского мильярдера.
Рабочий же класс, если он у нас и существовал в зачатом состоянии, то с началом Революции он перестал существовать совершенно, т. к. всякая фабричная промышленность у нас прекратилась.
Точно так же и земельного вопроса не может существовать в стране, которая обладает самым редким населением на земном шаре и самой обширной земельной территорией. Совершенно ясно, что тут дело идет вовсе не об переделе земель, а об нормальной колонизации великой русской и великой сибирской низменности, колонизации, которая идет уже в течение тысячелетий, которой исчерпывается вся русская история и которую нельзя разрешить одним росчерком пера и указом о конфискации помещичьих земель. С другой же стороны, дело идет о переведении сельского хозяйства на более высокую и интенсивную степень культуры, что и тоже неразрешимо революционным путем.
В России нет ни аграрного вопроса, ни буржуазии, ни пролетариата в точном смысле этих понятий. Между тем, именно у нас борьба между этими несуществующими величинами достигает высшей степени напряженности и ожесточения.
На наших глазах совершается великий исторический абсурд. Но… credo quia absurdum![6] В этом абсурде мы находим указание на провиденциальные пути России.
Темны и неисповедимыТвои последние путиИ не допустят с них сойтиСторожевые серафимы.Социальная революция грозит Европе, а не нам. В Европе столетиями подготовлены горючие и взрывчатые материалы для катастрофы. Из нее нет выхода, и она может окончиться полной и безвозвратной гибелью всей европейской культуры.
В психологическом отношении Россия представляет собою единственный выход из того тупика, который окончательно определился и замкнулся во время Европейской войны.
Как повальные болезни – оспа, дифтерит, холера, предотвращаются или ослабляются предохранительными прививками, так Россия – социально наиболее здоровая из европейских стран – совершает в настоящий момент жертвенный подвиг, принимая на себя примерное заболевание социальной революцией, чтобы, переболев ею, выработать иммунитет и предотвратить смертельный кризис болезни в Европе. Этот кризис, вероятно, наступит там очень скоро, будет ужасен, но благодаря России, европейская культура, быть может, переживет его благополучно.
С Россией произошло то же, что происходило с католическими святыми, которые переживали крестные муки Христа с такою полнотой веры, что сами удостаивались получить знаки распятия на руках и на ногах. Россия в лице своей революционной интеллигенции с такой полнотой религиозного чувства созерцала социальные язвы и будущую революцию Европы, что, сама не будучи распята, приняла своею плотью стигмы социальной революции. Русская Революция – это исключительно нервно-религиозное заболевание.
«Русская Революция»
Во имя грозного законаБратоубийственной войны,И воспаленны и красныПылают гневные знамена.Но жизнь и русская судьбаСмешали клички, стерли грани:Наш «пролетарий» – голытьба,А наши «буржуа» – мещане.А грозный демон – Капитал –Властитель фабрик, Князь заботы,Сущность отстоенной работы,Преображенная в кристалл, –Был нам неведом:нерадивыИ нищи средь богатств земли,Мы чрез столетья пронесли,Сохою ковыряя нивы,К земле нежадную любовь…России душу омрачая,Враждуют призраки, но кровьИз ран ее течет, живая.Не нам ли суждено изжитьПоследние судьбы Европы,Чтобы собой предотвратитьЕе погибельные тропы.Пусть бунт наш – бред, пусть дом наш – пуст.Пусть боль от наших ран – не наша.Но да не минет эта чашаЧужих страданий наших уст!И если встали между намиВсе гневы будущих времен –Мы все же грезим русский сонПод чуждыми нам именами.Тончайшей изо всех зараз, –Мечтой врачует мир Россия, –Ты, погибавшая не разИ воскресавшая стихия!Как некогда святой ФранцискВидал: разверзся солнца диск,И пясти рук и ног – РаспятыйЕму лучом пронзил трикраты –Так ты в молитвах принялаЧужих страстей, чужого злаКровоточащие стигматы.Мы вправе рассматривать совершающуюся революцию, как одно из глубочайших указаний о судьбе России и об ее всемирном служении.

