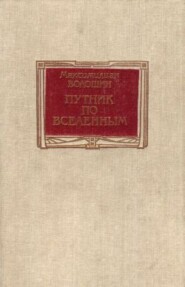 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Путник по вселенным
Мой день проходил в Екатеринодаре обычно – все утро в присутственных местах, канцеляриях и по генералам.
Из своих старых друзей я нашел здесь Лилю (Черубину) и Лемана{45}. Леман меня познакомил с геор<гиевским> генералом Верховским{46}, который и приютил меня в своей комнате, в каком-то военном общежитии, где жило много военных. Генерал был немного потерянный, одинокий, без присмотра, любивший выпить и для этого державший на солнце на подоконниках целые серии крепких и слабых настоек на горных и южных кавказских травах. Из более поздних екатеринодарских знакомых мне помнится министр гражданской юстиции – не помню его фамилии.
Не удалось мне совсем познакомиться с генералом Деникиным. Одну ночь мы провели в очень увлекательной беседе с м<исте>ром Гарольдом Вильямсом – мужем А. Н. Тырковой{47}, моим старым знакомым по Петербургу и по писательским кругам. Он говорил с увлечением и иронией о современных событиях в Европе и о гражданской войне в России. В разговоре с ним мы пили и выпили неумеренно несколько бутылок кавказского вина. У меня оно разразилось сильнейшим расстройством желудка, так что мне пришлось много раз бегать в туалет. Но все прошло так же быстро, как и началось.
Чтобы повидаться и получить аудиенцию у Деникина, я рассчитывал на Шульгина{48}. Но его в Екатеринодаре не было – он куда-то уехал с морской экспедицией. Проф<ессора> Новгородцева{49}, на которого я тоже рассчитывал, тоже не было на месте. Так что все мои лестницы для подъема к вершине власти оказались отсутствующими.
Судьба Маркса была такова: в первый вечер прибытия в Екатеринодар его поместили в какой-то, в обычное время, прекрасной гостинице, теперь отведенной под арестованных. Она была переполнена, и ему пришлось поместиться в каком-то коридоре. У него был припадок грудной жабы, и потому его на следующий день перевезли за город в тюремную больницу. Это было прекрасно.
[104]Тюремная больница была за городом. Это был широкий деревянный барак, окруженный дерев<янной> тюремной оградой, внутри которой было неск<олько> старых деревьев, которых вообще много в окрестностях Екатеринодара. Больные-заключенные проводили большую часть дня в этом саду. Екатерине Владимировне никто не препятствовал часами сидеть с мужем. Для Маркса открывалась широкая возможность человеческих наблюдений среди соарестованных – военных различных чинов, возрастов и судеб.
– Вот обратите внимание на этого Черномазова, – показывал он мне. – Это человек, пользующийся большим вниманием женщин: с ним вместе живет в тюрьме эта цыганка. Ее несколько раз силой выселяли отсюда. Но она перелезает через забор и снова здесь. Очень настойчива. И страстно его любит. И притом заметьте, у него очень страшная рана: пуля проникла ему в половые органы и совершенно лишила его мужских способностей. И вот, несмотря на это, такая неотвязная привязанность. Они все здесь ждут над собою суда и удивляются, почему мое дело идет так быстро.
Но, на мой взгляд, дело Маркса вовсе не шло быстро. Военно-полевой суд было очень трудно составить. Для того чтобы судить полного генерала, необходимо было, чтобы председательствовал в комиссии тоже полный генерал. Между тем в Добровольческой армии, при отсутствии чинопроизводства, полных генералов совсем не было. Генерал-майорами, генерал-лейтенантами хоть пруд пруди – а полных генералов – ни одного. Наконец наметили одного – старенького генерала Экка{50} (у нас с мамой когда-то жили летом его жена и дочь). Но его не было в Екатеринодаре.
Перед самым судом, не помню кто, мне посоветовал повидаться со священником – отцом Шабельским{51}, бывш<им> протопресвитером армии и флота. Я его навестил в той самой гостинице, где Маркс сидел сейчас же по прибытии в Екатеринодар. Мне удалось его заинтересовать судьбой и личностью Маркса. И он сейчас же поехал навестить Маркса в тюрьму. И потом по несколько раз подолгу видался с Екатериной Владимировной. Его очень поразила глубокая религиозность Маркса, и он обещал поговорить о его деле с Деникиным.
Незадолго до конца дела Маркса и моего пребывания в Екатеринодаре я устроил свой вечер (публичный) чтения моих стихов о Революции.
У меня уже давно были приготовлены статьи с описанием обстоятельств, которые вызвали написание всех моих стихотворений о Революции, так что я предварительно рассказывал, а потом читал стихи. Так же я выезжал в Ростов на три дня для того же. Останавливался у Кедровых, видел Т…кова{52}. Перешел с ним на «ты». Помню, как в Ростове я вспомнил и записал, сидя на скамеечке против городского сада, всего «Протопопа Аввакума».
Текста его со мной не было, а читать его было необходимо. Я дал его переписать по записанному мною – и русский текст оказался умопомрачительным. Барышня-машинистка вложила в свою работу всю свою добросовестность. Но мой почерк, карандаш и старинный звук XVII века дали эффекты невероятные. Через три дня меня вызвали обратной телеграммой в Екатеринодар. Сообщали, что суд над Марксом будет через несколько дней и что мое присутствие необходимо{53}.
Оказалось, что ставка переносится на днях в Таганрог, но это сопряжено с переселением всех судебных учреждений. Старика Экка – полного генерала – нашли и поторопились назначить суд до отъезда из Екатеринодара.
Деникина самого я так и не успел повидать, но меня познакомили с одним из его адъютантов – с франц<узской> фамилией, которую забыл, который взял передать мое письмо к генералу Деникину. На него можно было положиться без сомнений – человек был вполне честный и не русский{54}.
Но на суд ни мне, ни Екатерине Владимировне не удалось попасть. В этот день я пришел в отчаяние от задержек, собрался ехать восвояси. И я «отпросился» у Екатерины Владимировны вернуться в Коктебель. День отъезда был назначен. Но утром этого дня меня нашел посланный Ек<атериной> Владимировной, которая только что сама узнала о том, что суд будет сегодня. Об этом Марксу сообщили только что. И мы встретились в здании суда. Суд уже заседал, и мы расположились в коридоре у выходных дверей. И это было… незаконно.
[105]Я написал Деникину приблизительно такое письмо, которое было передано ему одновременно с приговором военно-полевого суда:
«Ваше Превосходительство, Вы получите это письмо одновременно с приговором военно-полевого суда, осуждающего генерала и профессора Н. А. Маркса, признанного судом, как работавшего вместе с большевиками, к 4 годам каторжных работ, что в его возрасте и при его состоянии здоровья равносильно смертному приговору. Так как дело это очень сложное и приговор в этом деле в некоторой степени является и приговором судящих над самими собою, принимая в соображение «приговор Истории», то считаю своим долгом сказать Вам несколько слов, т. к. я являлся свидетелем всего дела Маркса – и его работы у большевиков, и последующих его мытарств в пределах Доброволь<ческой> армии.
Я сам – поэт и человек абсолютно не военный, и потому никак не могу разбираться в чисто военной морали, но Маркс, кроме генерала, и профессор, и в качестве такового я знаю и понимаю всю его литературную и научную ценность. И в качестве такового он поступил на моих глазах так, как мог честный человек в его положении поступить – так, как, будучи в его положении, поступили бы (я думаю) Вы сами. Т. е. не отступал брать на свою ответственность трудную задачу управлений делами, например, просвещения, как раз в острый момент гражданской войны.
Вам, Ваше Превосх<одительство>, предстоит сейчас очень трудная и сложная задача: наказать, может быть, виновного генерала, в то же время не затронув и не отнимая у русской жизни очень талантливого и нужного ей профессора и ученого».
Деникин разрешил эту Соломонову задачу блестяще и мудро: он написал на приговоре: «Приговор утверждаю (т. е. лишение всех прав и разжалование). Подсудимого освободить немедленно»{55}.
[106]Маркс выехал позже меня в Ф<еодос>ию. Я его встретил уже там. Мы обедали вместе у Матвея Павловича Нич. Из этого обеда добровольцы, благодаря добровольному списку, сделали позже целую общественную демонстрацию. Рассказывали, что известного большого деятеля красного генерала Маркса жители Феодосии встретили с почетом, устроили ему банкет, где произносили речи в честь государственного изменника, помилованного Деникиным; а между тем, фактически, из гостей на обеде присутствовал только я. У меня был разговор с Екатериной Владимировной: «Когда мы выехали из Екатеринодара, весь поезд был переполнен офицерами. Сперва мы сидели тихо в тени. На нас не обращали внимание. Потом один из офицеров сказал громко на весь вагон: «Господа, с нами в одном вагоне едет известный изменник – ген<ерал> Маркс. Где он? Хотелось бы знать».
Тогда я подняла голос и сказала: «Да, он находится здесь. Это старый больной человек, измученный грудной жабой и военно-полевым судом, через который он только что прошел и который не осудил его. Что Вам до него?» От этих слов все успокоились, и любопытство к нам прекратилось».
На др<угой> день Маркс приехал к себе в Отузы и поселился в своем доме на берегу. Но отряды офицеров приезжали в дер<евню> Отузы и спрашивали: «А где у вас тут живет Маркс?» Кто-нибудь из верных татар вызывался проводить к его дому. Но пока они шли, заходя по дороге в винные подвалы, их мстительное настроение ослабевало, и когда они заплетающимися ногами доплетались до берега, то ни у кого не хватало темперамента самому «докончить изменника».
На меня это тоже распространялось: я не мог ни публично выступать, ни показываться на улице, на меня показывали пальцем и говорили: «Вот только благодаря Волошину нам не удалось расстрелять этого изменника Маркса».
В эти тяжелые и опасные времена единств<енные> люди, кот<орые> пришли ко мне на помощь, – это были феодосийск<ие> евреи. В то время Феодосия была убежищем для ряда еврейск<их> писателей, как молодежи, так и для пожилых и маститых, как Онеихи{56}, автора талантливых и разнообразных рассказов из хасидского быта. «Ребин» – это имя одного из хасидских ребби. Книга проникнута ясным духом хасидской мудрости. У евреев был собственный литературный кружок, который назывался «Унзер Винкль». Ко мне пришли представители этого кружка и сказали: «У вас, верно, сейчас очень трудные дни, вы, наверное, сидите без денег. Хотите, мы устроим для вас литературный вечер?»
Я, конечно, с радостью согласился. Это было для меня честью, потому что не евреи в «Унзер Винкль» не допускались. Чтения там бывали на древнееврейском языке или на жаргоне. И когда я начал серию своих стихов «Видение Иезекииля», то публика вся поднялась с места и пропела мне в ответ хором торжеств<енную> и унылую песнь на древнееврейском языке. А когда я спросил о значении этой песни, то мне объяснили, что этой песней обычно приветствуют только раввинов, а в моих стихах аудитория услыхала подлинный голос древнего иудейского пророка и потому приветствовала как равви.
Любопытно, мне рассказала Ася Цветаева, бывшая в толпе, что когда я пришел в залу вместе с Майей, то об нас томная еврейка, сидевшая за ее спиной, объясняла своей соседке: «А это наш известный поэт М. Волошин. И вы знаете – он женат на княгине Кудашевой…»{57}
Так я был почтен еврейской национальной гордостью и мои стихи о России, запрещенные при добровольцах так же, как позже они были запрещены при большевиках, впервые читались с эстрады в еврейском обществе «Унзер Винкль».
[107]Чтобы закончить историю Н. А. Маркса, мне остается написать несколько строк: я видел Никандра Александровича в Отузах – он сидел на пороге своей приморской дачи и стриг овцу.
Доходили угрожающие слухи об офицерск<их> отрядах, которые поклялись рассчитаться с ним собственноручно, раз нет правды в судах. Екатерина Владимировна волновалась, Маркс был спокоен внешне. Потом он получил приказ от тогдашнего Начальника Одесского и Таврического Округа Шнейдера{58} покинуть пределы его округа и в тот же день покинул Отузы и выехал на лошадях в Керчь, а оттуда переправился на лодке на ту сторону и поселился в Тамани. Там он прожил мирно до осени, когда туда прорвался красный кавалерийский отряд. Отряд в полном военном порядке подъехал к дому и предложил от имени Сов<етской> власти принять начальствование всеми частями Красн<ой> Армии, расположенными на Кубани. Он отказался, ссылаясь на то, что он по летам уже имеет право на отставку и войной больше не занимается принципиально. Но отряд на другой же день должен был отступить из Тамани, и Марксу пришлось уехать вместе с ним, т. к. от белых после этого предложения ему было невозможно ждать пощады. Месяцев пять ему, вместе с Екатериной Владимировной, пришлось скитаться, скрываясь по разным станицам, пока он снова не приехал в Екатеринодар. Первую зиму он давал уроки. А затем вокруг него сгруппировалась местная интеллигенция, и он был выбран ректором Екатеринодарского университета. На следующую зиму он умер от полученного воспаления легких и был с большим почетом похоронен в том самом сквере, куда выходило окнами здание того суда, где его с позором судили при белых. Это был 1921 год{59}. Я встретил Екатерину Владимировну в Феодосии во времена террора. Мы с чувством вспоминали недавнее прошлое и наше тревожное и горестное странствие в Екатеринодаре, и она мне рассказывала о его последних минутах. Потом в том же году она выехала к дочери за границу. Сперва в Вену, а потом в Латвию.
[108]В день приезда Маркса из Екатеринодара в Феодосию я был у Новинского весь день. У него тогда жила певица Анна Степовая, которая прекрасно пела популярную в те времена песенку: «Ботиночки». Под эту песенку, сделанную с большим вкусом, сдавались красным одни за другим все южные города: Харьков, Ростов, Одесса. В Степовую был влюблен одесский главнокомандующий ген<ерал> Шнейдер{60}. Меня Новинский уговорил остаться у него, чтобы познакомиться со Шнейдером, который хотел узнать мои стихи о России, которые уже были в те времена известны, но он еще их не читал. А вечером я должен был читать стихи на вечере в Яхт-Клубе, который устраивали местные офицеры в честь Шнейдера.
Так что мы пробыли с генералом все [время] после обеда. Это было после обеда с Марксом, о котором после распространили такие чудовищные слухи, как о антипатриотической демонстрации. И мы вечером отправились вместе с Шнейдером в Яхт-Клуб. Ко мне там сейчас же подошел Княжевич{61} и посоветовал дружески не читать стихов и удалиться, т. к. мое присутствие может вызвать враждебные демонстрации в связи с делом Маркса{62}.
Я ушел, не говоря ни слова и не упомянув, что только что пришел сюда с генералом Шнейдером, который пришел сюда именно слушать меня. Мне очень понравилось, что меня-то и удаляют с вечера, чтобы не вызвать его негодования на мое присутствие, – в то время, как он пришел именно, чтобы слушать меня. Не могу сейчас припомнить, как звали ту девушку, что была в то время прислугой Новинского и подругой Анны Алек. Степовой. Она готовилась тогда в сестры милосердия. Помню, как-то А. А. Нов<инский> привез ее в Коктебель и сказал: «Макс, мне бы хотелось, чтобы ты сделал с нею опыт ясновидения». Я отнекивался сначала. Потом согласился. Надо было в полночь удалиться в пустую комнату (это был мой кабинет в мастерской), и она смотрит в стакане, налитом водой, в обручальное кольцо, лежащее на дне. Я мысленно задал вопрос, что со мною будет через ½ года? Это, значит, был вопрос о декабре 1920 года. Она недолго посмотрела в стакан и сказала: «Вот, посмотрите сами – страшно ясно видно. Вы живете на берегу какой-то большой воды – моря или реки. Против вас на стене зелен<ь>. Жел<езная> дор<ога> проходит – видите, как паровоз бежит и сквозь дым вода блестит. Около Вас молодая женщина и с ней ребенок. На Вас похож – верно, ваш сын».
В тот момент я отнесся к этому ясновидению совершенно отрицательно. В то время – в декабре 1920 г<ода> – было страшное время. Шли сплошные расстрелы: вся жизнь была в пароксизме террора. Но спустя несколько месяцев, когда террор уже ослабел, а начинался голод, я встретил на улице ту девушку – сестру милосердия, которая показывала тогда сеанс ясновидения, и только тут сообразил, что, в сущности, все так и было, как она видела. Но толкование было неверно. Дом был домом Айвазовского. Молодая женщина – Майя. «Мой сын» – Дудука, действительно, несколько похож на меня{63}. Зелень – против моего окна была стена, густо увитая плющом. Жел<езная> дор<ога>, действительно, ходила мимо окон, и блестело море, и проч.
Но все это имело другой смысл, чем представлялось и мне, и ясновидящей. Эта точность меня так заинтересовала, что я спросил сестру милосердия: «А вы не могли бы посмотреть, что будет в городе через 3 месяца». Все в то время ждали в Феодосии «перемен». Одни ждали, что белые вернутся. Одни ждали прихода англичан, другие – французов. Словом, никто не ожидал, что серия ужасов, начавшаяся террором и продолжающаяся голодом, все растущим, потом будет продолжаться и развиваться. Через несколько дней я снова столкнулся с сестр<ой> мил<осердия>.
«Я смотрела, – прошептала она таинственно. – Перемена будет. На рейде – флот стоит: все иностранные корабли. В городе чужеземные войска в незнакомой форме. Много публики гуляет по Итальянской. Расстрелы [неразб. – Сост.]. Но сражения нет».
И опять повторилась та же история: никакой перемены не было, но все элементы картины увиденной было налицо. На рейде стояли многочисленные транспорты из Америки, привозившие кормовое зерно – кукурузу [неразб. – Сост.] для Поволжья{64}. Иностранная форма войск – была новой униформой милиции, которая была наряжена в новую форму с английскими погонами, для регулировки уличного движения, кот<орое> у нас заключалось в нескольких клячах, оставшихся на весь город и развозивших по оцепенелым улицам большие цинковые ящики с мертвецами, умершими от тифа, холеры, голода, которых свозили на кладбище, чтобы закопать в могилы.
О Мандельштаме, Эренбурге и других. Мое последнее пребывание в Париже
[109]Возвращаясь мысленно к той осени 1919 г<ода>, я вспоминаю, что у нас зимовали Мандельштам, Эренбург и Майя. Майя была с матерью. Мать – трогательная маленькая старушка-француженка. Среди зимы Майя узнала, что ее муж – Сережа Кудашев умер в армии на Кавказе от тифа{1}. Она за этими сведениями ездила в Феодосию, вернулась в многодневных слезах. С этой же эпохи нашла себе в городе урок у полковника Ревы – очень распространенная фамилия, но кот<орая> в Крыму произносится иначе: с ударением на первый слог: Рева. Такие были в Судаке в год [переполненных] подвалов{2}. Хотя этот урок относился скорее к весенним месяцам 1920 года.
Осенью 1919 года приезжала в Коктебель большая компания из Бусалака{3}. Среди которой была Маруся Заболоцкая{4}. Она была маленькая, стриженная после тифа, только что перенесенного, и производила впечатление больной «вертуном» овцы. Ее Котя Астафьев внес в дом на руках. Когда я спросил Асю Цветаеву{5}: «А кто это?» – она мне ответила полунебрежно: «Так – акушерка какая-то – подруга Ольги Васильевны».
По странной случайности, устраивая ночлег для гостей, я проводил ее и Ольгу Васильевну прямо в свой кабинет над мастерской.
Позже, при разговоре, когда я ее спрашивал о первом ее впечатлении Коктебеля и меня, она мне призналась, что видела меня таким, как обо мне говорили – без штанов – в длинном хитоне и венке из цветов. Впервые она услыхала обо мне, когда меня ругали при белых, как защитника Маркса. Но не отнеслась к этим осуждениям с доверием.
Майя всю осень 1919 года была бурно влюблена в Эренбурга, топилась, травилась и т. д. Весь ритуал майиной влюбленности. Она ездила в конце лета в Бусалак и со всеми уже там перезнакомилась. Увлеклась Валькой (Паничем){6}. И говорила мне со страстью: «Сперва все шло нормально – ее до 4-х лет одевали в мужской костюм, но после, когда ее одели в женское платье, – для нее началась трагедия. Как у Крафт-Эбинга в истории венгерск<их> евреев врачей»{7}.
Это была моя первая встреча с Марусей. После я с ней встретился опять, уже будучи больным, в санатории, в 1921 году – я помню, спускался по лестнице, очень высокой и длинной, на костылях, а она в то время проходила по набережной: шла из Камышей{8}.
После я ее встретил опять на той же набережной, всю в слезах – оказывается, в этот день убили ее любимую собаку Марсика. И, очевидно, съели. Она только что узнала об этом… Она мне тогда же говорила об Зелинских. Об Иосифе Викторовиче – отце Валька, который в те дни лежал больной в Феодосии в доме Экк, и просила навестить его.
[110]Вспоминаю зиму 1919-20 гг.
Воспомин<ания> о Мандельштаме{9}. Я не был в России, когда он приехал в Коктебель. Я был в Париже и помню мамино письмо: «Сейчас в твоей комнате живет молодой поэт Мандельштам. Ты его когда-то встречал в Петербурге»{10}. Помню эту встречу – это было у сестры Зинаид<ы> Венгеровой – Изабеллы Афанасьевны (певицы){11}. Там было нечто вроде именин<ного> приема – торты, пироги, люди в жакетах и смокингах. Сопровождая свою мать – толстую немолодую еврейку, там был мальчик с темными, сдвинутыми на переносицу глазами, с надменно откинутой головой, в черной курточке частной гимназии – вроде Поливановской – кажется, Тенишевской{12}.
Он держал себя очень независимо. В его независимости чувствовалось много застенчивости. «Вот растет будущий Брюсов», – формулировал я кому-то (Лиле?) свое впечатление. Он читал тогда свои стихи.
Он в том же мамином письме прислал в Париж свои cтихи{13}. Стихи были своеобразны, но мне не очень понравились, и я ему ничего не ответил.
После, в России, Иос<иф> Мандельштам <снова> появился на моем горизонте. У мамы к нему была необъяснимая сердечная слабость. Она его всегда дразнила, называла M
М<андельшта>м был часто невыразимо комичен: у мамы оставался курьезный умывальник в стиле эсмарховой кружки с короткой резиночкой и заворачивающимся краником. Прислуга его конфузилась. Помню, Домна (молодая болгарка), на вопрос мамы: «Что ты?» – закрывая рот платком, ответила: «…точно маленький мальчик». М<андельштам> приблизительно так же реагировал на этот умывальник, который стоял в его комнате, и просил не раз у мамы позволения обменять этот аптечный умывальник. Над ним после сжалилась Оля Оболенская{15}, отдала ему свой, а сама взяла его. А когда М<андельшта>м приходил в гости, то всегда втыкал в кран цветок, изображавший фиговый листок.
В ту зиму М<андельшта>м был влюблен в Майю. Однажды он просидел у нее в комнате довольно долго за полночь. Был настойчив. Не хотел уходить. Майя мне говорила: «Ты знаешь, он ужасно смешной и неожиданный. Когда я ему сказала, что я хочу спать и буду сейчас ложиться, он заявил, что теперь он не уйдет: «Вы меня скомпрометировали. Теперь за полночь. Я у Вас просидел подряд 8 часов. Все думают про нас… Я рискую потерять репутацию мужчины».
Крым в эту зиму был под властью белых.
Однажды М<андельшта>м вошел ко мне очень взволнованный.
«Макс Алекс<андрович>, сейчас за мной пришел какой-то казацкий есаул и хочет меня арестовать. Пойдемте со мной. Я боюсь исчезнуть неизвестно куда. Вы знаете, как белые относятся к евреям».
Мы с ним пошли на дачу Харламова, где он занимал комнату вместе с братом. У них сидел, действительно, пьяный казацкий есаул в страшной кавказской папахе и, поводя мутными глазами, говорил: «Так что, я нахожу, что у Вас бумаги не в порядке – и я Вас арестую». Этот есаул откуда-то свалился в деревню Коктебель и пил безвыходно несколько дней, а потом, спохватившись, нашелся: «Есть ли у Вас в Коктебеле жи́ды?» Крестьяне очень предупредительно ответили: «Как же – двое есть – у моря живут всю зиму – братья Мандельштамы».
Есаула тотчас же отправился к ним делать обыск. Он сидел посреди комнаты, икал во все стороны и рассматривал книги, случайно попавшие ему в руки.
«А это Е в а н г е л и е, моя любимая книга – я никогда с ним не расстаюсь», – говорил Мандельштам взволнованным голосом и вдруг вспомнил о моем присутствии и поспешил меня представить есаулу: «А это Волошин – местный дачевладелец. Знаете что? Арестуйте лучше его, чем меня». Это он говорил в полном забвении чувств.
На есаула это подействовало, и он сказал: «Хорошо. Я Вас арестую, если М<андельшта>м завтра не явится в Феодосию в 10 ч<асов> утра».
Учреждение, куда должны были явиться братья Мандельштам (не помню, как оно называлось), было учреждение, которым заведовал полк<овник> Цыгальский{16} – поэт и поклонник М<андельшта>ма.
Сам Осип Эм<ильевич> находился в таком забвении чувств, что, вернувшись к нам в дом, обнаружил у себя в руке ключ от Майиной комнаты, который бессознательно зажал у себя в руке.
Он уезжал вместе с Эренбургом в Батум. Ему эту поездку устраивал милейший Александр Алексан<дро>вич, порт<овый> начальник.
В конце лета О<сип> Э<мильевич> обратился ко мне с просьбой:
«Мак<с> Алек<сандрович>, наверно у Вас в библиотеке найдется итальянский текст Данта. Одолжите мне, пожалуйста».
Я пошел наверх, в кабинет, искать. А он, между тем, говорил Наташе Верховецкой{17}: «Ну, не удивлюсь, если Макс Ал<ександрович> будет теперь долго искать своего Данта – я сам его года три назад завез в Петербург и там позабыл». – «Но как же вы его теперь просите?» – «Но ведь хорошая библиотека не может быть без Divina Comedia в оригинале – я думаю, что М. А. за эти годы успел себе выписать новый экземпляр».



