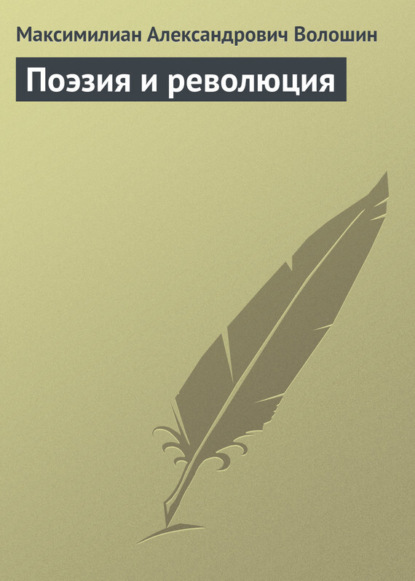 Полная версия
Полная версияПоэзия и революция
И когда судьба, после десятилетней эмиграции, которую он начал почти ребенком, кинула его в Бэдлам освобожденной России, то действительность не показалась ему страшнее видений, как это часто бывает. И он не отступил перед ней. Невидимый дирижер политических шабашей поставил его послухом и очевидцем всех безумий и неистовств Революции: он привел его в Петербург в дни Июльского восстания, и снова привел его туда в Корниловские дни; он кинул его в октябрьскую Москву. И поэт сумел найти слова, грубые, страшные и равносильные тому, что он видел, и сплавить единым всепобеждающим чувством.
Все стихи Эренбурга построены вокруг двух идей, еще недавно столь захватанных, испошленных и скомпрометированных, что вся русская интеллигенция сторонилась от них. Это идея Родины и идея Церкви. Толькотеперь в пафосе национальной гибели началось их очищение. И ни у кого из современных поэтов эти воскресающие слова не сказались с такой исступленной и захватывающей силой, как у Эренбурга. Никто из русских поэтов не почувствовал с такой глубиной гибели родины, как этот Еврей, от рождения лишенный родины, которого старая Россия объявила политическим преступником, когда ему едва минуло 15 лет, который десять лет провел среди морального и духовного распада русской эмиграции; никто из русских поэтов не почувствовал с такой полнотой идеи церкви, как этой Иудей, отошедший от Иудейства, много бродивший около католицизма и не связавший себя с православием. Да, очевидно, надо было быть совершенно лишенным родины и церкви, чтобы дать этим идеям в минуту гибели ту силу тоски и чувства, которых не нашлось у поэтов, пресыщенных ими.
«Еврей не имеет права писать такие стихи», – пришлось мне однажды слышать восклицание по поводу поэм Эренбурга. И мне оно показалось высшей похвалой его поэзии. Да! – он не имел никакого права писать такие стихи об России, но он взял себе это право и осуществил его с такой силой, как никто из тех, кто был наделен всей полнотой прав.
Так бывает всегда!
Посмотрим же, как молится об России поэт, не имеющий права о ней молиться. Первое стихотворение, по имени которого названа вся книга, названо «Молитва о России».
Срединным произведением книги является поэма «Судный день», – то есть октябрьские дни в России.
Она начинается сурово средневековым, почти церковным возглашением:
– «Детям скажете». Это отчет, который поколение Брестского Мира должно будет дать своим потомкам.
– «Детям скажете: когда с полей Галиции, зализывая язвы, она бежала еще живая – мы могли, как прежде, грустить и веселиться…
Детям скажете: к весне она хотела привстать. Мы кричали: пляши, ей, Дунька! Это мы нарядили болящую мать в красное трико площадной плясуньи. Лето пришло – она стонала, рукой не могла шевельнуть. Мы били ее – кто мужицким кнутом, кто палочкой: Ну смейся! Веселенькой – будь! Ты первая в мире – ух упирается дохлая! Живей на канат и пляши в нашем цирке – все тебе хлопают! Детям скажете: Мы жили до и после. Ее на месте лобном еще живой мы видали – скажете: осенью тысяча девятьсот семнадцатого года мы ее распяли».
Этими жестокими, энергичными и краткими словами формулируя отношение Революции к «Родине-Матери», Эренбург переходит к октябрьским событиям: «Октябрь всех покрыл своим туманом»… Кто же были эти они (то есть опять те же «двенадцать»)?
– «Были среди них храбрые, молодые, упрямые, они шли и жадно пили отравленный воздух, будто не на смерть шли, а только сорвать золотые звезды, чтоб они на земле цвели. Были обманутые… Были трусливые… Были исступленные, как звери… Были усталые, бездомные, голодные, у которых в душе только смерть… Вел их на страшный приступ Дед балаганный»… – И тут вдруг встает неожиданное сродство с поэмой Блока:
– Когда на Невском шут скомандовал «направо!» и толпа разлилась по Дворцовой площади, – слышно было, Кто-то взывал среди ночи: «Савл! Савл!»
Эти слова Христа, обращенные к своему гонителю, который глубже, чем кто-либо из людей на земле, несет Его в своей душе, – сильнее, глубже и шире финала блоковской поэмы.
Последующие строки настолько сильны в своем реалистическом пафосе, что их можно привести только целиком:
Еще многие руки – пусть слабые! –Сжимали невидимый ларь,Где хранилась честь Российской Державы.«Чего зря болтать!., ставь пулеметы! жарь!..»В Зимнем Дворце, среди пошлой мебели,Среди царских портретов в чехлах,Пока вожди еще бредили,В последний час,Бедные куцые девушки,В огромных шинелях,Когда все предали,Умереть за нее хотели –За Россию.Кричала толпа:«Распни ее!»Уж матросы взбегали по лестницам:«Сучьи дети! Всех перебьем!Ишь бабы! Экая нечисть заводится!..»А они перед смертьюЕще слышали колыханье победных знаменНыне усопшей Родины…«Ей, тащи девку! Разложим бедненькую!На всех хватит! Черт с тобой!»– «Это будет последнийИ решительный бой»…Пушки гремели. Свистели пули.Добивали раненых. Сжигали строения.Потом всё стихло. Прости, Господи!Только краснела на заплеванных улицах,Средь окурков и семячекРусская кровь.Затем следует описание похоронного шабаша над поруганным трупом матери: «По всем проводам сновали вести – они уничтожены. Мы победители! В снежных пустынях Сибири, Урала, проволоки пели – „да здравствует Циммервальд!“».
А наборщики складывают те же пять букв: «Убит! убит!». Где-то в Аткарске в маленьком домике мать оплакивает убитого сына: «Мишенька, миленький!»… В Туле Иванов третий день морит тараканов, выпил чай, перекрестил рот – «Экстренные телеграммы! Новый переворот!»
Народы с севера и с юга – кричат: Рвите ее! она мертва!
И только на детской карте(И ее не будет больше)Слово «Россия» покрываетПолмира, и «Р» на Польше,А «я» у границ Китая.В Петербурге от запаха гари, крови и спирта кружится голова… Кто-то выбежал нагишом и орет: «Всемирная Революция». А вывески усмехаются мерзко: их позабыли снести: еще есть в Каире отель «Минерва», еще душатся в Париже духами «Коти». А на улицах пусто. Стреляет кто-то. Еще стреляет… Зачем? Где ты, Родина? Ответь! – Не зови… не проси… не требуй… дай одно – умереть…
И вот открывается символическая картина похорон Матери-России: за гробом идет один старикашка пьяный в потертом вицмундире и вопит: «Да приидет Царствие Твое!». Потом спотыкнулся, упал, плюнул. «Мамочка, оступился!..
Эх, еще б одну рюмочку!»… И картина прерывается исступленным криком поэта: «Выдумаете, хоронят девку, пройти б стороной! Стойте. И пойте все вы „со святыми упокой!“».
Поэма кончается своими начальными словами, которые теперь звучат с суровостью и непреложностью смертного приговора:
– «Детям скажете: Осенью тысяча девятьсот семнадцатого года мы ее распяли».
Только один из политических поэтов приходит на память, когда читаешь поэмы Эренбурга, и это, конечно, вовсе не поэт «Кар» и «Страшного Года» – слишком красноречивый Виктор Гюго, а тот суровый и жестокий поэт шестнадцатого века, который кричал свои поэмы – «устами своих ран»; тот, кто описал Варфоломеевскую ночь с натуры: я говорю об Агриппе д'Обинье. Нужно обратиться к «Les Tragiques», чтобы найти нечто равносильное «Судному дню» Эренбурга. Варфоломеевская ночь д'Обинье, написанная поэтом, спасшимся из бойни и еще покрытым ее кровью, своими гневными метафорами и пригвождающим сарказмом напоминает Эренбурга. Перечитайте-ка то место, где придворные дамы, полупричесанные и разгоряченные, смотрят рано утром сквозь окна Лувра на Сену, несущую обнаженные трупы, и делающие сальные замечания об их телосложении, перечтите описание того двора, прогуливающегося по «обнаженным внутренностям Франции».
Роднит Эренбурга с д'Обинье то, что оба они «из расы иудейских аскетов, троглодитов, пожирателей саранчи, которые выходят иногда из своих пещер и появляются на оргиях с челом, посыпанным пеплом, и с анафемой на устах». В них обоих звучит голос Библии. Но в то время как для д'Обинье очищение мира совершается только в пламенах Страшного Суда, для Эренбурга, для которого земная жизнь и есть Ад, а человеческие страсти и есть его пламена, – разрешение обид земных совершается в Сердце Христовом, которое есть – Церковь.
Эта идея, проникающая всю книгу, свое наиболее конкретное воплощение находит в ее последней поэме – «Как Антип за хозяином бегал».
– К ужину Антип малость выпил и скушно стало Антипу. Говорит хозяину: «Это не ханжа – одна пакость. Пойду послушать, что люди болтают, а то полезу драться». Пришел в балаган. У всех морды красные. Сидят барышни, точно в бане парятся. И как выскочит один очкастый – уж кричать нет сил, только хрипит: товарищи! И пошел на голове плясать. Кубарем, да и в щелку пролез – тоненький, а уж злой! Вскочил Антип: «Правильно! понял я! Тесно мне! Мать их! долой!» Побежал домой к хозяину: «Иван Васильевич, я теперь все понимаю!» Я тебя нюхал давеча – пахнешь ты чудесно, ну, а мне не нравится, и вообще тесно мне! Что ты смотришь боком? На прощанье присел бы – потому прирезать тебя придется, ничего не поделаешь! Ах, Иван Васильевич, вместе мы жили, что жили – пили!.. А теперь нельзя! Вместе никак не поместимся! Я ведь говорю тебе по-Божески, плачу я… Ах, Иван Васильевич! Пойду поточить ножик – шея у тебя того, жилистая…
В этих, как бы шуточных, образах Эренбург вскрывает глубочайшие психологические черты чисто русской социальной справедливости, отмеченные еще историческим анекдотом о старушке помещице, которую крестьяне очень любили – «мать родная»! – и тем не менее попросили Пугачева ее повесить, чтобы было по справедливости, – «как у всех».
– «Хозяин, как был в одних порточках, – продолжает Эренбург свою притчу, – вон из дому, да по Тверской. Антип за ним. – „Ишь черт! жить хочет! прыткий какой!“ Просит Иван Васильевич – „Задохся, отпусти меня, миленький. Будем жить с тобою вместе: что плохо пах – запахну по-новому, а тесно – так уж как-нибудь уместимся“. Слышать Антип не хочет. Так оба и скачут – за заставу в огороды, в поле чистое, глаза у них повылезли, будто рачьи, как псы языки повысунули. Устали. Захотелось пить. Антип кричит: „Хозяин, а хозяин! Мы, небось, бегаем с вечера, теперь отдохнуть полагается“. Сели под кустик. Попили воды студеной, Иван Васильевич даже расчувствовался: „Разве я, Антип, не понимаю? помирать мне надо, а жить вот как хочется!“… – „Правильно, хозяин, смотри не падай! Далеко не ускачешь ночью! Прирезать все равно придется, мы теперь с тобой враги… Был я давеча в этом цирке, так один объяснил – нету такой квартиры, дома такого нет на земле, нет такого места, чтобы мне, Антипу, не было с тобой, Иван Васильевич, тесно. А то по-хорошему жили бы – самому ведь хочется!.. Ну беги, да подтяни-ка порточки“».
Установив такой в своей сущности очень верный и точный в исторической перспективе взгляд на психологию борьбы русского пролетариата с буржуазией, Эренбург приводит своих героев, которым стало тесно жить на белом свете, к маленькому домику: «Домик маленький – сразу не заметишь – как скворечник, только птица пролезть и может, а на домике крестик, и сам он вроде храма Божьего, и поют не колокола – колокольчики. Говорит хозяин: „Зайдем, помолимся! нынче воскресенье, вот бегаешь, всё забудешь“».
Смеется Антип: «Что ты думаешь – вместе мы в этой клетке поместимся? Это церковь не для людей, а так, кажется, птичья или пчелиная, что ли»… Уговорил, полезли рядышком, будто братья, и вошли свободно. Антип оставил нож на паперти – как-то с ножом неудобно. Глядят: народу тьма тьмущая, кого только нету? А места еще больше – стоит церковь пустая, и будто ждать уже некого, а народ всё собирается.
Все здесь – воры, дамы, генералы, шлюхи, мужики, солдаты, детки малые, и вот Иван Васильича дочки, и отец Антипа припер из деревни, чудно очень, – ведь Тамбовской губернии, вот и очкастый, что ходил вверх ногами, стоит тихонький, точно вымытый, низко кланяется и глаза у него голубиные. Стало Антипу хорошо!.. Херувимская… и сердце его тает, тает, и нет ничего внутри, всё вынули, кто-то за него молится, кается, только слезы текут умильные… «Слушай, Иван Васильевич, какие мы с тобой были бедные! А ведь всё так просто – довольно набегались! Места на всех хватит, слава Тебе, Господи!»
Стихотворение оканчивается прекрасными строфами:
– Люди, вы еще думаете? – нет.Сердце, ты еще бьешься? – нет.Все думы, всё биенье, весь трепет –В себя вместила – одна за всех –Я – Церковь.Антип шепчет тихо:Вот и мы просветились.Ты думаешь, здесь Антип? – нет Антипа,И тебя здесь нет, Иван Васильевич!Ни моих, ни твоих, ни ихних,Ни очкастого из цирка –Но все мы… – а толком сказать не умею…Только пусто в моем сердцеИ стоит оно любовью доверху полное…Милые, пейте!..Этим экстазом слияния всех в едином кончается книга поэта – «не имеющего права молиться за Россию», книга, переполненная чувством и образами, книга, являющаяся первым преосуществлением в слове страшной русской разрухи, книга, на которую кровавый восемнадцатый год сможет сослаться, как на единственное свое оправдание.
15 октября 1918 г.Коктебель


