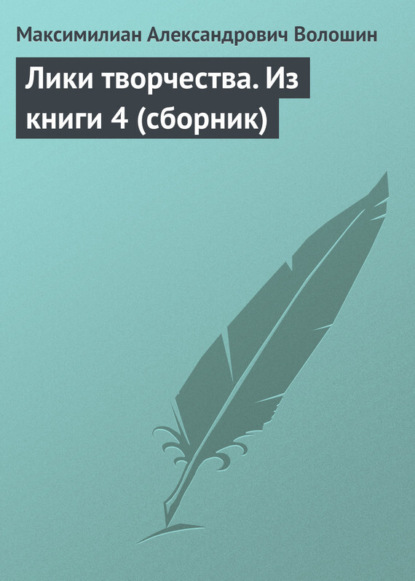 Полная версия
Полная версияЛики творчества. Из книги 4 (сборник)
Но я в «Земле» слышу только голоса различных человеческих принципов, но не вижу людей. Когда, закрыв глаза, я стараюсь вызвать перед собой картины и сцены этой драмы, то мне представляется картина Давида «Клятва в мячном зале». И не сама картина, а эскиз к ней. Все депутаты национального собрания изображены там в виде нагих академий, лица их едва намечены, но мускулы и вся анатомия тела выписаны тщательно, обще и однообразно, как если бы для всех них позировал один натурщик. Это лишь скелет картины: в нем нет еще индивидуальностей, но есть общая схема движений, каждое лицо уже стоит на своем месте и делает свой жест.
В героях «Земли» я вижу тоже лишь анатомию «тела вообще». Они расставлены на своих местах, и каждый сохраняет свою позу. У них нет лица, и их невозможно различить по именам. Это неизбежно. Когда текст драмы был уже вполне закончен, Брюсов еще не решил, какие дать имена своим героям. Найти возможные имена для последних людей на земле было очень трудною задачею, и он разрешил ее остроумно и логично, взяв древнейшие имена, дошедшие до нас, – имена племени майев. Эти имена звучат в «Земле» красиво, громко и естественно, придавая всему особый архаизм грядущего Но ни одно из действующих лиц не слилось со своим именем, ни одно имя не обозначает определенного характера.
Каждое живое «я» вырастает из своего имени, как из семени. Творцы новых человечеств в искусстве знают это глубже, чем кто-либо. Бальзак, столь дороживший каждой минутой своей кабинетной работы, когда начинал выяснять перед собой характер своего будущего романа, забрасывал перо на много дней и шел на улицу искать имен. Так бродил он целыми днями, читая вывески и прислушиваясь к говору, пока его глаза пли его слуха не касалось то сочетание звуков, которое могло стать именем для его героя. Тогда только мозг его мог приняться за творческую работу, и имя одевалось в плоть и кровь. Так же работал Гюго. Так же работает большинство беллетристов. Поэтому же те неопытные литераторы, которые на вопрос, отчего вы не пишете беллетристики? – наивно отвечают: «Я не умею дать имена своим героям», высказывают бессознательно одну из основных и таинственнейших истин творчества: создать – это назвать по имени.
– У героев «Земли» нет индивидуальности. Поэтому их «единый дух» хочется разрешить от условной множественности тел. То, что есть ценного и большого в «Земле», – это «единый дух» Брюсова, ее создавшего, – мощный лирический дух, который веет в речах о солнце, о разрушении города, в «гимне Смерти» и в последней патетической сцене гибели.
* * *Итак, вот итоги исследования моего о Брюсове как о «поэте Города».
Старому Городу он чужд всем своим духом, не понимает его жизни ш не умеет читать его символов. Город Будущего он строит по образцу ж подобию Старого Города. Но, не постигнув законов Старого Города, в Городе Будущего он обречен на то же незнание и непонимание, поэтому против сердца поет он ему гимны.
Истинным мощным поэтом – собою – становится он лишь тогда, когда призывает варваров к разрушению Города.
Если же в сивиллинском экстазе отдается он исступлению улицы, глаголящей его устами, то становится слепым, как Бальмонт, становится поэтом равно способным на пошлое и на гениальное.
Такому яростному врагу города не подобает имя «поэта города». Имя же «поэта улицы» для него слишком мелко, так как охватывает лишь небольшую, случайную, полусознательную область его широкого, четкого, дневного таланта.
«Ярь». Стихотворения Сергея Городецкого
«Ярь» – это прекрасное старое слово войдет снова в русский язык вместе с этой книгой. Редко можно встретить более полное и более согласное слияние имени с содержанием.
Ярь – это все, что ярко: ярость гнева, зеленая краска – ярь-медянка, ярый хмель, ярь – всходы весеннего сева, ярь – зеленый цвет.
Но самое древнее и глубокое значение слова Ярь – это производительные силы жизни, и древний бог Ярила властвовал над всей стихиею Яри.
Какое лучшее имя мог дать своей книге молодой фавн, написавший ее?
Что Сергей Городецкий молодой фавн, прибежавший из глубины скифских лесов, об этом я догадался еще раньше, чем он сам проговорился в своей книге:
Когда я фавном молодымНосил дриад в пустые гнезда…Это было ясно при первом взгляде на его худощавую и гибкую фигуру древнего юноши, на его широкую грудную кость, на его лесное лицо с пробивающимися усами и детски ясные, лукавые глаза. Волнистые и спутанные волосы падали теми характерными беспорядочными прядями, стиль которых хорошо передают античные изображения пленных варваров.
Огромный нос, скульптурный, смело очерченный и резко обсеченный на конце смелым движением резца сверху вниз, придавал его лицу нечто торжественно-птичье, делавшее его похожим на изображения египетского бога Тота, «трижды величайшего», изображавшегося с птичьей головой, которому принадлежали эпитеты «носатый», «достопочтенный Ибиси» и «павиан с блестящими волосами и приятной наружностью».
Та же птичья торжественность была и в поворотах его шеи, и в его мускулистых и узловатых пальцах, напоминавших и орлиные лапы, и руки врубелевского «Пана».
Но когда я видел его в глубине комнаты при вечернем освещении en face, то он напоминал мне поэтов двадцатых годов. Так я представлял себе молодого Мицкевича, с безусым лицом и чуть-чуть вьющимися бакенбардами около ушей.
А над его правым ухом таинственно приподымалась прядь густых волос, точно внимательное крыло, и во всей его фигуре и в голосе чувствовалась «Ярь непочатая – Богом зачатая».
«Ярь» открывается странной и необычайной космогонией мира, в которой звездное так слито с чревным, астрономия с биологией, что разделить их невозможно.
Я бы сказал, что это слияние было только у одного художника – у покойного Эжена Карриера. Но разница громадна. Карриер в сумеречной комнате и в движущихся людях видел звездные вихри и образующиеся миры, которые никогда не соприкоснутся друг к другу, в поцелуях матери ребенка, которым он придавал такую страстную безнадежность, чувствовалась бесконечная грусть последнего прикосновения млечной туманности к новообразовавшейся звезде, которая сейчас оторвется совсем и начнет свой одинокий бег в холодных пространствах вселенной.
Этой грусти совершенно нет у Городецкого. Он сам – молодая звезда, молодая вселенная, только что вышедшая из чьих-то чресл, хранящая воспоминание «чревных очей»; в нем еще жива «скорбь исхождения, путы утробные»; он полон весь ярою радостью найденного земного лика.
Семя родимое,Долго носимое –Ликом пребудь!Рожденный в мир, он произносит исповедание своей космической веры;
Я под солнцем беспечальнымВерю светам изначальным,Изливаемым во тьму.Сумрак – женское начало,Сумрак – вечное зачало.Верю свету и ему.Свет от света оторвется,В недра темные прольется,И пробудится яйцо.Хаос внуку улыбнется,И вселенной сопричтетсяНовозданное лицо.Человек или планетаПроведет земные лета,И опять спадет лицо,И вселенной улыбнетсяИ над хаосом сомкнётсяВозвращенное кольцо.Строфы, в которых веет древнею подлинностью и младенческим откровением.
Мне хочется поставить рядом с ними два стиха из «Книги Дзянов» (III, 2, 3).
«И возникает внезапный трепет и быстрым крылом своим задевает вселенную и семя скрытое во тьме. И тьма веет над спящими водами жизни.
Тьма излучает свет, и свет роняет одинокий луч в воды, в утробу матери. Луч пронизывает девственное Яйцо; дрожь охватывает вечное Яйцо, и оно источает смертное семя, которое сжимается в яйцо мира».
Я вполне убежден, что Сергей Городецкий никогда не читал «Книги Дзянов», так как это неминуемо сказалось бы в большей детальности и точности и лишило бы стихотворение этой подлинности первозданного мифа.
Но я думаю, что он знал о той Деве в «Калевале», которая «семь тысяч лет блуждала в пустынях неба. Лебедь опустился на лоно матери-воды, она приникла между крыл его и снесла семь яиц – шесть золотых и седьмое железное».
Мировая туманность и яйцо зарождений вполне тождественны для Городецкого. Солнечная вселенная для него чья-то утроба, в которой совершаются таинства Яри, таинства зачатий.
Глядя на млечный путь, он – вопрошает:
Этот круг немая млечность.Что за ним – уже не вечность,Не пространство… Что же? Что же?Не твое ли, Хаос, ложе?С кем лежишь ты неутомный,Светоотче, в дали темной?Но вот зарождение совершилось; наш мир – смертное семя первозданного девственного Яйца – застыл.
На мертвом телеВ коре чуть тлеющей землиПлоды багряные зарделиИ злаки тучные взошли.Зашевелились звери, гады,И человек завыл в лесу,Бросая алчущие взглядыНа первозданную красу.Солнце заблудилось в темнеющих пространствах мировых пустынь. Не кручинься, солнце:
За тобой на лугах зеленеющихЖизнь, живучая веснами синими.В яром сердце сына земли рождается пламень богоборства, протест против Отца, который почил на седьмой день и оставил мир однообразной смене рождений и смерти:
Упало семя – будет плод.Закат сменен восходом.Родился сын – рожден народ.Миг спеет годом.Сын богохульствует и проклинает:
Пусть тьма уродством изойдетВ просторы злые!Без звуков, светов и цветовОтцу да будет чадо:Горелых кубов и шаровШальное стадо.Но Адонаи отвечает:
Лоном ночи успокоен,Ты с утра ушел в дозор,И младенчески спокоенЯсновидящий твой взор……Все ли очи излучаютЛикованье бытия?Все ли чуют, все ли чают,Что в тебе светаю Я?Космический пролог «Яри» закончен, одинокая душа непримирима, но мир примирен и оправдан в душе поэта.
Развертывается многообразный и многоцветный мир явлений – буйная Ярь производительных сил природы: «от взора чревного земли до-взгляда нежного томленья».
Каждый стих книги проникнут великой чувственностью, но не той пряной чувственностью городского человека, как, например, у Пшибышевского, который имел безвкусие написать: «В начале бе пол», а яровой чувственностью вечных рождений, которые еще помнят путы утробные.
Чувственность в деревьях («Липа, нежное дерево – липа… и липовый ствол обнаженный») и в древних языческих жертвоприношениях, в той поэме, где творят новый идол Ярилы. Две жрицы «десятой весны» приносятся в жертву. Старый Ведун, переживший две тысячи лун, привязывает их к липовому стволу. Один удар топора в тело, другой в липовый ствол. «И кровавится ствол, – принимая лицо. – Вот черта – это нос – Вот дыра – это глаз. – В тело раз – В липу два. – Покраснела трава – Заалелся откос, – И у ног – В красных пятнах лежит Новый Бог».
В другом стихотворении, посвященном Яриле, – моление жриц: «И красны их лица, и спутан их волос, но звонок их голос». Слова их переходят в шаманское бормотанье, дикое и носящее характер какой-то доисторической подлинности, как кремневые топоры, каменные ножи и иглы из рыбных костей.
«Ярилу, Ярилу любу я. Ярила, Ярила, высокий Ярила – твоя я. Яри мя, Яри мя, очима сверкая».
Так же подлинно и «Рожество Ярилы», который рождается у бабы беспалой, – «ей всякое гоже, с любым по любови, со всяким вдвоем».
«Весною зеленой – У ярочки белой – Ягненок роженый, – У горленки сизой – Горленок ядреный, – У пегой кобылы – Яр-тур жеребенок, – У бабы беспалой – Невиданный малый: – От верха до низа – Рудой, пожелтелый, – Не, не золоченый – Ярила!».
Космогония продолжается. Родился мир – теперь рождаются жестокие человеческие боги. За богами идут люди. В «Девичьих песнях» Ярь непочатая – Богом зачатая и заложенная в человека, рвется наружу.
«Эх вы девки-однодневки, чем невестились? Тем ли пятнышком родимым, что на спинушке? Тем ли крестиком любимым – из осинушки?». Так поется у Городецкого в хлыстовской «Росянке», которая заканчивается стихами:
Ни зги в избенке серой,Пришел, пришел поилец.Темно от сизых крылец…Ой, дружки, в Бога веруй!Леса и поля кишат оборотнями, нежитью – предками человека. Там «жизней истраченных сход вечевой».
Там лешачиха сосет клен – «горечь понравилась, горькую пьет». «Пялится оком реснитчатым пращур в березовый ствол». «Штопать рогожи зеленые Щур на осину залез». «Прадед над елкой корячится». «Дед зеленя сторожит», старый филин гложет ветку – он был когда-то человеком, но убежал в лесную чащу.
Рыскал, двигал чернолесьем,Заливался лаем песьим…Серп серебряный повесил,Звезды числил, мерил, весил…И накрылся серой кожей,Чтоб возлечь на птичье ложе.В непосредственной связи с этими «предками», которые «в жизнь озираются, в нежить зовут», находится цикл «Чертяка», полный такого свежего и искреннего юмора, что невольно вспоминается Гоголь-юноша. Недаром лицо Городецкого при некоторых поворотах, когда пряди волос падают на уши, так напоминает проницательный профиль Гоголя. «Чертяка» носит характер такой неподдельности н жизненности, что с трудом удерживаешься от того, чтобы не спросить автора, не автобиография ли это. Античный фавн естественно становится русским чертякой по тому закону, который гласит, что боги наших предков становятся для нас нечистой силой.
Детство Чертяки было самое безнадежное – он был на побегушках в аду – «надо мной смеялся всякий, дергал хвост и ухо вил. Огневик лизал уста мне, Земляник душил на камне. Водяник в реке томил, ведьмы хилые ласкали, обнимали, целовали, угощали беленой»… «На посылках пожелтелый, я, от службы угорелый, угомона не знавал. Сколько ладану, иконок из пустых святых сторонок для других наворовал».
Когда Чертяка подрос, у него начинаются романы – он обольщает поповну: «Я сманил ее черникой, костяникой, голубикой за лесок на бугорок»…
Полюбила, заалелась,Вся хвосточком обвертелась,Завалилась на луга.Ненаглядный мой, приятный,Очень миленький, занятный.Где ты выпачкал рога?Между тем у попа в дому тревога. «Я ему трезвоню в ухо: -осрамила потаскуха, дочки глупой не жалей. Прогони жену за двери, так блудят шальные звери – ты ведь Божий иерей». И Чертяка в садическом упоении мечтает:
Вот уж завтра под осинойБуду в радости осинойЦеловать ее рубцы.Другая картина: – у Чертяки под корягой на болоте сидит мать с больным человечьим ребенком и просит Чертяку отпустить ее, а сама языком зализывает ранку ребенка.
Дальше влюбленный Чертяка сидит перед мельницей. Мельник выдал дочь замуж.
Сырость крадется по шерсти измятой,Хвост онемел, как чужой.В мокрой коряге под хатой проклятойВянет чертяка лесной.Но у Чертяки неисчерпаемая шаловливость и юмор. Он идет на богомолье к самому большому Черту – Адовику «поклониться, приложиться, у копытца помолиться, утолить печаль-тоску» и по дороге у прохожей богомолки выпрашивает на память крестик и, придя к Адовику, к общему скандалу и переполоху вытаскивает этот «колкий» крестик.
* * *Ярь, пронизавшая девственное яйцо мира, Ярь, процветшая растеньями и зверьми «в коре чуть тлеющей земли», Ярь, родившая жестоких богов, требующих крови, Ярь, пробившаяся в бессознательном трепете любви, Ярь, затаившаяся в лесных оборотнях, Ярь, вспыхнувшая веселым юмором в сердце игривого и безжалостного Чертяки, наконец доходит До города, до городских улиц и ползет и цветет едкою болезненною плесенью.
Отдел «Улица» мог быть написан только «Чертякою», маленьким стихийным духом, четко видящим поверхность действительности и в то же время чувствующим тайные течения яровых сил, скрытых под ней, знающим про каждого человека, «как это сделано». Тут целый ряд совершенно отрывочных, иногда до ужаса четких и острых картинок, слабо освещенных далекими лучами космического пролога «Яри».
Поглядывал, высматривал и щурился глазком:Позвольте познакомиться, я, кажется, знаком.Как под руку с молоденькой приятно погулять!Теперь столоначальника желал бы повстречать.Квартира холостецкая – живу невдалеке.Не будет ли браслеточка вам эта по руке?По улице проходят, исчезают десятки быстрых фигур, оставляющих на ретине зрачка четкий след, который горит еще несколько мгновений.
Кивая веками, встает.Лицо, распухшее от пьянства,И все еще не сытый рот.Девичий голос говорит:
На кладбище гуляли вдвоем.Как смешно завились у желанногоРыжеватые кудри кругом.Идет другая:
Продалась кому хотела,И вернулась. На щекахПудра пятнами белела,Волос липнул на висках.У кого-то умер муж. Она подошла к окну подвала, забрызганному весеннею грязью: «Подышать весной немножко, поглядеть на свет в окошко: ноги и дома. И по лужам разливаясь, задыхается, срываясь, алая кайма».
На «Смоленское» в конке едут старички и старушки поминать своих покойников, «взирая на столицу сквозь стекла и слезу»:
Краснеют густо щечки,Беззубый рот дрожит,На голые височкиСедая прядь бежит.И вот, в первый раз во всей книге, здесь – в городе – приходит Смерть: «Поднявши покрывало – Лицо мне показала. – Ужасен был изгиб – Одной брови над глазом. – Зрачок горел алмазом – И пук волос прилип – К сырому лбу. – В гробу – Кто лето пролежал, – Тот волосы так носит».
* * *«Ярь» заканчивается «Исходом» – исходом из городов, из человеческих пут, из индивидуальной замкнутости, призывом «расколдовать мироздание», «потревожить древний хаос»:
В хороводы, в хороводы,О соборуйтесь, народы,Звезды, звери, горы, воды!Книга кончена. Эта книга действительно Ярь русской поэзии, совсем новые и буйные силы, которые вырвались из самой глубины древнего творческого сознания; корни этих молодых побегов ютятся в самых недрах народного духа, и русская поэзия с полным правом может сказать молодому поэту:
Все ли чуют, все ли чают,Что в тебе светаю Я?«Стихотворения» Ивана Бунина
1903–1906. Изд. «Знания»
Когда ищешь примеров для освещения законов поэзии и искусства, то невольно обращаешься к французской литературе и к французской живописи.
Это не потому, что во французском искусстве была бы выражена полнее, чем где-либо, сущность человеческой души.
Наоборот – многое, что есть в нас, не только не выражено во французском искусстве, но даже органически недоступно восприятию латинского духа.
Нет, во французском искусстве есть всегда геометрическая упрощенность построений, которая облегчает задачи расчленения родов в искусстве; есть математическая схема, дающая строгий логический рисунок. Поэтому к французскому искусству мы прибегаем, как к школе.
Среди французских поэтов XIX столетия вполне точно наметились две группы: поэты-живописцы и поэты-музыканты.
Поэты романтической школы были живописцами. Музыки они не понимали и не любили.
«Из всех шумов музыка – это шум, наиболее неприятный и наиболее дорогой», – говорил, как передает легенда, Теофиль Готье. Но это не помешало ему (а может, даже и помогло) быть авторитетным музыкальным критиком.
Виктор Гюго мыслил образами. Представлявшуюся ему картину природы он искал раньше в быстром эскизе, сделанном тушью и кистью, а после облекал ее в слова.
Его литературные произведения можно шаг за тагом проследить в его рисунках.
Поэты «Парнаса» – Леконт де Лиль, Эредиа довели точность красочных свойств слова до крайних пределов.
Они писали густыми эмалевыми красками, подобными краскам Гю-става Моро.
Неведение музыки продолжалось до символистов.
Маллармэ и Верлэн поставили перед поэзией музыкальные задачи.
Маллармэ говорил:
«В наше время симфония заменила фреску».
Верлэн не любил рифмы, которую довели до совершенства Гюго в парнасцы.
Р. де Гурмон говорит про Гюго:
«Он берет два слова, далекие по значению, ударяет их друг об друга как кимвалы. И этим достигает смутного и величественного смысла».
А Верлэн говорил:
«Рифму, как пятикопеечную игрушку, надо выбросить за окно».
Символисты всю гармонию стиха из окончаний перенесли внутрь., создали сложную игру ассонансов, и естественно возник свободный стих.
В России это движение не было так раздельно.
И пластическая и звуковая сторона стиха развивалась одновременно.
Но музыка стиха лежит больше в характере русского языка, чем французского.
Поэтому инструментальная теория стиха, созданная Рене Гил ем, осталась теорией во Франции, а в России эти же идеи стали давно сущностью стиха, не будучи формулированы ни в одной теории.
* * *Это все вспоминается при чтении новой книги стихов И. Бунина.
Вся громадная работа музыкальных завоеваний в области русского-стиха совершенно чужда ему.
Будучи истинным и крупным поэтом, он стоит в стороне от общего движения в области русского стиха.
У него нет ритма, нет струящейся влаги стиха.
Стихи его, как тяжелые ожерелья из неровных кусочков самоцветных неотшлифованных камней.
Он рубит и чеканит свой стих честно и угрюмо.
Его мысль никогда не обволакивается в законченную и стройную строфу. Он ставит точку посреди стиха, подсекает полет ритма в. самом размахе.
Но с другой стороны, у него есть область, в которой он достиг конечных точек совершенства.
Это область чистой живописи, доведенной до тех крайних пределов, которые доступны стихии слова.
Большую часть книги занимают стихотворения, очень близкие тому тонкому и золотистому, чисто левптаковексшу письму, которым нам давно знаком автор «Листопада».
Застят ели черной хвоей запад,Золотой иконостас заката.Но наравне с этой светлою и ясною грустью русского пейзажа у Бунина есть живопись ночная, хмурая, в темных тонах прозрачного хрусталя, налитого талой водой.
Драгоценность книги Бунина – небольшая поэма «Сапсан». Поэма угрюмой зимней ночи – русской ночи. Это чистая, строгая живопись. Штрих за штрихом, тон за тоном – точно тяжелые свинцовые капли черного ночного дождя. Ни одной яркой краски, ни одного сияющего слова, но каждое слово полно неумолимой верности и точности. И из-за слов встает огромная мистическая неизбежность пустынной ночи.
Человек убил стервятника – сапсана. К нему стал ходить волк.
Быть может, он сегодня слышал,Как я, покинув кабинет,По темной спальне в залу вышел,Где в сумраке мерцал паркет,Где в окна небеса синели,А в черном небе четко всталЧернозеленый конус елиИ острый Сириус блистал?..… В безлюдье на равнине дикойМы оба знали, что живемЕе таинственной, великой,Зловещей чуткостью – вдвоем………….. И однойОбречены печальной доле:Стеречь друг друга в час ночной…Эта поэма как черный ствол одинокого дерева, с трагическим величием поднимающего свои короткие обнаженные ветви к серому небу. Остальные стихотворения – как опавшая разноцветная листва у его подножья.
* * *Большую часть книги занимают стихотворения восточные. Тут есть металлическая пышность и четкость сонетов Эредиа и та яркость красок, соединенная с законченностью пятен, которая поражает в константинопольских картинах Бревгинга. Но это все (несмотря на все живописные достоинства письма) восток внешний, восток форм и костюмов, тот стиль, который хочется назвать французским термином «orientale».
И только одно стихотворение из всей этой серии проникнуто для нас истинным откровением восточной души: это «Пастухи пустыни». В нем есть такие величественные, полные успокоением пустыни стихи:
Мы проводили солнце. Обувь скинем.И свершим под звездным темно-синимМилосердным небом свой намаз.Пастухи пустыни, что мы знаем!Мы как сказки детства вспоминаемМинареты наших отчих стран.Разверни же, Вечный, над пустынейНа вечерней тверди темно-синейКнигу звезд небесных – наш Коран!У Бунина нет корней в современной русской поэзии. Он стоит в стороне и ничем ей не обязан. Но у него есть глубокая органическая связь с русской прозой: с пейзажем Тургенева и с описаниями Чехова. Точно эта школа интимного пейзажа захотела сжаться, отчеканиться, закристаллизоваться в стихе Бунина. И если мы не находим в нем плавного струящего ритма, которым живут современные русские поэты, то в его прерывистости и неторопливости бесспорно получил стихотворное обобщение многоголосый ритм тургеневских и чеховских описаний.
«Зарево зорь»
Так называется последняя книга Бальмонта.
– Всем тем, в чьих глазах отразились мои Зори, отдаю я отсвет их очей, – говорит он на первой посвятительной странице этой книги.
Сколько их, этих Зорь? Этих отсветов?
Кажется, это – десятая или двенадцатая по числу книга его стихотворений… Но не все равно ли?
Сегодня в Петербурге торжественно, всероссийски празднуется 25-летний юбилей литературной деятельности Бальмонта…
– Quelle blague![2]
Разве можно говорить о «литературной деятельности» Бальмонта? Но я понимаю этот юбилей: это русская молодая поэзия празднует совершеннолетие; ей сегодня исполнилось двадцать пять лет.
Двадцать пять лет тому назад при звуке первых стихотворений Бальмонта она очнулась от того старческого сна, в который погружалась постепенно. Бальмонт был действительно заревом грядущих зорь… Мы – свидетели их.
Последние годы много говорилось о «падении» Бальмонта. Это так же неверно, как и то, что будто бы Бальмонт написал двадцать книг, что ему сорок пять лет, что он был влюблен «тысяча и три» раза…
Для Бальмонта нет времени, – того обычного времени, измеряемою минутами, днями и годами. Его время измеряется вечностью и мгновением. За эти двадцать пять лет он пережил только одно мгновение, создал только одно стихотворение, был влюблен только один раз.



