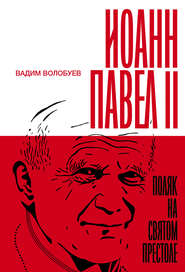скачать книгу бесплатно
Решать вопрос пришлось на уровне первосвященника. Тот, явно получив сигнал от Вышиньского (с которым был давно дружен), еще до открытия собора, 8 октября 1962 года, принял польских «братьев во Христе». В необычно долгой речи Иоанн XXIII вспомнил два своих визита в Польшу – в 1912 и 1929 годах, встречу с Сапегой, мессу перед черным распятием королевы Ядвиги в краковском соборе и молитву Богоматери Ченстоховской на Ясной Гуре, отдал должное творчеству Генрика Сенкевича, которого, оказывается, читал в детстве, и словно ненароком назвал западные польские земли «возвращенными», как это было принято в риторике Варшавы[309 - Szczypka J. Op. cit. S. 196.]. Последнее утверждение вызвало скандал в ФРГ, тем более неприятный для понтифика, что немецкое духовенство собиралось играть важную роль на предстоящем соборе, действуя в пользу обновления церкви. Иоанн XXIII, однако, проявил твердость и не дезавуировал свое заявление, да еще и ввел Вышиньского в состав арбитражного секретариата собора по чрезвычайным делам, тем самым поставив его вровень с важнейшими чинами курии. Его не остановили настойчивые сигналы из Польши (как со стороны антиклерикалов, так и со стороны некоторых католиков-мирян), что Вышиньский слишком увлекается культом Девы Марии и совсем не склонен впрягаться вместе с первосвященником в телегу церковной реформы (чего, впрочем, примас и не скрывал, уже на первой сессии встав на защиту латыни и старого требника).
В декабре 1963 года на стол понтифику легла программа фракции «Знак» касательно взаимоотношений Польши с Апостольской столицей. Не мудрствуя лукаво, католические депутаты предлагали Святому престолу установить дипломатические отношения с Польшей – это, мол, поправило бы положение католической церкви в стране и позволило бы активнее проводить реформу в самой церкви (которую сам примас якобы тормозил, как читалось между строк). Взгляд польского епископата на эту проблему при этом не принимался в расчет, что неудивительно – депутаты «Знака» прекрасно знали, что Вышиньский решительно против установления дипотношений. Почему? Потому что тогда в Польшу прибыл бы нунций, и правительство могло бы давить на клир через него. Обращение депутатов к римскому папе через голову польских епископов оказалось вдвойне бестактным, поскольку доставивший его в Рим католический депутат Станислав Стомма приехал, собственно, благодаря протекции Вышиньского[310 - Zaryn J. Op. cit. S. 228–229; Friszke A. Kolo poslоw «Znak» w Sejmie PRL. 1957–1976. Warszawa, 2002. S. 50–55.]. Иоанн XXIII не пошел на поводу у депутатов Сейма, а Вышиньский ославил Стомму на весь Рим как интригана.
Тем временем коллега Стоммы по фракции Ежи Завейский попытался воспользоваться благоприятным моментом, возникшим после встречи Иоанна XXIII с поляками, и сгладить острые углы между государством и церковью, тем более что польские власти, смягчившись, все-таки выдали загранпаспорта почти всем опальным епископам. Будучи членом Госсовета, Завейский имел доступ к правящей верхушке и сумел уломать Клишко, а вслед за ним – Гомулку, лично пообщаться с примасом. Общение это ни к чему не привело, разве что впервые польский клир смог ответить своим визави на страницах прессы – в ватиканской газете «Оссерваторе романо» («Римский обозреватель»)[311 - Dudek A., Gryz R. Op. cit. S. 209–213.].
В такой обстановке начался для польской делегации судьбоносный съезд руководства римско-католической церкви. Не менее напряженная ситуация складывалась и в мире. Если Первый Ватиканский собор заседал под грохот итальянских пушек, обстреливавших Рим, то Второй открылся в разгар Карибского кризиса, когда каждый день мог оказаться последним для человечества. Глобализация политики оттенялась глобализацией церкви. Более двух с половиной тысяч епископов, съехавшихся со всей планеты, впервые могли посмотреть друг на друга и воочию убедиться в размахе организации, которую представляли. Особенно сильное впечатление производили десятки африканских иерархов, бродивших по площади Святого Петра. Войтыла, пораженный видом чернокожих епископов, тут же написал об этом стихотворение:
Так вот каков ты, Милый Брат Мой, вижу землю твою затерянную,
Где обрываются реки… а солнце жжет тело, словно руду, – вижу мысль твою,
Иначе бегущую, но одними со мной весами отмеренную,
Счастлив я, что одною меркой меряем мы мысли свои,
Хоть иначе блестят они в твоих глазах, чем в моих, но истина в них одна[312 - Wojtyla K. Poezje i dramaty… S. 74. (Перевод мой. – В. Волобуев.)].
***
Второй Ватиканский собор – веха в истории католичества. Это был первый собор c участием представителей других деноминаций, а также епископов со всех континентов. Путеводной звездой для сторонников обновления служил образ раннего христианства с его простотой и отсутствием барьеров между клиром и мирянами. Та же мысль, между прочим, двигала когда-то и зачинателями Реформации.
Консерваторы приняли многие изменения в штыки. Они опасались, что допущение мессы на разных языках разрушит единство церкви, прежде скованное цепью латыни. Кроме того, боялись, что если верующие будут понимать каждое слово мессы, это изгонит из церкви дух благоговения перед божественной тайной, ранее доступной лишь посвященным. Не всем также нравился отказ от триумфализма (замалчивания грехов церкви) – страшились того, что многие священнослужители увлекутся обличением проступков клира, а это подорвет его авторитет (ситуация, знакомая коммунистам: разоблачение культа личности Сталина подкосило идеологическую монополию КПСС и положило начало международным расколам и оппозициям)[313 - Лекция Д. Бинцаровского «Второй Ватиканский собор. Ключевые решения» // URL: http://www.reformed.org.ua/2/699/Bintsarovskyi (Сайт Евангельской пресвитерианской церкви Украины «Реформатский взгляд»; дата обращения: 22.10.2016).].
Войтыла воспринял собор как долгожданный перелом в пользу воссоздания «народа Божьего», объединяющего пастырей и паству. В этом он расходился с Вышиньским, который считал, что поляки не готовы к такой церкви, и тревожился, что коммунисты могут воспользоваться замешательством, дабы ослабить епископат. Войтыла полагал иначе, разделяя в этом мнение своих друзей из «Знака»[314 - Zaryn J. Op. cit. S. 233–234.]. Да и могло ли быть иначе, когда покровителем собора был объявлен святой Иосиф, незримо сопровождавший Войтылу с самого детства? Сидя в базилике Святого Петра среди величайших реликвий христианства, наблюдая епископов, дискутирующих на фоне творений Микеланджело, Рафаэля, Кановы и Бернини, слушая папу, повторявшего евангельские строки: «Один Учитель у вас – Христос, все же вы – братья», он явственно видел, что вот он – момент, когда церковная суровость уступает место любви, той любви, которую принес на землю Мессия. И где это происходит? В месте, освященном казнями первомучеников: две тысячи лет назад именно здесь шумели сады Нерона, в которых пылали живые факелы из христиан, обвиненных в поджоге Рима. Разве не удивительно это? Там, где пролилась кровь страдальцев за учение Христово, теперь высился дворец наместника апостола Петра, главы католического мира. Чем не свидетельство торжества истины над силой?
Вот стена простая и ее фрагмент:
Без пилястров стройных, ряд глубоких ниш,
Где стоят святые в мраморном молчанье,
Статуи в порыве людям шлют Посыл,
Зримо исходящий из раскрытых книг.
И стене не в тягость своды, да и люди —
Узники скорлупок страждущих сердец.
Ей не в тягость пропасть, к коей мир сползает.
И так будет вечно на земле, покуда
Млеком материнским вскормлен человек[315 - Из цикла К. Войтылы «Церковь», изданного в журнале «Знак» в 1963 году. Перевод А. Махова.].
***
Польские представители 76 раз выступили в прениях и отправили 56 записок в соборные комиссии, из них на долю Войтылы пришлось 24 и 16 соответственно. Завидная активность! Земляков-иерархов так впечатлила его бурная деятельность, что со временем они доверили Войтыле право говорить от их имени[316 - Skrzypczak R. Op. cit. S. 19, 70; Zaryn J. Op. cit. S. 228.]. Вышиньский, правда, не терпел самодеятельности и пытался держать под контролем членов своей делегации, руководя ими, как полководец солдатами[317 - Lecomte B. Op. cit. S. 183.]. Однако, по воспоминаниям австрийского кардинала Кенига, примас не слишком забивал себе голову соборными делами, полагая куда более важным защищать позиции католичества в советском блоке. На его фоне Войтыла, хоть на первых порах несмелый и неуверенный в себе (Кениг поначалу даже принял его за простого ксендза), действительно выглядел очень солидно[318 - Szulc T. Op. cit. S. 212.].
Любопытно, что один из светских экспертов собора, Рамон Суграньес де Франч (почетный председатель Международного института Жака Маритена), которому довелось сидеть рядом с Войтылой на сессиях, отмечал, будто епископ вроде бы даже и не интересовался происходящим: «Собор не тронул его сердца. Хотя Войтыла регулярно присутствовал на заседаниях, он не проникся».
Как это понимать? Вероятно, такое впечатление возникло от того, что Войтыла постоянно что-то читал и делал заметки. Своему биографу Джорджу Вейгелу он признался, что прямо на заседаниях написал несколько стихотворений и часть своей главной философской работы – «Личность и поступок». Да и «Тыгодник повшехны» не оставался в небрежении, регулярно печатая размышления своего постоянного автора о событиях в Риме[319 - Skrzypczak R. Op. cit. S. 24; Weigel G. Swiadek… S. 222.]. Однако это не значит, что Войтыла не следил за выступлениями. Он умел делать несколько дел одновременно, что постоянно демонстрировал гостям в бытность архиепископом и понтификом, когда прямо во время разговора просматривал корреспонденцию. Эта манера нередко выводила из себя его собеседников, но Войтыла был неисправим[320 - Lecomte B. Op. cit. S. 237.].
Другим человеком, который недооценил вклад Войтылы, был знаменитый богослов Конгар. В начале собора он с пренебрежением отозвался в дневнике о приехавших поляках: «Они не смогли привезти с собой ни одного теолога, да и вообще не подготовлены, разве что самую малость». Речи же самого Войтылы «не произвели… особенного впечатления». Надо, однако, учесть, что Конгар вообще невысоко ставил восточноевропейских католиков, уверенный, что ничего путного от них не услышишь. Оно и немудрено, учитывая чрезвычайно скромное представительство на соборе католического клира из соцлагеря. Достаточно сказать, что Вышиньский был единственным кардиналом с той стороны «железного занавеса»! Де Любак и ряд иностранных епископов держались совершенно иного мнения о высказываниях Войтылы[321 - Skrzypczak R. Op. cit. S. 21–22, 78.].
Примечательно, однако, что и сам Вышиньский поначалу не обращал на Войтылу внимания. Он не включил его в список польских кандидатов для работы в соборных комиссиях, который составил в октябре 1962 года, а спустя четыре месяца забыл отметить его в перечне из сорока четырех иерархов, собиравшихся прибыть на вторую сессию. Ничего удивительного – первые две сессии Войтыла держался в тени, ограничиваясь выступлениями на мелкие темы. Лишь начиная с третьей (сентябрь – ноябрь 1964 года) его голос стал слышен[322 - Lecomte B. Op. cit. S. 229, 190–191. А. Дескур, напротив, утверждает, будто еще до открытия собора прелаты наперегонки спешили познакомиться с Войтылой, а все комиссии и подкомиссии считали за честь включить его в свой состав (Szulc T. Op. cit. S. 205–206). Вряд ли этому стоит верить – пример с мнимым пророчеством отца Пио показал, что старый приятель Иоанна Павла II был не чужд мифотворчества.].
***
Откуда же взялась в нем жажда обновления? Элементарно – из того же отсутствия нормальной семинарской муштры. Войтыла воспринимал церковь не как организацию, стоящую над суетным человечеством, а как сообщество пастырей, живущее в толще народной. Поэтому все, что отдаляло духовенство от паствы, он почитал лишним. Наложили отпечаток и его впечатления от послевоенной жизни в Польше и Западной Европе. Он видел, что сельская цивилизация уступает место городской и церковь должна приспособиться к этому, иначе ее перестанут слушать. Об этом он говорил в одной из лекций для учащихся папских вузов в октябре 1963 года[323 - Skrzypczak R. Op. cit. S. 78.].
В анкете для подготовительной комиссии собора он синтезировал те мысли, что в разрозненном виде были выражены на страницах его философских работ: о церкви как Божьем проекте по спасению людей; о человеческой природе, через постижение которой можно постичь природу церкви; о необходимости сделать основой этики персонализм, то есть личность человека как подобие личности Бога[324 - Ibid. S. 58–59. Немного странное мнение для человека, который осуждал Декарта именно за то, что тот вместо Бога сделал точкой отсчета человека. Но Войтыла, пожалуй, возразил бы на это, что Декарт видел в человеке прежде всего разум, в то время как он, Войтыла, видел в нем душу, то есть элемент божества. Неясно, правда, на каком основании Войтыла вообще заполнял анкету подготовительной комиссии – ауксилиариям она не полагалась (Szulc T. Op. cit. S. 204). Видимо, ему пришлось этим заняться из?за отсутствия в Кракове архиепископа.]. Вейгел подметил, что в своих предварительных постулатах Войтыла радикально отличался от большинства епископов: если те перечисляли, что должна сделать церковь для своего улучшения, то Войтыла призывал обратить внимание на то, что хотели бы услышать от церкви верующие[325 - Weigel G. Swiadek… S. 205.].
И в самом деле, если человек – подобие Божье, то почему только духовенство имеет право рассуждать о церковной миссии? В каждом из нас есть частичка Бога, и все мы можем принять участие в Его работе. Это называется персонализм. Тексты Войтылы пестрят ссылками на эту философию, не уточняя, правда, в чьем изложении. Персонализм для него означал восприятие действительности через восприятие человека, ибо именно в человеке происходит встреча церкви и мира. Церковь должна по-матерински, подобно Деве Марии, заботиться о человеке, дабы постичь его и наполнить благодатью Божией, человеку же следует осознать свое высшее предназначение, то есть стремление к святости. Много позже Войтыла скажет открыто: святой – это совсем не обязательно христианин, но тот, кто живет в соответствии с заповедями Божьими. Не случайно в «Любви и ответственности» оказалась ссылка на Ганди – яркий пример такого святого. Пока же Войтыла ограничивался заявлением, что Христос несет спасение всем жителям планеты, независимо от вероисповедания, а потому самые злосчастные люди на Земле – это атеисты, так как они не способны ощутить всю полноту своей природы, которую дает Искупитель[326 - Skrzypczak R. Op. cit. S. 105–110. Еще более резко он выскажет эту мысль в энциклике 1986 года Dominum et Vivifi cantem. Комментируя слова Христа о том, что «всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам» (Мф 12: 31), он напишет: «<…> хула заключается не в оскорблении Святого Духа, а в отказе принимать спасение, которое Бог дарует человеку через Святого Духа» (Dominum et Vivificantem – URL: http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/393. Портал ZiBaTePa. Дата обращения: 27.04.2018).].
***
Нельзя установить, к каким итоговым документам собора Войтыла имел прямое отношение. Журналист «Ле Монд», освещавший работу собора, утверждал, будто польский иерарх вместе с Кенигом и Августином Беа (председателем Секретариата по содействию христианскому единству) явился автором декларации «Nostra aetate» («В наш век»), признававшей ценность других мировых религий. Именно эта декларация расчистила путь католическому экуменизму, еще недавно находившемуся под запретом.
Экуменическое движение вызывало у Войтылы жгучий интерес. Уже в январе 1963 года он устроил в Кракове Неделю молитв за единство христиан (традиционное мероприятие европейских протестантов) и пригласил на обед в доминиканский монастырь лютеранского пастора и православного священника. Это был первый случай, когда представитель православного духовенства ступил на порог данного монастыря. «Когда-то здесь сидела инквизиция, а теперь вот мы», – не скрывая восторга, заметил настоятель. «А ко мне как явится доминиканин, так обязательно с курицей – то томистской, то экуменической», – сострил Войтыла[327 - Weigel G. Swiadek… S. 275.].
Спустя пять лет, в августе 1968 года, он посетит французское Тэзе, где встретится с основателем знаменитой экуменической общины братом Роже (Р. Л. Шюц-Марсошем) – швейцарским кальвинистом, создавшим особого рода монашеский орден, в рамках которого было возможно общение с католической церковью. Пройдет еще одиннадцать лет, и брат Роже скажет в базилике Святого Петра римскому папе Иоанну Павлу II: «Я обрел свою идентичность как христианин, примиряя в себе веру в мое происхождение с тайной католической веры, не нарушая общения с кем-либо»[328 - Magister S. Was the Founder of Taize protestant, or Catholic? A Cardinal Solves the Riddle // www.chiesa.espressonline.it (дата обращения: 17.11.2017).]. А спустя еще двадцать пять лет, когда этот подвижник падет от ножа сумасшедшей, погребальную церемонию будет вести католический кардинал в присутствии президента Германии и министра внутренних дел Франции. Так рождалась единая Европа – капризное дитя, которое еще добавит Иоанну Павлу II немало седых волос.
Профессор Свежавский предполагал, что Войтыла повлиял на содержание конституции «Lumen gentium» («Свет народам»), определявшей устройство церкви, права и обязанности ее членов. Именно этот документ обговаривал понятие «народа Божьего» и отмечал присутствие даров Христовых в других христианских церквях, хотя и подтверждал положение католицизма как единственной истинной веры[329 - По мнению Свежавского, Войтыла мог приложить руку к выработке новых представлений о пасхе как жертве Христовой, широко обсуждавшихся на соборе. Не берусь судить, в чем заключались эти новые представления: в тексте Lumen gentium ничего нового на этот счет вроде бы не сказано (см. текст на сайте библиотеки Якова Кротова, п. 3 – URL: http://krotov.info/acts/20/2vatican/dcmnt063.html. Дата обращения: 17.11.2017). Возможно, эта дискуссия имела какое-то отношение к вопросу, допускать ли мирян к причащению под обоими видами, но я не чувствую себя компетентным, чтобы рассуждать об этом.]. Исследователь жизни Войтылы ксендз Адам Бонецкий отметил, кроме того, что его герой – единственный среди участников собора, кто обратился к присутствующим со словами: «Достопочтенные отцы, братья и сестры!», подчеркнув тем самым участие в церковной жизни женщин. Это произошло в связи с дискуссией об апостольстве мирян, то есть о возможности светских лиц нести слово Божье, как это делал, например, Тырановский.
Войтыла отстаивал и декларацию о религиозной свободе «Dignitatis humanae» («Достоинство человеческой личности»), вокруг которой ломались копья на протяжении всех сессий: консерваторы никак не хотели признавать равенство конфессий в тех странах, где католики составляли подавляющее большинство. В итоге собор признал вопрос вероисповедания делом совести каждого, но при этом включил в декларацию требование свободы деятельности церкви – очень важный момент для духовенства из социалистического лагеря, где религиозные культы подавлялись. Войтыла вместе с коллегами из социалистических стран (лодзинским епископом Клепачем и епископом Цетиной из Скопье) добился также изменения формулировки, гласившей, что религиозные свободы могут быть ограничены соображениями общественного порядка, – это был постоянный аргумент польских властей при запрете тех или иных мероприятий церкви. Кроме того, он требовал, чтобы декларация исходила из нравственных, а не юридических норм, так как последние меняются, а первые – нет[330 - Skrzypczak R. Op. cit. S. 71, 94–95; История II Ватиканского собора. Т. IV. Соборная церковь. Третий период и перерыв между заседаниями. Сентябрь 1964 – сентябрь 1965. М., 2007. С. 129; Т. V. Собор – поворотный момент в истории церкви. Четвертый период и завершение собора. Сентябрь – декабрь 1965. М., 2010. С. 140.].
Свои идеи краковский епископ излагал в соборных речах и записках, подаваемых в комиссии. Сам он, в отличие от целого ряда других прелатов из Польши, долгое время ни в одну комиссию не входил. Так продолжалось до четвертой, последней, сессии собора, когда Войтылу за его активность включили в группу по разработке пастырской конституции о положении церкви в современном мире «Gaudium et spes» («Радость и надежда»). Именно здесь он и сделал себе имя. Что интересно, в комиссию вошел и Конгар, который в ходе ее работы совершенно изменил свое мнение о поляке: «Войтыла произвел прекрасное впечатление. У него доминирующая личность. В нем есть какая-то живость, магнетическая сила, пророческая мощь, полная покоя, которой невозможно противостоять»[331 - Skrzypczak R. Op. cit. S. 88.].
По свидетельству Конгара, Войтыла с подачи своих товарищей по епископату особенно налегал на то, что конституция должна дать ответ на вызов марксизма как одной из главных атеистических идеологий, – тема, которую авторы предварительного текста не обсуждали вообще, предпочтя говорить о социальной справедливости. Правда, Войтыла оказался не самым радикальным критиком атеизма. Он хотя бы проводил различие между атеизмом как личным выбором и навязанной идеологией. Куда более воинственными оказались те иерархи, которые пострадали от коммунистических репрессий (словаки Гнилица и Русняк, украинец Слипый). Они требовали посвятить отдельный раздел конституции осуждению коммунизма, но не нашли в этом понимания даже у Вышиньского с Войтылой, назвавших такое предложение «политиканством»[332 - История II Ватиканского собора. Т. V… С. 194–195; Lecomte B. Op. cit. S. 198–199.].
Воспользовавшись перерывом в заседаниях, Войтыла привез из Кракова уже готовый проект конституции, но его, к возмущению автора, почти целиком зарубили, так как он оказался несовместим с написанным подготовительной комиссией, хотя и вызвал большой интерес, поскольку более четко определял место и роль церковного учения в мире общества потребления (на Западе) и директивного атеизма (на Востоке). Зато мнение Войтылы учли при обсуждении раздела о браке и семье. Здесь он пользовался поддержкой де Любака, который, как и краковский архиепископ, увлекался персонализмом[333 - Skrzypczak R. Op. cit. S. 90–93; История II Ватиканского собора. Т. III. Сформировавшийся собор. Второй период и перерыв между сессиями. Сентябрь 1963 – сентябрь 1964. С. 518; Т. IV. Соборная церковь… С. 326, 650–651.]. Текст конституции был утвержден папой 7 декабря 1965 года.
***
Дискуссии о христианском отношении к личной жизни сподвигли Войтылу написать еще одну пьесу на эту тему – «Сияние отцовства», этакое продолжение предыдущей. Но если «Пред магазином ювелира» касалась, так сказать, горизонтальной связи в семье (муж – жена), то эта обратилась к вертикальной (родители – дети). В «Сиянии отцовства» Войтыла усилил черты «стиля рапсодов»: герои теперь в принципе были лишены индивидуальности, представляя собой обобщенные типы – «отец», «мать», «дочь» (хотя каждый имел имя). При этом автор соотнес персонажей с главнейшими фигурами христианства – Христом и Богородицей, что позволило наглядно изобразить ключевую мысль: земная жизнь должна быть отражением небесной. Примерно так же в свое время строились средневековые мистерии, показывавшие сразу несколько уровней происходящего. Войтыла, зная это, тоже назвал свое творение «мистерией» и предпослал эпиграфом строки из Первого послания апостола Иоанна: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном» (1 Ин 5: 7–8)[334 - Ныне эти слова считаются позднейшей вставкой и обычно не включаются в Новый Завет.].
О каком-то сюжете в этом произведении говорить сложно. Вся пьеса – размышления персонажей, обращенные к себе, к Богу и друг к другу. Здесь опять, как и в предыдущем произведении, появлялся герой по имени Адам, но теперь это уже был не альтер эго автора, а обычный человек, делавший свой жизненный выбор: впустить в себя Христа (что влекло большую ответственность перед родом человеческим) или остаться независимым и одиноким. Адам склонился в пользу одиночества, тем самым объединившись с образом того самого, первого Адама, от которого пошли все люди. «И вот нас двое в истории каждого человека: я, от которого начинается и родится одиночество, и Он, в коем одиночество пропадает, и рождаются дети»[335 - Wojtyla K. Promieniowanie ojcowstwa. Wroclaw, 2002. S. 16.].
Однако такая судьба показалась Адаму невыносимой, и он удочерил маленькую девочку, Монику, общение с которой заставило его пересмотреть взгляды на жизнь. Получалось, что всякий человек, дабы зачать детей, сам для начала должен ощутить себя чадом Божиим. А поскольку Христос, принесший на землю любовь, тоже был Богом Сыном, то каждый истинный отец как бы отождествляет себя с Ним и становится в позицию Бога, породившего себя. Эта головоломная концепция понадобилась Войтыле для обоснования его воззрений на родительскую любовь как продолжение любви небесной.
Журнал «Знак», куда Войтыла, как обычно, отнес свое творение, внезапно отверг его, и тогда автор представил сокращенную версию под названием «Размышления об отцовстве»[336 - Kolodziejska A. Op. cit. S. 123.]. Получился этакий монолог, обращенный к Богу, напоминающий не то «Исповедь» Августина, не то молитву Иоанна Креста, но уже без богородичного мотива, который присутствовал в полном варианте.
Рокко Буттильоне, написавший книгу о философии Войтылы, предположил, что «Размышления об отцовстве» первоначально являлись частью пьесы «Пред магазином ювелира», но автор убрал ее оттуда, чтобы не нарушать конструкцию произведения. Догадка неверна, но исступленная молитва Адама в «Размышлениях» действительно подошла бы одноименному персонажу предыдущей пьесы: всякий человек – сын Божий, и если он отрекается от Создателя, то тем самым теряет отца и впадает в одиночество. В «Размышлениях об отцовстве» Адам вспоминал свое стремление уподобиться Богу и стать господином природы, с раскаянием отмечая, что путь человека – не в преобразовании мира, а в развитии его собственной личности, которая может проявиться лишь через отношение к другой личности. Таким образом преодолевалось чувство одиночества, которое (тут Войтыла безапелляционен) свойственно всем людям, особенно же атеистам. Человек отчаянно ищет опору в этом мире: одни находят спасение в присоединении к массам (коммунисты), другие – в Боге. Но лишь Христос, сливаясь через любовь с человеческой личностью, в силах избавить человека от извечного одиночества, давая ему возможность стать одновременно отцом и чадом[337 - Buttiglione R. Op. cit. S. 360–362.].
«Разве мог я стать сыном? Не захотел я им быть. Не захотел принять страдания, к которым неминуемо приводит риск любви. Я считал, что не вынесу его. Слишком пристально я всматривался в себя, в свое я, и видел одни лишь возможности. Явился Твой Сын, а я по-прежнему – общий знаменатель внутреннего одиночества человека. Твой Сын решился в него проникнуть. Потому что Он любит. Одиночество противостоит любви. Однако там, где кончается одиночество, любовь проявляет себя в страдании. Твой Сын страдал. Потому что во всех нас сидит общий знаменатель непреобразованного одиночества. Для Тебя, Отче, это одиночество противится тому простому смыслу, который вкладываешь ты в слово „мое“»[338 - Перевод Е. Твердисловой.].
Здесь в зародыше видна та мысль, которая потом оформится в призыв: «Не бойтесь!», ставший одним из лозунгов понтификата Войтылы. Не бойтесь открыться Христу – не страдания Он несет, но любовь. И здесь же, кажется, невольно прорывается скрытая тоска самого Войтылы по заповеданному для него отцовству.
***
За литературными и богословскими занятиями Войтыла не забывал и о польских делах. В мае 1963 года, между первой и второй сессиями собора, он открыл на Вавеле памятную табличку в честь Адама Хмелёвского и Юзефа Калиновского – двух повстанцев, чье участие в восстании столетней давности, по его словам, «явилось этапом на пути к святости». А вернувшись в Рим, подал в Священную конгрегацию обрядов петицию за подписями всех польских епископов с просьбой канонизировать брата Альберта[339 - Weigel G. Swiadek… S. 204.]. Чуть позже поднял в Ватикане вопрос о канонизации Фаустины Ковальской и королевы Ядвиги – жены Владислава Ягайло.
Эпизод с открытием таблички – один из кусочков большой мозаики настроений, связанных с юбилеем восстания 1863 года. Годовщина явилась поводом для острой полемики в Польше между прагматиками из «Знака» и наследниками романтической традиции в церкви и в партии. В полемике этой, внешне имевшей чисто исторический характер, слышались актуальные политические нотки. В марте 1963 года Станислав Стомма на страницах «Тыгодника повшехного» резко прошелся по восстанию и его зачинщикам, заявив, что все эти восстания – бессмысленное пролитие крови и ничего больше. Каждый, кто читал эти строки, понимал, что депутат клеймит не столько давно почивших бунтарей, сколько тех, кто восторгался подвигом варшавских повстанцев 1944 года. Тем самым Стомма опосредованно защищал линию движения «Знак» с его неукоснительным следованием «реальной политике» и заигрыванием с партией – то, чего не могли простить «новым позитивистам» разного рода враги социалистического строя, особенно в эмиграции. Подобный взгляд на историю, между прочим, отразился в те годы и на польском кино, где Анджей Вайда и Анджей Мунк сняли несколько фильмов, разоблачавших безудержно патриотический взгляд на прошлое («Канал», «Летна», «Пепел», «Эроика», «Шесть превращений Яна Пищика»). По совпадению, схожие мысли проповедовал за рубежом и знаменитый писатель-эмигрант Витольд Гомбрович, высмеивавший штампы польского сознания (например, в «Трансатлантике»). Противоположную позицию занимал Вышиньский, который произнес 27 января 1963 года в варшавском костеле Святого Креста пламенную проповедь в честь борцов за свободу, закончив ее громогласным «Gloria victis!» («Слава побежденным!»). По иронии судьбы единомышленником примаса в этом вопросе оказался идеолог патриотического течения в партии писатель Збигнев Залусский, который годом раньше выпустил громкую книгу «Семь главных польских грехов», где брался защищать национальную традицию от нападок «очернителей». Войтыла, как видим, оказался в этом споре ближе к романтикам, чем к позитивистам[340 - Moskwa J. Op. cit. T. I. S. 257–260.].
***
Второй Ватиканский собор – место возрождения старых связей и завязывания новых знакомств. Именно здесь краковский епископ узнал многих из тех, кого он позже сделает кардиналами или наоборот, подвергнет проверке на ортодоксальность веры. В Риме Войтыла снова встретил своего научного руководителя Гарригу-Лагранжа, который выступал экспертом на соборе – одним из трех десятков, приглашенных папой. Довелось Войтыле пересечься и с товарищем по краковской семинарии Анджеем Дескуром – тот успел сделать солидную карьеру в Ватикане, получив должность в папской комиссии по вопросам СМИ. Но самая удивительная встреча произошла у него, собственно, не в рамках собора, а частным порядком – в Польский институт внезапно позвонил друг детства Ежи Клюгер! Оказалось, он уже восемь лет жил в Риме и занимался доставкой и наладкой транспортных средств. О Войтыле услышал случайно: прочел в газете о некоем епископе из Польши со знакомой фамилией и решил проверить, не тот ли это Войтыла, с которым они ходили по Бескидам. Кроме Клюгера, Войтыла встретил и другого знакомого по гимназии – Здислава Бернася, тоже ветерана битвы при Монте-Кассино, который после войны осел в Эболи, где работал дантистом. Еще один свидетель этой битвы, главный капеллан польской эмиграции Юзеф Гавлина, в ночь перед сражением служивший мессу в палатке-часовне, скончался как раз во время собора, в сентябре 1964 года. Его похороны превратились в настоящий слет польской эмиграции. Прибыли на церемонию прощания и участники собора из Польши. Обряд утверждения в должности сменщика Гавлины Владислава Рубина (еще одного выходца с кресов!) в римской церкви святого Станислава провел Кароль Войтыла – краковские ординарии традиционно считались опекунами этого храма[341 - Weigel G. Swiadek… S. 202; Szczypka J. Op. cit. S. 220–222.].
Не забыл Войтыла и отца Пио. Правда, на этот раз обратиться к монаху заставила беда. Уже много лет он дружил с психиатром Вандой Пултавской – бывшей узницей концлагеря Равенсбрюк, которая посвятила жизнь изучению семейной психологии. Как и Войтыла, яростная противница абортов, Пултавская с конца сороковых вращалась в одном с ним кругу: хорошо знала некоторых деятелей «Знака», водила знакомство с профессорами Ингарденом и Свежавским, переписывалась с ксендзом Тадеушем Федоровичем, которого власти рассматривали наравне с Войтылой в преемники краковского архиепископа Базяка. Федорович окормлял приют для слепых под Варшавой, а прежде был священником в одной львовской семинарии, перенесенной в Кальварию Зебжидовскую (он сам происходил из Львова и пережил казахстанскую ссылку, будучи дважды арестован НКВД). Видимо, в Кальварии он и сошелся с Войтылой, которого посоветовал Пултавской в качестве духовного наставника.
Их обоих, Войтылу и Пултавскую, занимал тогда один и тот же вопрос: что такое человек? Войтыла как раз начал вести курсы для молодежи в приходе святого Флориана, и Пултавская легко влилась в Сообщество. Но если прочие члены кружка называли ксендза дядей, то для нее он стал братом. Войтыла состоял в постоянной переписке с Пултавской и ее мужем. «Думаю, что самое потрясающее – это тот „личный“ контакт, который есть у Господа Бога со столькими созданиями, – писал он им по дороге на собор. – Личный – то есть контакт одной личности с другой. В человеческих отношениях это возможно лишь в малой доле, но даже и так человек с трудом извлекает из этого все личное содержание»[342 - Pоltawska W. Op. cit. S. 56.]. Голос Хуана де ла Круса слышится в этих строках!
Едва открылись заседания, Войтылу настигло страшное известие от «сестры» – у нее острые боли, врачи подозревают рак. Ему первому она призналась в этом (даже муж еще был не в курсе). Новость застала его между первым и вторым выступлениями на соборе, в ноябре 1962 года. Войтыла отправил «сестре» ободряющее письмо, по которому мы, между прочим, можем увидеть, как он совмещал веру в провидение и веру в науку: «Обязанность бороться за жизнь и здоровье ни в чем не противоречит… тому, что мы поручаем себя Господу Богу… Если по воле Божией будут исчерпаны все средства, тогда нам останется лишь молиться, но до того – нет»[343 - Ibid. S. 69.]. И сразу же, не откладывая, он написал стигматику-капуцину: «Преподобный отец! Прошу вас помолиться за сорокалетнюю мать четырех дочерей из Кракова в Польше (во время последней войны она пять лет находилась в концентрационном лагере в Германии). Ныне она тяжко больна раком и может потерять жизнь. Пусть же Пресвятая Дева ходатайствует за нее пред Богом, дабы Он проявил милосердие к ней и ее семье». Уже на следующий день сотрудник государственного секретариата Ватикана доставил это письмо адресату и по просьбе самого монаха зачитал его вслух. Отец Пио якобы промолвил: «Ему нельзя отказать» (об этом поведал сам сотрудник много лет спустя, когда Войтыла стал папой римским).
Такое внимание к письму какого-то поляка не может не удивлять. Неужели апулийский стигматик помнил Войтылу? Тут возможны два ответа. Либо Войтыла уже раньше писал ему, но письма не сохранились (один такой случай известен), либо монаха что-то взволновало именно в данной просьбе. Что же? Известно, что в тот период отец Пио опять оказался на прицеле у ватиканских чиновников: посетившая его в 1961 году комиссия понтифика оставила крайне неблагоприятный отчет о деятельности монаха, вследствие чего были введены ограничения на его корреспонденцию и общение с духовными дочерями. И вдруг – письмо от епископа! Может быть, потому капуцин и велел сохранить эту переписку в Риме, а не оставил при себе?[344 - Augustyn E. Op. cit. S. 37.]
Двадцать второго ноября, накануне операции, вдруг обнаружилось, что язва Пултавской зарубцевалась. Врачи были поражены. Двадцать восьмого об этом узнал Войтыла, позвонив в Краков, и в тот же день отправил новое письмо отцу Пио: «Преподобный отец! Женщина из Кракова в Польше, мать четырех дочерей, 21 ноября, еще до хирургической операции, неожиданно выздоровела. Благодарение Богу! Также и тебя, преподобный отец, сердечно благодарю от собственного имени, а также от имени ее мужа и всей семьи»[345 - Ibid. S. 33–35; Pоltawska W. Op. cit. S. 69–75.].
Чудо? Но что нам точно известно о случившемся? Те, кто имел отношение к событиям, описывали произошедшее спустя несколько десятилетий, а мы уже на примере разговора Войтылы с Василием Сиротенко имели случай убедиться, насколько причудлива наша память. Единственное, что мы знаем наверняка, – это острый приступ некой болезни у Пултавской и два письма Войтылы к отцу Пио (обнаруженные в Риме уже в девяностые годы, когда Иоанн Павел II начал процесс его канонизации). Несомненно одно – внезапное выздоровление «сестры» послужило Войтыле лишним подтверждением святости апулийского монаха.
***
Тем временем в Польше решалось, кто заменит покойного Базяка. Властям совсем не улыбалось получить во главе второй по значимости духовной кафедры воинствующего антикоммуниста. Они тщательно отслеживали все случаи нелояльных заявлений прелатов. Неоспоримым лидером по числу таких высказываний шел примас. За 1962 год, согласно данным Управления по делам вероисповеданий, Вышиньский позволил себе шестьдесят девять «враждебных» выступлений, в то время как шедший на втором месте секретарь епископата Хороманьский – лишь семнадцать[346 - Dudek A., Gryz R. Op. cit. S. 183–184.].
Главной задачей властей в таких обстоятельствах было провести на краковскую кафедру уступчивого иерарха, в идеале – оппонента примаса. Тут как нельзя кстати пришлось предложение депутата Стоммы поставить в Кракове Войтылу – об этом сам Стомма переговорил с Клишко. После того как Клишко дал согласие, дальнейшее оставалось делом техники. Вышиньский для порядка представил трех кандидатов, зная уже наверняка, что преемником Базяка станет Войтыла. Однако бюрократическая машина требовала соблюдать формальности, и даже такой могущественный человек, как Клишко, не мог отмахнуться от нее. Как полагается, правительство запросило мнение Управления по делам вероисповеданий и Административного отдела ЦК.
И там, и там о Войтыле отозвались достаточно холодно. Управление писало: «Его деятельность до сих пор не была в целом отмечена враждебными выступлениями. Он не ведет открытую борьбу с государственными органами. Пытается выглядеть епископом, стремящимся сохранять правильные отношения с государственными властями… Несмотря на это, его деятельность чрезвычайно вредна из?за продвижения так называемого апостольства мирян, а также из?за внутренней консолидации и усиления Церкви». Вместе с тем в Управлении отметили, что между Войтылой и Вышиньским имеются расхождения во взглядах: «Позиция открытого католицизма, продвигаемая епископом Войтылой, вызывает недоброжелательное, хотя не лишенное уважения, отношение Вышиньского к его личности»[347 - Moskwa J. Op. cit. T. I. S. 234–235.].
Административный же отдел написал следующее: «Епископ Войтыла без остатка предан делу Церкви. Как хороший организатор и человек очень способный, он один из всех епископов, пожалуй, в состоянии сплотить не только курию и епархиальный клир, но и часть интеллигенции и католической молодежи, в среде которой пользуется большим авторитетом. В отличие от многих других пастырей в епархии, он умеет налаживать отношения с монашескими орденами, которых там множество. Несмотря на видимую покладистость и гибкость в общении с государственными властями, он является чрезвычайно опасным идеологическим противником».
Вообще этот отчет был полон противоречий, проистекавших из отчаянного стремления чиновников угадать желание начальства. С одной стороны, авторы писали, что государство заинтересовано в повышении роли краковской епархии, и что Войтыла как никто подходит для этого, с другой же, предлагалось отвергнуть его кандидатуру. Утверждалось, будто примас не хотел видеть на краковской кафедре человека, имеющего шансы стать кардиналом, и тут же говорилось, что он-то и продвигает Войтылу, на которого именно поэтому смотрит с опаской[348 - Ibid. S. 236–237.]. В точности по Стругацким: «Он, научный консультант, не видит особенных причин откладывать рационализацию данного дела, но, с другой стороны, хотел бы оставить за собой право решительно протестовать против таковой»[349 - Стругацкий А., Стругацкий Б. Сказка о Тройке. СПб., 2001. С. 177.].
На всякий случай запросили также мнение краковского отдела по делам вероисповеданий. Заведующий этим отделом Леон Круль в ноябре 1963 года сообщил: «Негативная характеристика кс. еп. Войтылы не превышает реакционной позиции кс. еп. Стробы и кс. Федоровича (двух других претендентов. – В. В.) в отношении государственных властей… Как лояльное властям духовенство, так и члены Каритаса видят в получении краковской ординарии еп. Стробой или кс. Федоровичем серьезную опасность для развития свободной общественно-прогрессивной мысли, реализации государственных предписаний и для взаимоотношений между государственной властью и церковной администрацией. Эти священники утверждают, что на этом участке при руководстве кс. еп. Войтылы нет таких резких мер к данному духовенству либо запутанных распоряжений, чтобы духовенство не могло из них вырваться». По традиции, Круль упирал и на конфликты внутри епископата. Ссылаясь на краковских ксендзов, он утверждал, что «кардинал Вышиньский едва терпит еп. Войтылу. Кардинал не в восторге от его деятельности, особенно от уступок государственным властям и от той самостоятельности, к которой стремится еп. Войтыла».
Для подкрепления этой информации краковский отдел спустя несколько дней отправил наверх донесение, где было сказано, что во время рукоположения одного из епископов в Кракове Войтыла «очень холодно принял кардинала Вышиньского, не поприветствовал его лично и не выказал ему надлежащего уважения». Видимо, чиновники уже поняли, чего хочет руководство, и начали слать угодные ему данные.
Войтыла, очевидно, догадывался, какие страсти бушуют вокруг него. Волновался. 14 декабря 1963 года, выбравшись в перерыве между заседаниями собора в Святую землю, он снова написал отцу Пио, прося молиться за его «скромную особу», оказавшуюся перед лицом больших трудностей в пастырской работе. Кроме того, он попросил капуцина вознести молитвы за здоровье некой парализованной женщины и заодно благодарил стигматика за участие в жизни сына какого-то адвоката из Кракова, который, как и Пултавская, теперь тоже чувствовал себя лучше[350 - Augustyn E. Op. cit. S. 38–39.].
Святую землю Войтыла посетил не в одиночестве – туда отправилась целая делегация из нескольких десятков участников собора, как бы торя путь понтифику, который вскоре должен был последовать за ними (первый в новейшей истории международный визит римского папы). Возрождая исконную простоту церкви, слуги Господни спешили почерпнуть вдохновение в тех местах, где впервые прозвучало слово Мессии. Каир, Вифлеем, Иерусалим, Капернаум, Яффа, гора Фавор – маршрут поездки, напоминающей паломничество. В Наблусе Войтыла наконец-то увидел знаменитый колодец Иакова – место действия своей «Песни о блеске воды».
Спустя год он снова посетил Палестину и написал об этом поэму «Путешествие по Святой земле» – набор едва ритмизованных фраз с очень темным содержанием, напоминающий видения пустынников.
Мое паломничество – к подлинности. Не к камням, из которых
Сложен фундамент дома или мостовая, а может, печь.
Бывает подлинность пейзажа. Туда мой путь.
В места святые.
Гора Фавор: вид подлинности с высоты. Медленно вверх
Поднимается Галилея своими (сколько труда!) полями, каждым
Кибутцем, свечением своим он вечером напомнит о себе. Озноб
Заходящего солнца картину эту дополнит.
Генисаретские берега. Подлинность, когда находишься
В Капернауме, Вифсаиде иль Магдале. В мелкой прибрежной воде
Несколько камней найдешь, чтоб положить на рабочую руку
Рыбака над Нотецьей.
В простор войти и выйти из него.
Подлинность отдохновения.
Места единения скорее в нас самих, не на земле[351 - Перевод Е. Твердисловой.].
Девятнадцатого декабря 1963 года правительство Польши выдало санкцию на занятие Войтылой митрополичьей кафедры в Кракове. «Вот вы и получили, кого хотели», – подытожил Вышиньский в беседе со Свежавским, имея в виду польских сторонников церковной реформы[352 - Moskwa J. Op. cit. T. I. S. 248.].
В этой фразе действительно слышится некоторая неприязнь к Войтыле, который своим поведением, скажем прямо, не очень соответствовал образу архиепископа, да еще в такой важной епархии, ведь глава краковской кафедры имел право на дворянский титул как обладатель (пусть и номинальный) Северского княжества. А тут, изволите ли видеть, какой-то сын поручика, даже не благородного происхождения (впервые в истории), простецкий в одежде и общении, поэт, вдобавок приятель своевольных умников из «Знака» – нелепость!
Давали о себе знать и расхождения во взглядах на развитие католицизма. К примеру, Вышиньский и часть епископата холодно отнеслись к «оазисному» движению, инициированному ксендзом Франтишеком Бляхницким, в то время как Войтыла однозначно поддержал его – очевидно, под влиянием воспоминаний о «Живом розарии» Тырановского[353 - Zaryn J. Op. cit. S. 234.].
Бляхницкий являл собой пример ретивого неофита. В молодости атеист, он уверовал после того, как провел несколько месяцев в нацистской тюрьме. Известность к нему пришла благодаря активной кампании по борьбе с пьянством. Он организовал движение под названием «Крестовый поход за трезвость», но власти его запретили, а самого ксендза посадили на четыре месяца в тюрьму за создание «нелегальной организации». Там у Бляхницкого вышел характерный диалог с мелким вором, который в первый день с изумлением спросил священника: «Я-то здесь из?за водки, потому что украл по пьяной лавочке. А вы здесь из?за чего?» – «И я из?за водки, сын мой»[354 - Ibid. S. 193.].
В тот раз епископат решительно вступился за ксендза перед Управлением по делам вероисповеданий. Но вот «оазисное» движение, где приобщали к вере без участия священников, уже не нашло поддержки у примаса. Вышиньский с подозрением отнесся к этой инициативе, поскольку она не контролировалась церковью и слишком уж смахивала на протестантские образцы вербовки членов. Не помогло даже то, что сам Бляхницкий воспринимал ее как средство избавления страны от коммунистов и советского влияния[355 - Strzembosz T. Polacy w PRL: sprzeciw, opozycja, opor (Zachowania opozycyjne w systemie totalitarnym) // Arcana (Krakоw). 2000. № 5. S. 137.]. Войтыла, однако, всемерно одобрил работу энергичного ксендза, а в 1973 году в резиденции движения зачитал акт его передачи под опеку Непорочной Девы Марии, Матери Церкви[356 - Zaryn J. Op. cit. S. 194.].
Активно поддержал Войтыла и фестиваль религиозной песни sacrosong, инициированный ксендзом Яном Палюсиньским в 1969 году. Первый такой фестиваль прошел в Лодзи, а затем всякий раз менял место проведения. Когда очередь дошла до Кракова, Войтыла взялся лично организовать мероприятие[357 - Lecomte B. Op. cit. S. 240. В сентябре 1978 года, всего за несколько недель до исторического конклава, Войтыла открыл очередной sacrosong в Ченстохове. По совпадению второй приз на этом фестивале взяла песня «Эта слава всей жизни» на стихи Анджея Явеня, сиречь самого Войтылы.].
Его интронизация прошла 8 марта 1964 года. Он сам выбрал этот день – в память о своем знаменитом предшественнике, Винценте Кадлубеке, первом ученом и писателе из Польши, авторе исторической «Хроники», которая задала тон польской литературе на много веков вперед и в немалой степени определила самосознание поляков. По сей день поляки используют крылатые выражения из «Хроники», часто даже не догадываясь об их происхождении. Как раз в 1964 году отмечалось 200-летие канонизации Кадлубека, и перед посвящением Войтыла молился у его гроба в Енджееве, где этот видный представитель христианского гуманизма окончил свои дни 8 марта 1223 года, постригшись в монахи-цистерцианцы.
Ecce Sacerdos Magnus
qui in diebus suis placuit Deo[358 - Вот священник великий, который во дни свои угодил Господу (лат.).] —
прогремел антифон из «Литургии часов», когда Войтыла под звон «Сигизмунда» ступил под своды кафедрального собора на Вавеле, одетый в ризу из красного аксамита с ягеллонскими орлами понизу (вклад Анны Ягеллонки – жены Стефана Батория), с посохом времен Яна Собеского – победителя турок в великой битве под Веной в 1683 году. На пальце его тускло отсвечивал золотой перстень епископа XI века Мауруса, найденный археологами еще перед войной в вавельской крипте святого Леонарда – той самой, где Войтыла служил свою первую мессу. Грудь его закрывал драгоценный наперсник – символ могущества краковских архипастырей, одних из четырех ординариев в мире, которые имеют право на этот атрибут священства (кроме них, эту привилегию получили также владыки в Падерборне, Айхштетте и Нанси).
Было четвертое воскресенье Великого поста. «Мы рады тебе, – провозгласил глава капитула. – Кто-нибудь мог бы сказать, будто мы оттого так рады, что знаем твои способности, твой прекрасный ум, глубину твоего учения. Но в наших сердцах говорит больше та великая доброта, сколь неизмеримая, столь и простая, которая открывает сердца и привлекает их к себе». Затем произнес речь куриальный канцлер Миколай Кучковский. Именно ему довелось когда-то проводить клирика Войтылу из его дома в тайную семинарию, оберегая от гитлеровских патрулей. После речи Кучковского зачитали папские буллы и поздравление от Вышиньского. Снаружи Войтылу приветствовали красочно одетые делегаты со всей епархии и профессора из Люблина. Так прошла его интронизация[359 - Szczypka J. Op. cit. S. 215–217.].
***
Третьего июня 1963 года скончался Иоанн XXIII. Спустя три недели кардиналы избрали его преемником миланского архиепископа Джованни Монтини, взявшего имя Павла VI. Новый римский папа продолжил дело предшественника. Открывая вторую сессию вселенского собора, он обратился к другим деноминациям с просьбой о прощении, использовав фразу из Горация: «Veniam petimusque damusque vicissim» («Мы прощаем и сами просим прощения»)[360 - Skrzypczak R. Op. cit. S. 76. Цитата взята из «Науки поэзии» и в переводе М. Гаспарова звучит так: «Сам я беру и даю эту вольность охотно». Собственно, у Горация она значит: «Мы просим разрешения и сами, в свою очередь, даем его» (Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М., 1986. С. 821). Однако слово «venia» можно понять и как «снисхождение, прощение» (Там же. С. 810–811). Именно в этом значении его и использовал понтифик.]. Эти слова, столь неожиданные в устах главы католического мира, запали в память и сдвинули с мертвой точки дело христианского единства: римский первосвященник и приехавший на собор Константинопольский патриарх наконец-то, спустя почти тысячу лет, сняли друг с друга взаимные анафемы, когда-то вызвавшие раскол церкви на две части – католическую и православную.
Столь изумительный эффект вдохновил поляков на похожее свершение: спустя два года епископат Польши тоже произнес громкие слова Горация. На этот раз – обращаясь к немецким братьям по вере. И теперь уже это послание достигло слуха не только христианских иерархов, но и простых людей.
А начиналось все с церковной программы Великой Новенны, запущенной Вышиньским в 1956 году. Программа была рассчитана на десять лет и увенчивалась грандиозными мероприятиями в честь тысячелетия крещения Польши. Символическим стартом Великой Новенны явилось то самое паломничество к Черной Мадонне 26 августа 1956 года, когда местоблюститель архиепископского престола Михал Клепач зачитывал текст обета Деве Марии, написанный Вышиньским в изоляции.
Примас полагал, что именно в Польше решается судьба коммунизма: «Если Польша охристианится, превратится в большую моральную силу, коммунизм сам падет… Польша покажет всему миру, как управляться с коммунизмом, и весь мир будет ей за это благодарен». Программа Новенны превращалась таким образом в масштабное столкновение католичества с партией и вообще со всем социалистическим лагерем[361 - Czaczkowska E. K. Op. cit. S. 286.].
А тут еще подоспел собор – тоже переломный момент в истории церкви. Случайно ли так совпало – вселенский собор и тысячелетие крещения Польши? У Господа нет ничего случайного!
Собор закрывался в начале декабря 1965 года, а на следующий год как раз выпадал пресловутый юбилей, в честь чего польские иерархи пригласили всех католических епископов поучаствовать в торжествах. Обычный жест вежливости. Но в случае с немцами этот жест превратился в элемент политики. Обращение к ним составил тот самый епископ Коминек, которого не хотели выпускать из страны польские власти, обвиняя в прогерманских настроениях.
Немцы тоже шли на сближение. Хороший контакт установился у Вышиньского с мюнхенским архиепископом Юлиусом Депфнером, не устававшим повторять, что надо налаживать диалог. Именно Депфнер на пару с кельнским архиепископом Фрингсом сделал решающий шаг навстречу, когда в октябре 1963 года предложил полякам совместно выступить за канонизацию Максимилиана Кольбе – францисканского монаха, добровольно принявшего смерть в Аушвице ради спасения чужой жизни. Трудно было отыскать лучшую кандидатуру для символического примирения двух народов, чем этот полунемец-полуполяк, за которого уже давно ратовали францисканцы[362 - Zaryn J. Op. cit. S. 235; Raina P. Kardynal Wyszynski. Oredzie biskupоw a reakcja wladz. Warszawa, 2005. S. 9–10.].
Главной проблемой во взаимоотношениях двух народов оставался вопрос западной польской границы. Коминеку предстояло решить неподъемную задачу: как составить обращение, чтобы не обидеть ни одну из сторон? Разумеется, польские иерархи осознавали всю щекотливость своего положения. Они могли бы отделаться формальным приглашением, умолчав о расхождениях. Однако примас решил иначе. Когда, если не теперь, залечивать вековые раны, соединяясь в общей молитве? Поступая так, он действовал наперекор традициям польской церкви, которая обычно ставила во главу угла интересы нации, а уж потом евангельские заповеди. Но и времена наступили иные. Собор напомнил епископам, что все они – прежде всего братья во Христе. В эпоху глобальной церкви ютиться в национальных квартирах было уже не с руки. И Вышиньский принял этот вызов.
Составленное Коминеком обращение было выдержано в примирительном тоне. Оно подробно живописало, сколь многим поляки обязаны культурному влиянию немцев, не избегало трагических моментов взаимной истории, и выражало сочувствие тем жителям Германии, кого послевоенное изменение границ согнало с насиженных мест. Коминек вроде бы даже оправдывался перед немецкими пастырями, говоря, что после утраты восточных земель поляки не могут отказаться от новоприобретенных территорий, иначе страна опять скукожится до размеров генерал-губернаторства. Большую смелость надо было иметь, чтобы заявить такое во времена, когда всякое напоминание о кресах влекло подозрение в подрыве польско-советской дружбы, а следовательно – в государственной измене. И все же Коминек, а вслед за ним епископат, пошли на это, чтобы представить немецким епископам картину во всей полноте. Они не хотели спорить с ними, они пытались объяснить!
«И несмотря на все это, – говорилось в обращении, – несмотря на то что все мы обременены прошлым, именно в такой ситуации, достопочтенные Братья, призываем Вас: попытаемся забыть. Хватит полемики, хватит холодной войны! Пусть завяжется диалог, к которому стремятся Собор и папа Павел VI». И уже в самом конце прогремели знаменитые слова, которых никто не ждал: «Исполненные христианского, но вместе с тем человеческого духа, мы протягиваем Вам, сидящим на скамьях этого Собора, наши руки, прощаем Вас и сами просим прощения»[363 - Цит. по: Raina P. Kardynal Wyszynski… S. 23–24.]. Так слова древнего поэта, потрясшие католический мир двумя годами раньше, прозвучали вновь, чтобы потушить огонь вражды между двумя народами. И под ними подписались люди, прекрасно помнившие, как «высшая раса» старалась низвести их до положения рабов.
Войтыла был одним из немногих, кого примас допустил к редактуре текста. Более того, именно ему наравне с Коминеком Вышиньский доверил передать «Обращение» представителям немецкого духовенства перед его публикацией. Польские власти не были официально уведомлены о происходящем, что и понятно: контакты внутри церкви их не касались, церковь ведь отделена от государства. И все же, во избежание недоразумений, Коминек опосредованно поставил в известность свое правительство, передав текст «Обращения» римскому корреспонденту газеты «Трыбуна люду». Корреспондент заверил епископа, что у руководства страны нет претензий к иерархам. Но говорил ли он правду? Существует предположение, что амбициозный журналист изобразил дело таким образом, будто документ попал к нему окольным путем и вопреки воле епископата[364 - Dudek A., Gryz R. Op. cit. S. 218–219.].
Это письмо, исполненное евангельского духа, разожгло нешуточные страсти в Польше. Гомулка, ознакомившись с ним, впал в ярость. Как! Его сограждане посмели обратиться к немцам через голову дипломатического ведомства, да еще взялись рассуждать о государственной границе, будто не партия здесь решает, а они! Масла в огонь добавил сдержанный ответ немецкого епископата, в котором не было и речи о признании новых границ (что понятно, ведь иерархи не могли нарушить закон своей страны).
Немедленно с цепи были спущены пропагандистские псы. «Прощение? Примирение? – язвила популярнейшая газета „Жиче Варшавы“. – Ну да, мы охотно прощаем поляков и миримся с ними… при условии изменения границ и исправления вреда, нанесенного немцам. Диалог? Дискуссия? Охотно поболтаем, если все будет, как указано выше. Вот ответ, который получили из ФРГ авторы „Обращения“. Неужели они не понимают эту ситуацию? Или притворяются, будто не понимают?»[365 - Zaryn J. Op. cit. S. 239–240.]
Прелаты, только что вернувшиеся с собора, будто попали под ледяной душ. Все государственные СМИ принялись изощряться в обвинениях, изображая епископов чуть ли не слепым орудием германского реваншизма. Просить прощения у немцев? За что? За шестилетнюю оккупацию, гибель миллионов и разрушенную Варшаву? И кто уполномочил руководство клира говорить от лица всего народа? Такими вопросами задавались жители страны, потерявшей наибольший процент населения во Второй мировой.