
Полная версия:
Бахтарма

Арина Остромина, Юлия Комарова, Таня Манов, Максим Урманцев, Елена Шальнова, Наталья Славина, Елена Ивченко, Ольга Баринова, Екатерина Ильинская-Мораг, Екатерина Саможнева, Екатерина Казанкова, Светлана Волкова
Бахтарма
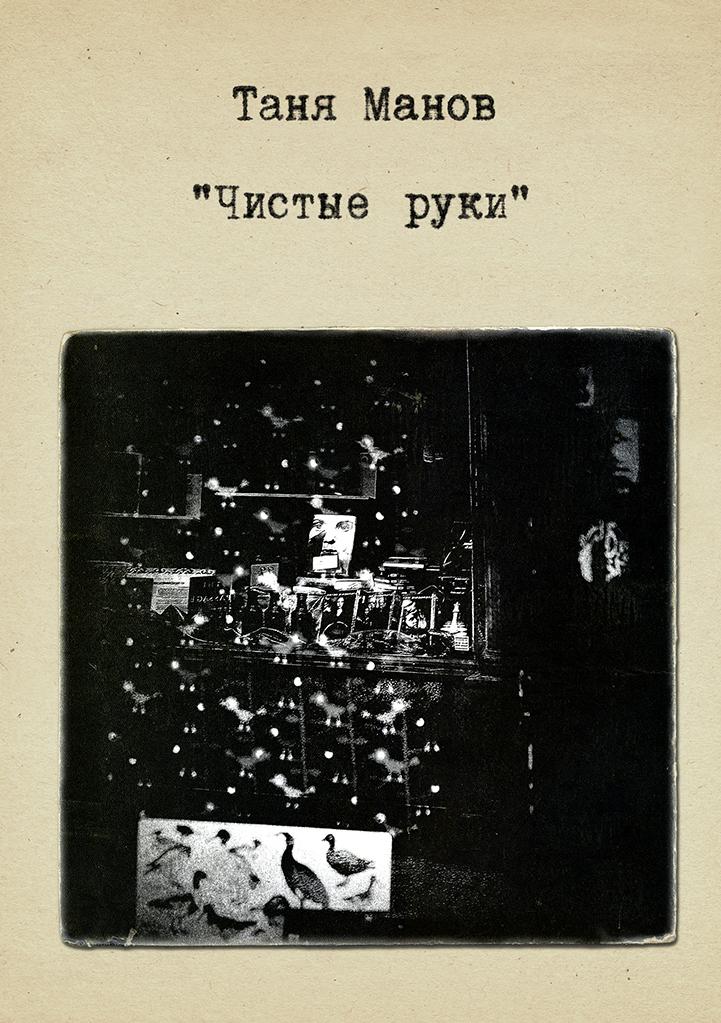
Таня Манов
Чистые руки
«В плюс: восемьсот за уборку, шесть тысяч пятьсот зарплата. В минус: тысяча пятьсот за жилье, шестьсот пятьдесят на садиковскую продленку, электричество, вода, выплата в больничную кассу, городской налог, телефон. Данькины штаны все короткие, а ботиночки, что Лиат отдала, великоваты, но это к лучшему, на зиму хватит. Но куртка… И тысяча четыреста – выплата за ссуду – чтоб он сдох, сволочь. А если снова карантин? Тогда шесть пятьсот убираем, три двести прибавляем – пособие. Не хватит, не хватит, не хватит…»
Привычные мысли заевшей пластинкой отщелкивают список, пункт за пунктом. Не дай бог забыть, упустить мельчайший должок: вырастет, раззявит пасть и сожрет их с Данькой, только косточки хрустнут.
Семь тридцать пять утра. Накрапывает. Улитки тянут блестящие нити от мокрых кустов к влажным стенам. В банкомате на углу осталось тридцать пять тысяч триста шекелей, у женщины в машине на перекрестке бриллиантовые серьги, в сумке – бутерброд с колбасой и йогурт.
Юлька чувствовала мир со всеми его скрытыми соблазнами. Так, не поднимая глаз от книги, знают – по зябкому касанию ночного сквозняка, что окно за спиной прикрыто неплотно, а по звонким редким шлепкам представляют капающий кран и миску в раковине. Радар Юлькиного желания сканировал пространство, выхватывая из бесцветных сумерек призывно рдеющую вожделенную добычу. Беззащитную – только помани – за любыми стенами, любыми дверьми.
Светофор загорелся зеленым, женщина уехала, увозя свой бутерброд и серьги. Юлька привычно подавила инстинкт, перевела внимание. Данька уже в садике, а ее ждет уборка в крохотной квартирке на Дизингофф. Старики-хозяева будут медленно шаркать из комнаты в кухню, и нужно вежливо улыбаться и делать вид, что она совсем не торопится. Зато предложат кофе с печеньем.
Желудок заурчал. Чем тревожнее денежные расчёты, тем злее голод, гудит и ревет, как пламя в топке. Свой бутерброд да остатки Данькиных хлопьев, и все мало. Вот бы в садике тарелки за детьми подчистить, может, наелась бы. Живо представилась громогласная Данькина воспитательница Сарит, объемистая тетка в бархатном тюрбане. Вот бы она закудахтала, застав «эту русскую», тайком подъедающую кускус с томатным соусом с детских тарелок!
Смешно, конечно, что Юра вернулся в Россию, а она, русская, застряла в Израиле. Ну, да какой выбор оставил ей муж, когда взял в банке ссуду на общий счет – пятьдесят долбаных тысяч! – и слился, оставив ее выплачивать долг? Долбаный супружеский долг.
В памяти привычно всплыл жаркий сонный день, роман Донны Тарт, который она читала, сидя за кассой, звонок из садика: почему не забираете ребенка? Юрин телефон не отвечал, ни тогда, и никогда больше. Дома ждала записка: «Юля, я возвращаюсь. С твоими способностями вы не пропадете. Привет Даньке!»
Привет Даньке. А потом привет из банка.
Просроченный кредит, минус на счету, муж выехал из страны. Официальных доходов – ее зарплата продавщицы в книжном. Юльке закрыли границу, и это было даже смешно. Будто бы им было, куда ехать.
Юля, сдвинув бесцветные брови, споро протирала мутное зеркало в ванной, пахнущей лекарствами. У свекрови вот так же квартира валерьянкой провоняла. И снова всплыла в памяти Юркина записка. С твоими способностями… Подлец. И проживем! Без способностей.
Зива, хозяйка, позвала пить кофе и, шаркая, побрела за деньгами, оставив Юлю наедине с мгновенно исчезнувшими крекерами. Сотка пахла нафталином, и так же пахли еще тысяча восемьсот на полке в скрипучем шкафу. Запах пропитал одежду: платья прежней пышной Зивы и костюм Шимона, оставленный на похороны, и альбом с фотографиями их старшего сына, погибшего на Шестидневной войне, и пожелтевший платочек – память о маме Шимми. Нафталин и тонкий, как давнее воспоминание, аромат духов, исчезающий, если распахнуть дверцы, и накапливающийся вновь в зыбкой темноте.
Пора было бежать, и Юля на мгновение замерла, чувствуя чужой дом, как уютный заношенный свитер на плечах: запах дождя из окна, картины на стенах, потертые золотые кольца в шкатулке, слои краски на дверях, как годичные кольца на дереве, застоявшаяся тишина гостиной, запылившиеся ботинки в шкафу и окаменелая мочалка под раковиной, хрустальные рюмки в серванте, а в узкой вазочке наверху – иссохшая моль. Она поманила тайком, вежливо улыбаясь хозяевам, и легчайший серый трупик рассыпался в пыль в ладони. А вазочку она через неделю протрет.
В десять ноль пять подняла решетку, закрывающую витрину русского книжного «Зеленая дверь». Переоделась в подсобке, включила чайник и день потянулся. Звякал колокольчик, спрашивали все больше детские книги. За окном декабрьский дождь неустанно лупил по тротуару, стекал с выгоревшего козырька над входом. Половина ноября да начало декабря – меньше месяца магазин открыт после второго карантина. Покупают мало, выручки с гулькин нос. Юля внимательно читала новостную статистику: сколько заболевших, сколько подключенных к аппаратам. С каждым днем все больше. Вот-вот снова страну закроют.
Первые месяцы карантина, с марта по апрель, они сидели с Данькой дома на пособие по безработице, и счастье еще, что банк заморозил временно выплаты по ссуде. Летом магазин с перебоями, но работал, а осенью снова пришлось уйти в отпуск без содержания. Все запасы, которые еще оставались у нее, иссякли. Вот она, безысходность, дышит за последней чертой.
Навязчивые мысли. Привычный гнетущий страх. А ведь у хозяина соседнего киоска в ящике за стойкой двадцать пять тысяч, розовой резиночкой для волос перехвачены. Юля чувствовала эти деньги, могла бы рассмотреть каждую банкноту. Одно усилие, поманить – и…
Она невольно глянула на свои ладони, подержала их лодочкой перед глазами, перевернула и вгляделась в обкусанные ногти.
Чистые руки, мама, у меня чистые руки. Ну, почти.
Заварю еще кофейку.
В четыре пришел Константин Иосифович. Неловко обнялись, не снимая масок и старательно отворачиваясь. Юльку больно кольнуло: как он постарел после карантина! Глубоко запали потерявшие блеск глаза, обмякла кожа, стала тоньше переносица над маской и посерел лоб. Она отвела глаза, пробормотала приветствие и с облегчением выбежала на улицу: забирать Даньку с продленки. Сарит вынесла подарок: кулек с детскими кофтами, забытыми с прошлого года, и – вот это да! – яркую желтую куртку со Спайдерменом на спине. Сказала, бросили в ящик для пожертвований, что у ворот. Везет им с Данькой сегодня!
– Ты ведь помнишь, что завтра начинаются каникулы, а, Юлия? – крикнула вслед Сарит. Юлька обернулась, открыв рот:
– Что?! Да садики только открылись после карантина!
– Ханука, милая! Веселого праздника!
– Веселого праздника, – пробормотала Юлька растерянно. Три года в Израиле, и каждый чертов раз детские каникулы налетают на нее, как коршун на зазевавшуюся мышь!
По дороге задержались на детской площадке – крутануться разок на мокрой визгливой карусели под сеющим дождем. Из жратвейки на углу шел умопомрачительный аромат, и Юлька, не сдержавшись, мысленно потянула за ниточку запаха – и поспешно разжала кулак, зашипев сквозь зубы. Горстку раскаленных чипсов умяли в секунду, и, слизывая с пальцев масло и соль, она спокойно подумала: «Вот следы греха на руках моих, мама».-
– А ты знаешь про Хануку, мама? Я тебе расскажу! – болтал Данька, мешая языки, и она привычно повторяла за ним по-русски, поправляя.
– Маккавеи дрались с греками, и рука их поднялась над греками, и забрали обратно бейт амикдаш!
– Что сделала рука?! А, поняла, маккавеи победили греков и… – Юлька лихорадочно рылась в телефоне, – Храм, Данька, евреи отвоевали свой Храм.
– Да, храм, его бог построил.
– По слову господа построили Храм, – поправила Юлька, и ясно услышала мамин истовый голос: «По слову Его!»
– Да, и хотели зажечь… ну, лампу… но масла остался один такой маленький… ну…
– Кувшинчик, да? Они хотели зажечь лампадку?
Запах нагретого масла, мечется в лампадке язычок огня, отражается в дверцах серванта. Мама стоит на коленях и крестится, и кладет поклоны. Голос взлетает, звенит в темноте и падает, срывается в безмолвный крик, сухой всхлип и вновь – шепот. Мартовский ветер качает приоткрытую форточку, пахнет талым снегом. В чужих окнах мерцают экраны телевизоров, ветки деревьев взволновано царапают стены – чувствуют весну. Очень хочется есть, но лучше на кухню не идти, а то мама вспомнит о ней и заставит молиться. Можно тихо позвать, вытянуть руку – и хлебная корка, возникнув, царапнет ладонь, но если мама узнает…
Вздрогнув, как от удара линейкой по пальцам, Юлька возвращается к сумеркам и взвизгам карусели. К Даньке.
– …да, лампу хотели зажечь, а масла один кувшинчик. Вот столечко, и все. Они зажгли все равно, потому что так надо, а чуточки масла хватило на восемь дней, потому что это чудо. Поэтому на Хануку всегда надо зажигать свечки и есть суфганиет.
– Пончики, – поправила автоматически. Вздохнула, затолкала озябшие руки поглубже в карманы. Вот бы им с Данькой тоже немножко чуда. Только мама права. Таким, как Юлька, благодати не видать.
Дождь усилился, и, подхватив сумки и ребенка, Юля помчалась на работу. Мельком разглядела на площади гигантский подсвечник с девятью ветвями – хабадовскую ханукию. Стремительно темнело, и два языка пламени – служки-шамаша и первой свечи Хануки – уже плясали под порывами ветра, сникали и вытягивались вновь к подсвеченным городскими огнями плотным облакам.
В магазине, устроив Даньку в углу с бумагой и карандашами, подошла к хозяину и специальным бодрым голосом спросила:
– Как дела?
Константин Иосифович не поднял глаз от ноутбука. Сидел, не шелохнувшись, не отрывая взгляда от строчек в экселе. Долго молчал.
– Плохо, Юленька. Не вытянем. Извини, милая.
От ужаса перехватило дыхание. Ей захотелось затопать ногами, завизжать так, чтобы заглушить ни на секунду не умолкающий монотонный безжалостный пересчет в душе: «За жилье, за еду, и ссуда, и коммунальные, и Даньке, и больничная касса, и я не вытяну, я не вытяну, я не вытяну!»
Сжав кулаки и зубы, не в силах вымолвить ни слова, она ждала, глядя, как трясется голова Константина Иосифовича. Совсем старик. А ведь еще весной была уверена, что хозяину магазина лет сорок. Да ему же за восемьдесят, глянуть только на дрожащие иссохшие пальцы. Они не виделись весь карантин, и даже когда открылись, он почти не появлялся, и зачем – продаж-то не было. И что же, вот так совсем сдал – из-за денег?
– Константин Иосифович, не переживайте вы так. Ну, как-нибудь… Этот магазин прогорит – другой откроете!
Голос дрожит. Что она несет. А я? А я как же?! А нам с Данькой как? Но так страшно было смотреть на седые виски мужчины, которому она еще в марте несмело строила глазки.
– Юленька, милая, не в том дело.
Мокрая тьма за окном, сопит Данька. Тишина серым пуховым платком укутала каждый звук, и, подчиняясь ее власти, Юля перешла на шепот:
– А в чем?
Мягко сияли лаковые матрешки на полке, и круглощекий Ванька-встанька в своей коробке надул пухлые губки. Хозяин поник, съежился, будто тая, превращаясь в тень, в дуновение сквозняка, в горстку пыли.
– Я умираю, когда мои книги не продаются. Правда, глупо звучит? Но это так. Такая судьба.
Она смотрела, пытаясь понять – это шутка? Метафора? Иносказательная цветистость? Что за…
Дверной колокольчик звякнул, и Юля скорее отвернулась и чуть не бегом кинулась к покупательнице. Позже, вкладывая чек в пакет со сборником стихов Барто, глянула мельком на хозяина магазина и замерла: лоб его чуть порозовел, разгладился, будто смягчился. Перехватив взгляд, Константин Иосифович пожал плечами, качнул головой. Маска, натянувшись, дернулась – наверное, улыбнулся. И она поверила.
В семь собрались и пошли с Данькой домой. Константин Иосифович кивнул рассеяно им вслед. В черноте зимнего вечера дождь то польет, то утихнет, и огни светофора поплывут в дрожащих лужах, а на столике у кассы лампа с зеленым абажуром так и будет гореть допоздна, подобно одинокому флагу над осажденной крепостью.
После Юриного побега сняли с Данькой очень дешево пристройку в частном доме на тихой улице, минутах в десяти ходьбы от книжного. Над последним островком старой застройки высились однотипные коробки семидесятых, светились окнами; звуки – телевизоры, музыка, раздраженные голоса, гогот и плач – без помех проносились над позеленевшими крышами припавших к земле беленых домишек. В пристройке одна комната и крохотная ванная комната (унитаз вдается в душевой закуток, а раковина такая маленькая, что после Данькиного умывания весь пол можно вымыть разбрызгавшейся водой). В комнате матрац на полу, шкаф с косо висящей на одной петле дверцей, электрическая плитка на одну конфорку и чайник. Для еды хватало детского столика, подобранного на улице, а сидеть очень удобно на диванных подушках, подаренных хозяйкой. На стенах Данькины рисунки и плакаты, и летом в комнате уютно, плещется за открытыми ставнями зеленая тень игрушечного садика, птицы поют. Но сейчас, в начале зимы, дома пронзительно холодно и влажно; дверь выходит прямо в заросший высокой мокрой травой палисадник, а полукружья плесени проявляются и темнеют под окном, и у входа, и на потолке. К тому же, старенький кондиционер жрет так много, а они так экономят. Зато есть горячая вода из хозяйского бака, и можно рвать сколько хочешь мелких лимонов с дерева, и мяты, и базилика с розмарином с грядки. Вот сейчас они поужинают яичницей с питами, выпьют чай с мятой и лимоном и заберутся в постель с книжкой. Здорово же, правда? Зябкая темнота сгустится под потолком, Данька заползет под одеяло и прижмется к маме, чтобы не слышать дробный перестук капель за окном и влажные шлепки, будто за стеной кто-то бродит, босой, зеленый, склизкий, по заросшей пышным мхом дорожке.
Перед последним к дому поворотом – открытая допоздна пекарня-кондитерская. Яркие радостные огни за стеклянной стеной, разноцветье крема и глазури, подносы с истекающими сиропом марокканскими сладостями, рассыпчатая сухость миндальных печений, золотистые халы – Юля ненавидела пекарню за ту жадность, с которой сама же глядела и выбирала мысленно: вот это, и то, и огромный стакан кофе из блестящей, шипящей, стучащей машины, и… и самое худшее – за ту же жадность и тоску на Данькином лице. Прошлой зимой она каждый день покупала ему в пекарне бурекас с сыром или пышную плюшку с корицей, а то и кусок пиццы с оливками, а потом настал карантин, магазин закрылся, Юля вышла на пособие, а денег на глупости не стало.
Она сжала детскую ладонь и ускорила шаг.
Там, за запотевшим стеклом, в теплой пахучей радостной тесноте, покупатели набирали в коробки ханукальные пончики-суфгании: самые простые в белой шапочке пудры, и с пятнышком яркого малинового варенья, и с завитком коричневой вареной сгущенки, и в разноцветных сахарных шариках, и облитые шоколадом, и….
Она обнаружила, что стоит и пялится, приоткрыв рот, а Данька стоит рядом и ревет.
Ее идеальный Данька, подарочный ребенок, тихий, послушный, веселый, никогда в жизни не устроивший ни единой истерики, закатывался в визге и топал ногами:
– Хочу пончик!
Она так растерялась, что застыла на месте, не зная, подхватить ли сына на руки и убежать, или зайти и купить, ведь все равно все очень плохо и будет только хуже, или нельзя, ведь в следующем месяце зарплаты, наверное, не будет, и надо растягивать, экономить изо всех сил.
Толстая тетка, выйдя из пекарни, зыркнула укоризненно, пробормотала что-то, то ли про избалованных детей, то ли про этих русских, у которых сердца нет, то ли просто про дождь, снова дождь, крупные капли барабанят по лбу, все учащаясь, и…
Красная бумажка спланировала на мокрые плитки тротуара, празднично яркая в свете фонаря. Юлька открыла было рот окликнуть уходящую, глянула на Даньку, закрыла рот. Сгребла деньги – двадцать шекелей, ну это же немного, всего-то на пару пончиков, да еще останется на булочку, или нет, приберечь сдачу на завтра! Ведь она даже не знает точно, откуда деньги. Просто вот, вдруг упали к ногам. Мгновение еще колебалась, глядя на двадцатку – неоново-желтым фломастером на ней была выведена восьмерка, а сверху справа надорван край.
Данька выбрал пончик с шоколадом, а Юлька не удержалась, купила один и себе – самый дешевый, без ничего, за четыре шекеля, и получила восемь шекелей сдачи – хватит на два простых или один с шоколадом, что Данька завтра выберет. Добычу сберегли до дома, забрались под одеяло скорее и съели с чаем с лимоном, обсыпав постель сахарной пудрой, да и черт с ней.
Данька уже заснул, когда позвонил Константин Иосифович. Тусклым голосом, неживым, шелестящим, как страницы выгоревших газет, сказал:
– Вводят карантин на Хануку. Мы снова закрываемся. Ты не бойся, я за декабрь выплачу, а потом… а потом уже, наверное, не будет. Ты, Юленька, приди завтра с Данькой в книжный, я партию елок получил, хорошие, качественные, двух размеров. У кассы коробка – соберите в витрину, и коробки с елочными игрушками вокруг, и подсветку зажги, но решетку не снимай и двери не открывай, чтоб штрафа не дали. А под елкой ханукию – не забудь, на второй день Хануки – две свечи и служка. Пойдем на дно красиво, Юль. Пускай Данька выберет себе паззл: скажешь, что от меня, на праздник. Ну, не реви. Как-нибудь… Как-нибудь.
Развешивая на просушку влажную одежду, Юля сунула руку в карман джинсов, достать сдачу, чтоб не потерялась. Восьми шекелей не было. Она еще обшаривала карманы куртки и рюкзак, – и уже знала, что чуда не будет. Как пришло, так и уйдет – мама говорила.
Наутро отправились в книжный отогреваться. Распаковали и собрали пушистую елку с искусственным инеем на длинных иголках. Данька, повизгивая от восторга, развешивал брызгающие веселыми зайчиками шарики и в каждый долго строил рожицы. Звонил Константин Иосифович, спрашивал, все ли нашли, да не подняли ли, забывшись, решетку, да включили ли кондиционер – сырость-то какая. Странно говорил: повторялся, мучительно подыскивал слова, обрывав фразы, будто обессилев.
Пообедали бутербродами, и Данька уснул в подсобке на кресле, а Юлька стрельнула сигарету из хозяйской заначки, выскочила на улицу. Полюбовалась сквозь решетку елкой – красота, на улице серость, а у них праздник. Будто все в порядке. Будто они не прогорели уже.
Мужчина остановился у витрины, нахохлился, рассматривая бегущие огоньки. Спросил, едва двигая губами:
– Почем елка?
– Магазин закрыт, карантин.
– Так елка-то почем?
Юля старательно отвернулась в другую сторону, процедила:
– Метр пятьдесят – двести, метр – сто шестьдесят, только наличкой и книга в нагрузку с доплатой!
Мужчина испуганно дернулся:
– Какая книга?!
– Можно нового Пелевина, Акунина, сборник сказок братьев Гримм – очень красивое издание, прекрасный подарок под елку!
– С ума сошли?
– Тогда Мураками! Или вот кулинарную рекомендую: сто супов на зиму!
Она ждала, проклиная себя за риск. А ну, как это полицейский? Или стукнет на магазин?
Мужчина цыкнул досадливо.
– Черти что. Беру большую елку и братьев Гримм.
Полицейский или нет? Дождется, пока она деньги возьмет, да влепит штраф! Но… Она вспомнила, как Константин Иосифович повесил трубку, даже не попрощавшись, будто забыв о ней, утонув в усталом равнодушии. И решилась.
– Отличный выбор. Деньги положите в почтовый ящик, через пять минут заберете покупку вон из той подворотни. Вечером, на подходе к пекарне, Юля сунула руку в карман за мелочью. Что толку экономить четыре шекеля, когда идешь ко дну. Данька глядел насуплено, и она кивнула, улыбнувшись, вытаскивая из кармана все, что нашарила – шекель, два… красная двадцатка. Надорванная, с неоново-желтой восьмеркой. Медленно повернула банкноту: знак математической бесконечности. Повернула снова: восьмерка.
И явлено было чудо, и купили они пончики.
А сдача снова исчезла.
На третий день Хануки с утра закончила составлять рекламный листок: «Книги с доставкой на дом! Наш сайт… Телефон… Звоните – мы ждем! Лучший подарок на карантин! Богатый выбор елочных игрушек и паззлов!» Распечатали, разрезали листы на восьмушки – мало, ужасно мало выходит. Но все же побегали с Данькой, разнося флаеры.
«Чепуху делаешь, – думала Юлька, – капля в море. А могла бы…»
Мир, осязаемый, перечисляемый, со всеми своими богатствами, лежал вокруг и только ждал, чтобы она поманила. Деньги в банкоматах, в машинах UPS, в карманах у прохожих, домашние заначки, что светились для нее сквозь стены, как угольки на кострище. Любая одежда за запертыми дверьми магазинов, какая хочешь еда, да хоть балык за двести шекелей килограмм! Картины в музее искусств, такие же беззащитные перед ней за решетками и сигнализациями, как листья на тротуаре – все подчинилось бы ее желанию в мгновение ока, и поди докажи, что это она, Юлька.
Да скупить весь магазин, со всеми залежами никому не нужной классики, да заказать книг на сотню лет вперед! Живи да радуйся, Константин Иосифович! Проблема ли?
Никакой проблемы. Дьяволово искушение – говорила мама. Подумаешь, дьявол! Что там какой-то дьявол перед отчаянием и горечью предательства, куда ему до моего мужа.
Остановились отдохнуть на детской площадке в маленьком парке. Небо поднялось высоко, синее, в белых грядах облаков, резкий ветер высушил дорожки. Детей было мало, все незнакомые. Грустная в этом году Ханука: ни тебе детских спектаклей, ни развлечений на главной площади.
Данька пару раз скатился с горки на ногах, изображая ниндзя, покачался на качели, заставляя петли отчаянно взвизгивать, взобрался на лазательную стенку и затих наверху, наблюдая за тремя мальчишками, засевшими под лестницей. Внизу шла серьезная игра в бакуганы. Перед каждым выстроились на карточках разноцветные шары: у одного игрока их было три, у другого четыре, а у третьего – о-о-о! – гордым полукругом целых девять!
У Даньки тоже был боевой бакуган, подарок на день рождения летом. Только он потерялся дома во дворе: полетел, отскочил, да в сорняки. Две недели обшаривали каждую щель. Не нашли. С концами ушел. Иногда утром, по дороге в садик, сын задерживался у калитки, ерошил палкой траву – надеялся. И сейчас Данька, не отрываясь, глядел вниз, на чужие сокровища.
В такие минуты Юлька была рада маске. Нос покраснел, а губы жалко скривились. Хреновая она мать.
– Данька, побежали в магазин! Ханукию зажжем, может, еще гирлянду повесим, а?
Он не слушал. Подобрался, как пантера в засаде. Вытянул вперед ладонь лодочкой: знакомый жест, нет!
– Данька, не смей!
Не смей что? В чем она его подозревает? И какое право говорить нет, если нечего дать взамен?
Мгновенный промельк, едва уловимое движение. Угольный матовый шар, ударившись о ладонь, раскрылся, и две драконьи головки на длинных шеях качнулись и клюнули детские пальцы. Данька быстро сжал кулак, и шар послушно сложился, замкнулся, затаился.
Юля глянула вниз – в полукруге осталось восемь бакуганов, крайняя слева карточка была теперь пуста.
– Ты что! – зашептала в испуге.
Сын только глянул на нее мельком, искоса, сжал игрушку крепче.
– Данька, верни сейчас же! Это чужое! Мальчик плакать будет!
– Не будет, у него много. – Вредный мальчишка даже не понизил голоса. – Подумает, что укатился, и все.
Горячо стукнуло в груди и ослабли от страха колени. Вот оно. Унаследовал, значит. Сатанинскую метку, воровской талант. Ее способности. Как она – мамины. Ох, мама, напрасно ты молилась.
Мама рассказывала, что в детстве воровала постоянно – для родителей-пьяниц, для младшего брата. Взяла его с собой однажды, оставила в подворотне, а сама к гастроному во дворе подобралась – колбасу с хлебом подманить. Брата сбил грузовик. Продуктовый.
– За грех мой умер брат мой, – Юлька, сжавшись, терпела мамин взгляд. Отведешь глаза – получишь пощечину.
Мама сбежала из дома, но воровать не бросила – а как бы выжила? «Всякое делала. Всякое». В девятнадцать родила, в двадцать крестилась, дождалась Юлькиных восемнадцати и ушла в монастырь. А покуда не ушла, хлестала дочку по рукам и приговаривала: смертный грех на руках твоих, проступает печать дьяволова, больно тебе? Запомнишь, как воровать!
Все мамины руки были в шрамах (резала себя быстро, сосредоточенно, без стона) и сигаретных ожогах до плеч. Юлька не знала, любит она мать или нет, и всегда ломала свои линейки: короткими не так размахнешься.



