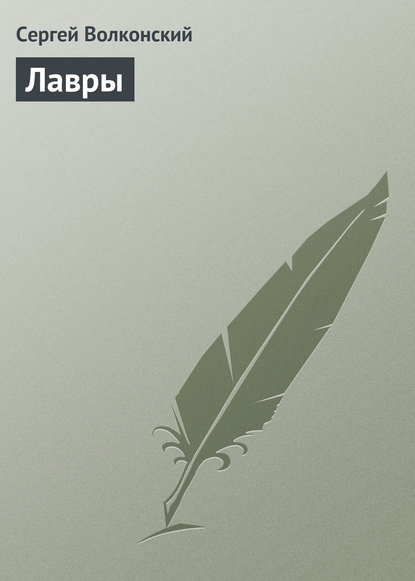 Полная версия
Полная версияЛавры
Я описал всю эту удивительную сцену, но цель моя была, собственно, обратить внимание на то, как развивалась мимика взгляда; как и здесь, чтобы дойти до высшей точки ужаса, глаз сперва приводится в состояние безразличия. Этот динамизм есть важнейшая черта драматического искусства, это есть залог его сходства с жизнью; без него – мертвенность. Ибо всякое движение в природе – развивающегося характера, всякое требует своего приготовления, и чем движения сильнее, тем сильней должно быть приготовление. Скажем одним словом: чем сильнее удар, тем сильнее замах. То же самое и в голосовых эффектах: шепот, в котором чувствуется приготовление к будущему крику, шипение, в котором зреет будущее рычание.
Ясно ли, что я разумею под техникой? Разумею всю ту сознательность, которая лежит под темпераментом, то установленное, всегда одинаковое русло, по которому течет капризное вдохновенье. Французский актер Самсон сказал: «Отдавайте свое сердце, но владейте разумом». Вечный спор – техника или чувство, разум или душа? Но почему всегда или – или, почему всегда это враждующее, партийное «или», почему не и то, и другое? Я думаю, что только неразумный зритель думает, что на сцене только чувство; я думаю, что только неталантливый актер воображает, что он может играть одним чувством. Разумный зритель страдает от отсутствия разума, от отсутствия сознательности в игре; талантливый актер высшую свою радость находит в сочетании горячего увлечения с холодным, сдерживающим рассудком. Один приятель Шаляпина после сцены смерти Бориса Годунова влетает к нему в уборную. «Неужели ты и сегодня скажешь мне, что ты не переживал, не чувствовал себя Борисом!» – «Я? Я был занят тем, правильно ли лежат складки моего халата. Я злился на хориста, который вылезал вперед». Так люди, далекие от сущности театрального искусства, приписывают артистам такие переживания, над которыми сами артисты смеются.
Вот что мне рассказывал некий Иван Петрович Новосильцев, давно умерший, в молодости бывший в связи со знаменитой Рашель. Трепещущий от восторга, он однажды стоял в кулисах, следя за вдохновенною игрою; вдруг в минуту самого высокого напряжения, когда вся зала замирала, а она сама, казалось, была поднята в иной мир, из этого самого иного мира летит ему в лицо шарик, скрученный из бумажки. Чем исключительнее талант, тем сильнее в нем умственная ясность, чем сильнее он заражает, тем менее он заражен; зараженность одна не переходит через рампу; испытывать не значит заставить испытать; чтобы испытывать, не надо уменья, чтобы заставить испытать, надо мастерство. Никакое чувство не внушит актеру всю красоту и весь объем интонации, на какую он способен, если он технически свои интонации не разработал; и никогда чувство не даст паузы, сего восхитительнейшего средства, так неиспользованного у нас; никогда чувство ее не даст, ибо пауза, как начало задерживающее, – от разума. Увы, у нас всего этого не знают, даже не подозревают. Целые поколения воспитываются на том, что «чувствуй, и все выйдет хорошо!» В самом деле? «Ну да, чувствуй». Как просто! Кто же не чувствует? Кто скажет, что он не умеет чувствовать? Кто же после этого не актер? Всякий может быть актером. Я думаю, десятками тысяч сейчас можно считать студийцев в одной только Москве. Но при виде этого наплыва, более чем когда-либо, верю, что искусство есть избранничество; перед проповедью коллективного творчества, более чем когда-либо убежден, что из тысячи минусов не выйдет один плюс; более чем когда-либо, верю в силу личности, верю, что ценность не в людском количестве, а в человеческом качестве. И в чем же искусство, как не в изучении этого качества, в умении воспроизвести его разнообразие…
Разнообразие человеческое лучше удавалось Саре Бернар, нежели Дузе. Характерная черта последней, что она выходила за пределы изображаемого типа, она выводила нас на арену общечеловечности, она играла женщину вообще. Сара Бернар играла данную женщину: эпоху, народность, провинцию, класс. Она сильно, цепко держалась за текст – не в словах только, но и в образе.
Большего о Саре Бернар не скажу. Она слишком хорошо известна; слишком много ее портретов, и они облетели весь мир. В жизни, то есть вне сцены, я видел ее только раз. Она кривляка, она вся искусственна. Кто не знает ее? Рыжий клок спереди, рыжий клок сзади, неестественно красные губы, пудреное лицо, вся подведенная, как маска; удивительная гибкость стана, одетая, как никто другой, – она вся была «по-своему», она сама была Сара, и все на ней, вокруг нее отдавало Сарой. Она создавала не одни роли – она создала себя, свой образ, свой силуэт, свой тип, которого прежде не было и которому расплодились, по крайней мере за границей, бесчисленные подражания. Ни одно имя театральное не было так затаскано и затрепано, как ее: духи, мыло, перчатки, пудра – «Сара Бернар». Не всегда гордая слава довольствуется одиночеством, которое так ей к лицу под лавровым венком; часто вокруг нее суетятся и хлопочут – егозливая ее сестренка популярность и полупочтенная приживальщица реклама…
После Сары Бернар я обещал поговорить о Режан. С легким сердцем покидаю одну, с радостным сердцем приступаю к другой. Это противоречит тому, что сказал при переходе от Дузе к Саре? Не придирайтесь; противоречие – одна из прелестей жизни, это одна из форм разнообразия. Но это не значит, что приступаю без тревоги к новому портрету. Трудна Режан, и более трудна, чем предыдущие две, а между тем хочу ее поставить между ними и хотел бы поставить выше их. Трудна Режан для описания прежде всего потому, что она меньше известна сама и репертуар ее меньше известен. А ставлю ее между теми двумя, потому что у нее много и от той и от другой; у нее много от дузевской души и много от саровской техники. Выше же их ставлю ее за слиянность, с которой она их сочетает. Это впечатление цельности, круглоты, законченности в себе ставило ее выше всего, что я видел на драматической сцене.
Если Дузе играла женщину вообще, если Сара Бернар играла разнообразных женщин, Режан играла женщину-парижанку. На ней она сосредоточилась, ее подавали ей авторы, поставщики ролей. Начиная с полуисторической m-me Sans-Gene, продолжая светской легкомысленностью «Ma cousine» и трогательной прочувствованностью кокотки Zaza, вплоть до горьких слез Germinie Lacerteu – это все парижанка. Недаром для нее написана Беком удивительная пьеса «Парижанка». Поднимается занавес, быстро входит из средней двери Режан, в шляпке и накидке; за нею мужчина, негодующий: «Откуда вы? Зачем вы скрываетесь? Где вы были?» и т. д. и т. д. В гневной перестрелке вопросов и ответов вдруг холодный перебой: «Молчите»; в это время слышны шаги: «Мой муж». Входит муж; и только так мы узнаем, что тот не муж, а другой. Вся пьеса – одна женская изворотливость. Запомнилась мне еще одна сцена. Молодой человек, которого она водит за нос, набрасывается на нее с упреками. Надо было видеть, с каким наивно-недоумевающим лицом она его принимает; как он понемногу слабеет, как с его отступлением она не то что переходит в наступление, а лишь слегка подталкивает его, как он начинает давать отбой, как вдруг его упреки перерождаются в извинения и как она сама вдруг из обвиняемой превращается в прощающую. В слезах падает он к ее ногам и прячет лицо в складки ее платья; она гладит его по волосам. У Франсуа Конне есть маленькое стихотворение, последние две строки которого в одном образе рисуют подобную сцену:
И, жалкий раб, в цепях находящий счастье,Я выпросил прощенье за претерпенные страданья.И всегда блеск, и всегда юмор. Но как под этой легкостью иногда дрогнет, зазвенит струна страдания!.. Скользя опасными склонами неприличия, приближаясь к обрывам нравственных пропастей, как она умела вдруг задержаться, остановиться в светлом луче общечеловеческой святыни! Как в кокотке просыпалась мать! Как в проститутке просыпалась дочь!
Хохотушка, балагурка, она иногда точно вводила вас во храм; как будто смеющиеся уста смыкались, как будто палец поднимался к губам, и тогда какое-то дыханье проходило по зале, смех сжимался, расцветала душа и люди чувствовали свою человеческую близость и одинаковость пред лицом высоких ценностей души. И кто же давал все это? Маленькая замухрышка. Некрасивая, со вздернутым носом, с плоским, чуть-чуть слишком высоким лбом, с карими, неглубоко сидящими глазами, – но как она забирала публику! Это было сочетание чувства, техники и ума; ума такого тонкого, гибкого, что не было ни одной минуты ее игры, которая не была бы умственным наслаждением для зрителя. Даже когда она изображала глупость, и даже скажу, тут-то больше всего проявлялся ее ум; вы все время, смеясь этой глупости, любовались умом, с каким она изображается.
Так в m-me Sans-Gene, например, когда, нарядившись в амазонку, которую ей принесли, она в длинном шлейфе путается и спотыкается, вы ни разу не засмеялись неуклюжести той, кого она изображает, но все время смеялись находчивости ее самой; всякое ваше отношение к изображаемому лицу проходило сквозь восхищение ее мастерством. В ее игре «что» уходило на задний план, весь интерес был в том – «как»; и даже это «как» становилось истинным содержанием искусства. Внутри каждого ее образа чувствовалась она, как приводящий в движение марионетку скрытый в ней механизм. Очень трудно передать тонкость этой двойственности, в которой, собственно, сама сущность ее единства. В ней так сливались чувство с техникой, что никогда они бы не могли разъединиться. Она умерла не так давно, но она могла бы дожить до глубокой старости и все-таки никогда бы не явить того ощущения выдохшегося аромата, который давала Сара Бернар; природа ее была слишком цельная, чтобы испытать такое разложение. Аромат ее личности непередаваем; говорю, конечно, о ней, какою она была со сцены. Непередаваема тонкость этого лукавства, отточенность вопросительных интонаций, прелесть улыбки. В улыбке, вот в чем совмещается все ее существо; ее имя – уже улыбка; афиши с ее именем на парижских плакатных столбах освещали улицу улыбкой. Имя Режан звучит радостью, от него веяло здоровьем.
Если она меньше останется в памяти потомства, чем многие другие, то вина тому – ее репертуар; она играла современность, и она играла пьесы, для нее написанные; она не прикоснулась к большому общечеловеческому репертуару, она прошла мимо великих ролей классического театра, того театра, который говорит из глубины веков и не страшится времени. Искусство сценическое так неуловимо, так мимолетно! Что остается от актера после его смерти? Образ его теплится в памяти тех, кто его видел; а потом? Легче сохраняется потомством образ того, кто играл великие мировые образы, продолжающие жить, нежели образ той, которая с собой в могилу унесла и то, что она играла…
Я один раз только встретился с ней; хотел сказать – вне сцены, но это было именно на сцене. Она дала в Петербурге в Александринском театре в первый год моего директорства два спектакля. На одном из них я был; она играла «Zaza». До начала пьесы я пошел на сцену приветствовать ее. Она уже лежала на кушетке, с которой не сходит в течение всего первого акта. Протягивая мне руку, она извинилась, что не встает, и сказала словами своей роли: «Я так слаба, что не поднимусь даже, чтобы приветствовать принца». Весь акт она проводит лежа, и это так живо, так разнообразно, что только когда горничная докладывает о приходе парикмахера, когда она, потягиваясь, говорит: «Ну что ж, приходится встать», когда, нехотя встав, она направляется к туалетному столу и на этом падает занавес, – только тогда вы отдаете себе отчет, что в самом деле – она целый акт провела лежа на кушетке. Одна из очаровательных находок французского театра…
Такова была эта незабвенная актриса. Это было истинное искусство, подлинный лавр. Она срывала самый кончик крепкого, блестящего листка; и ни на одну могильную плиту зелено-темные ветви не льнут с большей лаской, чем на ту, на которой высечено смеющееся имя Режан.
Я нарочно соединил эти три больших имени в одной главе. Из сопоставления их, мне кажется, довольно ясно выступает требование в крупном художнике наличия – личности и мастерства. Переводя эти требования на почву нашего русского театра, не будем разбирать, как эти два элемента представлены в большой массе русского актерства, но скажем, что тот, кто видел один только русский драматический театр, не видел театра, не знает даже, что такое театр.
Рассказ мой опять привел меня в Париж; скажу еще о некоторых французах. Если бы я хотел говорить о всех, кто на меня произвел впечатление, это был бы не только длинный перечень имен, но это был бы также перечень таких людей, которых я и имен не знаю. Такого богатства выдающихся сил, ярко индивидуальных, не выставляет ни одна другая сцена. И в драме, и в комедии, и в оперетке, и в шансонетке – это всегда последнее слово возможного достижения. Мало бывает в жизни столь затруднительных минут, как когда ведешь пальцем по последней странице парижской газеты, – там, где перечень зрелищ: все хочется посмотреть. И колеблешься между веселым и серьезным: смех и слезы – что хотите.
Храм смеха, царство хохота, это Palais Royal, маленький театрик, над порталом которого изречение Рабле – «Смех лучше, чем слезы; потому что смех в природе человека». Вы не знаете, что такое в театре смеяться, если вы не были в Palais Royal; вы не знаете, что значит за животики держаться. Там было трио. Долговязый Ясент, с огромным, на всю Францию известным носом. Миллер, крупный, со страшными глазами под черными бровями, как два лежачих вопросительных знака. И третий – бесподобный, кругленький, юркий, с свиными глазками, Добре. Такие пьесы, как «Святоша», «Индюк», «Ужин в рождественскую ночь»; рассказать их содержание невозможно, даже эпизоды из памяти улетучиваются; но помнишь, что хохотал до упаду, помнишь эту сумму жизни, которую испытывал и которую делил со всей залой. О, сливающая сила смеха! Вот настоящее зерно человеческого «коллективизма»; вот дрожжи всечеловеческого братства. И посмотрите, как мало у нас здесь в Москве смеются, как мало улыбки на улице, какая угрюмость в лицах. Естественно, когда в основу жизни положено разделение, тогда улыбка сходит с уст; смех отворачивается от той жизни, в которой нет протянутой руки; он умолкает перед кулаком. Человек без юмора что фонарь без света; человек без смеха ссыхается. Екатерина Великая говорила, что не было великого человека, который бы не обладал неисчерпаемым запасом веселости. Мелкие пошли у нас люди, – смеха нет, а когда он есть, то лучше бы ему не быть, ибо он является выразителем недостойного союза – злорадства. Из чего составлен смех этого театра? Ведь из дребедени; а между тем это школа здоровья. Как трава после дождя, омытая от пыли, свежеет и приподымается, таким вы выходите из этого театра.
Помню такой пустяк. Старик Добре, круглый, юркий, с свиными глазками, куда-то торопится; перед зеркалом, без жилета, зачесывает он свои редкие волосы на обширную лысину и все время брюзжит – что-то раздражает его до последней степени. Он начинает подвязывать белый галстук и в это время отходит от зеркала и рассказывает нам свои горести; возвращается к зеркалу – галстук уже не годится; он берет другой. Начинается то же самое. Он все время говорит, сердится, пыхтит… Чем больше он раздражается, тем хуже подвязывается галстук; чем неподатливее галстук, тем больше он раздражается. Комизм этой ярости на пустяках нельзя описать. Перед ним на подзеркальнике стоит его цилиндр, и в него он нетерпеливо кидает эти ненавистные, непокорные галстуки. Наконец кое-как яростным узлом обвязывает шею, напяливает жилет, потом фрак; путает рукава, петлицу жилетную застегивает о фрачную пуговицу, все время бормочет, пыхтит, суетится, схватывает цилиндр, надевает его – вокруг красного растерянного лица галстуки из цилиндра висят, как макароны, – он убегает. «Ну что тут смешного!» – скажут наши провозвестники «идейного» театра. Вам не смешно? Ступайте мимо; вы не человек, вам чего-то не хватает, чтобы быть полным человеком. Я же предпочитаю пустяк, под которым ощущаю великое мастерство, нежели великие задания и под ними безграмотность.
Сколько смеха рассыпано по Парижу, от Palais Royal no бульварам и вверх по Монмартру! Другое гнездо смеха – Varietes. Еще тройка! Барон, Брассер, Ласуш. Помню в этом театре – кабинет министра, министра искусств. Всклокоченная голова у министра; он страшно занят, как все министры; он страшно устал, как все министры. Он с яростью перекидывает бумаги с одной стороны стола на другую – он не может найти то, что ищет, и бумаги становятся ответственны за его душевное состояние. Ему предстоит на каком-то открытии произнести речь; он хочет упомянуть девять муз. Да, но как их зовут? Каждого входящего к нему чиновника он задерживает: «Послушайте… кстати… скажите-ка мне имена девяти муз, я что-то забыл». Чиновник начинает припоминать: «Мельпомена, Терпсихора». – «Ну, дальше. Ведь это только две, еще семь… Ну, что же». И так с каждым, и с каждым разом трагизм этой охоты за именами увеличивается.
Тут же, в Varietes, последнее время играла восхитительная Гранье, когда-то опереточная певица, перешедшая в комедию. Сколько ума, сколько выдержки, и какая дама. В последний раз видел ее в пьесе «Зеленый фрак»; она играет герцогиню, рожденную американку, с английским акцентом и с невероятнейшими искажениями французского языка. В конце одной сцены, которая больше всех других полна путаницы, недоразумений, шуму, гвалту, беготни, она в изнеможении сваливается на диван с возгласом: «Ах, я в состоянии полной проституции» (вместо «прострации» конечно); на этом слове – занавес.
В этом же театре играла милая Режан самые комические пьесы своего репертуара. Вижу ее, спешно надевающую шляпу, застегивающую перчатки, негодующую и за чем-то торопящуюся на вокзал; она торопит мужа: «Мы едем на вокзал!» Муж спрашивает: «Да где же мы там будем?» – «В зале ожидания!» – «И что мы там будем делать?» – «Мы будем ждать. Залы ожидания сделаны для ожидания, – мы будем ждать!» И все это с нервным застегиванием пуговиц и нервным подвязыванием бантов.
В одной пьесе министр народного просвещения узнает, что г-жа такая-то, автор прелестных романов, которыми он зачитывается, хотела бы получить орден Почетного Легиона. Конечно! Его рекомендация ей обеспечена! Пусть только зайдет к нему… Ему подают визитную карточку: она! Он взволнован, он прихорашивается, он вне себя: просить! просить!! Входит долговязый юноша, рыжие волосы мочалкой. Что такое? Вам что нужно?.. «Да… моя визитная карточка…» – «Ваша карточка?» – «Да, это мой псевдоним». – «Вы пишете под женским именем?» – «Да, женщины-авторы в моде нынче; это обеспеченный успех. Женщины продаются и раскупаются в нынешнем году как никогда». Надо видеть, как разочарованный министр бьет отбой: «Почетный Легион? Это не так просто, как вы думаете» и пр. и пр.
И в этом же театре я видел незабвенную Жюдик в оперетке «Мамзель Нитуш». Барышня, воспитывающаяся в монастыре, убегает из монастыря, чтобы петь главную роль в оперетке, и что из этого получается! Помню, как она с органистом репетирует куплеты и в это время входит настоятельница; как мгновенно куплеты сменяются на церковное песнопение и как настоятельница после минутного недоумения переходит в благоговейное одобрение, покачивая головой, отбивает такт. Женский монастырь часто бывает местом действия в оперетке. Так в «Мушкетеры в монастыре». Так в прелестной комической опере Обера «Черное домино» – тоже барышня убегает из монастыря, чтобы попасть на маскарад; возвращается и рассказывает треволнения ночного происшествия:
Ah, quelle nuit!Le moindre bruitM'effraye et m'interdit,Et je m'anete, helasA chaque pas.Soudain j'entendsDe lourds fusilsAu loin retentissant. Ce sont des soldats un peu grisPar un sergent ivre conduits.Sous un sombre portail soudain je me blottis. Et grace a mon domino noir –On passe sans m'apercevoir.Tandis que moi, droite, immobileEt mourante d'effroi,Je priais Dieu tout basEt je disais:Oh mon Dieu, Dieu puissant,Sauve-moi de tout accident,Sauve l'honneur du couvent.(Слышал в этой роли очаровательную m-me Isaac, ученицу Дельсарта; у нее было столь редкое сочетание колоратуры с задушевностью. Ее же помню в роли Джульетты в опере Гуно, а Ромео пел знаменитый в то время Талазак. Незабываемо выходил у них первый дуэт, на балконе; они его пели усталым говорком, как увядшие от влюбленной неги.)
Текст куплетов «Черного домино», хотя не полный, выписал потому, что слышал от отца, что бабушка моя, княгиня Мария Николаевна Волконская, обладавшая прекрасным голосом и отличным мастерством, пела эту песенку своим детям в Сибири… Возвращаюсь к Жюдик в «Черное домино». Чего только не было в ней! Задор, ласка, лукавство. Она меняет монастырский чепец на пудреный парик маркизы; как горели черные глаза под белой пудрой, сколько обещаний в глазах, сколько отказа в движении руки… Никогда уже не повторится такое видение… Однажды, в первые недели моего директорства, сидел в своем кабинете – подают мне визитную карточку: m-me Judic. Не помню, зачем она приезжала в Россию, но ко мне пришла, чтобы сказать, что она бросила оперетку, что переходит в драму, и просила принять ее в труппу Михайловского театра. Я только что вступил в должность, не успел осмотреться; труппа французская была немногочисленна, пошли бы неудовольствия, да и бюджет уже был превзойден. Я отказал. Она подняла руку и, приложив ноготь большого пальца к кончику мизинца, – «Ни малейшей, самой маленькой надежды, господин директор?» Чудный голос просил, дивные глаза надеялись, а может быть, и обещали… Трудно было отказать, но я сказал: «Увы, на этот раз – нет»… Слышал, что она в драме была очаровательна, но пробыла она не долго. Последние раза, что я бывал в Париже, она пела в «Фоли Бержер». Она пела в течение многих лет все те же две шансонетки: «Mais s'il etait alle plus loin» и «Ah, monsieur, ne me chatouillez pas!» Она выходила на сцену каждый вечер в половине одиннадцатого; ее встречали рукоплескания добросовестной клаки. Театральные новички с трепетом ждали ее выхода, но знатоки театра, видевшие ее прежде, стояли у буфета, спиной к сцене: от прежней Жюдик не оставалось следа…
Сменяются имена, сменяются восторги, но смех – как пыль, золотой порошок жизни никогда не переводится; шумит, блестит и искрится смеющееся море парижского бульвара. Киоски газетные увешаны юмористическими листками; и все это веселье не долговечнее бабочки; чрез неделю уже все новое, другое. И так каждую неделю каждого месяца и каждый месяц каждого года. И человек, как газета: на его место другой. Не унимается смех бульварный и после полуночи, после закрытия театров, переносится на дальние бульвары, на верхний Монмартр. Здесь, в маленьких невзрачных подвальчиках, сколько прелестных куплетов! По скользкому склону неприличия, на остром лезвии политической злободневности – как все это спето, как преподнесено!
А знаменитая Иветта Гильбер! Рыжая, худая, обчекрыженная, в зеленом открытом платье, с черными до плеч перчатками. Уродливая и обворожительная, без голоса и очаровательная. Последнее слово неприличия и последнее слово совершенства. Свой собственный, никем еще не тронутый репертуар, – это была улица, это был рынок, это были стороны жизни, о которых принято не говорить; а она их выносила на сцену, стихами воспевала с такою простотой, что за наивностью исчезала развратность, в мастерстве сгорала грязь.
«Грязь французской шансонетки, грязь французского театра» – сколько нареканий вызывает она со стороны иностранцев! Скажу: не умеют слушать люди; они слышат грязь, не восхищаясь мастерством. Скажу больше: они и ездят в Париж за этой грязью, а потом делают вид, что возмущаются тем самым, за чем приехали. Да что же делать, по-французски многое такое пройдет, что на другом языке слушать невозможно. Я видел в Нюрнберге в немецком переводе пьесу «Кровать» – остроумнейшую, тончайшую; но там, в германском городке, среди мужчин, отяжелевших от пива, и женщин, которые всю жизнь вздыхают над незабудкой, невозможно было слушать: прелесть выдохлась, осталось одно грубое неприличие. Немцы не смеялись, немки конфузились. Не их вина; давно сказал один французский писатель: «Бегемота щекотать бесполезно». И верно говорит Ибсен в «Призраках», что то, что было бы развратно в Норвегии, среди скал и потоков, то в Париже не разврат. Да, это не разврат, это то, что Гоголь называл превращеньем в перл создания. И как они умеют говорить, как умеют сказать! Ведь у нас даже не подозревают, что это значит – «сказать» и что шестнадцатью строками поднять ураган смеха или исторгнуть слезы – это большее искусство, чем пятиактной драмой нагнать зевоту. Говорю: исторгнуть слезы, потому что иногда среди смеха вдруг такая дрогнет глубокая струна! Как, например, известная песенка о потерянном счастье, которая кончается словами:
Avant de tant aimer,Le coeur devrait bien s'informerDe ce qu'il aime.(Прежде чем так любить,сердцу следовало бы осведомиться о том,что оно любит.)Да, вдруг в «громокипящий кубок» смеха попадает тяжелая капля житейской мудрости. Она идет ко дну, и за ней опускаются шипевшие на поверхности искры, и мгновенная тишина разливается по сердцам, и крашеные рыжие женщины украдкой утирают слезу. Никто, как француз, не способен в извращении хранить уважение к образу; в этом сила его искусства – под его отрицанием всегда ощущается почва, его пародия на якоре, не в воздухе. Нигде вы не встретите, как во Франции, в глубинах разврата цветы горных вершин. Конечно, нет женщины на свете, у которой бы не был в душе заповедный уголок, но никто, как французы, не умеют в краткой песне показать с грязного дна светящийся алмаз.

