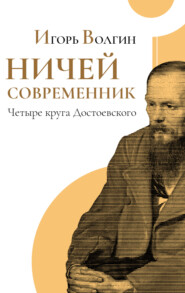скачать книгу бесплатно
За месяц до появления этого послания Достоевский сообщал в «Дневнике»: «Из нескольких сот писем, полученных мною за полтора года издания… лишь два письма оказались абсолютно враждебные». Однако во всей эпистолярии «Дневника» нам не удалось более обнаружить ни одного отзыва подобного рода. Отсюда следует, что, если бы мы захотели сравнить положительные и абсолютно отрицательные отклики на «Дневник писателя», мы не смогли бы этого сделать из-за фактического отсутствия последних.
Да, лишь в одном-единственном читательском письме был почти дословно воспроизведён уже известный нам тезис Скабичевского о том, что автору «Дневника» следует заниматься исключительно беллетристикой. Большинство читателей думало совершенно иначе. Тот же Гребцов пишет о «Дневнике»: «Все его любят – именно любят. Любят за то, что Вы просто, без всяких литературных форм приличий и обряда пишете как бы письма к знакомым… Вы просто, без учёной физиономии подходите к самым глубокомысленным вопросам, к тому, что у всякого наболело, и затрагиваете эти вопросы прямо, откровенно, без тени аффектации или “научности”»[135 - Достоевский и его время. С. 272.].
Последнее замечание знаменательно: «ненаучность» «Дневника» воспринимается читателями как момент сугубо положительный. «Я хочу прочесть тёплое, задушевное письмо, – пишет А. И. Дейниковский из местечка Гадяч Полтавской губернии, – а такое слово я нашел только (да, почти только) в вашем “Дневнике”. Извиняюсь за сей P. S., в котором и дерзнул иметь суждение, я, уездный, недоучившийся учитель»[136 - ИРЛИ. Ф. 100. № 29692. CCXI6.4. Письмо от 6 декабря 1876 г.].
Житель местечка Богач всё той же Полтавской губернии М. М. Данилевский полностью разделяет мнение своего земляка: «Признаюсь, что я узнал о Вашем “Дневнике” только в августе и с тех пор не могу оторваться от него; лучшего ничего я не читал. По-моему, Вы в “Дневнике” сразу возвысились над всеми писателями нашими, а может быть, и заграничными»[137 - Там же. № 29690. ССХ16.4. Согласно почтовому штемпелю, письмо отправлено 13 ноября 1876 г.].
Итак, если Жигмановский и Андреевский считают публицистику Достоевского полным падением, то другие читатели, наоборот, расценивают успех «Дневника» прежде всего как успех Достоевского-писателя.
Для развития этого успеха Достоевскому даже предлагается бескорыстная читательская помощь. «Коли нет у Вас фактов резких и поражающих, – пишет Гребцов, – заведите у себя корреспондентов; я на первый раз к Вашим услугам. Господи, сколько страшных возмутительных историй, сколько трагических и потрясающих случаев мог бы я Вам сообщить»[138 - Достоевский и его время. С. 273.].
Автор письма предлагает Достоевскому то, что практически уже осуществлялось на деле: целые главы «Дневника» вырастали порой из небольшого читательского отклика, из факта, из «случая»[139 - Укажем несколько таких писем: С. Е. Лурье от 13 февраля 1877 г. (ИРЛИ. Ф. 100. № 29768. ССХI6.7), Д. В. Карташова от 10 мая 1876 г. (Там же. № 29737. CCXI6.7), К. И. Маслянникова (РГБ. Ф. 93. Н.6.63), М. А. Юркевича от 11 ноября 1876 г. (ИРЛИ. Ф. 100. № 29911. CCXI6.14).].
Впрочем, большинство корреспондентов просто выражали своё личное отношение к «Дневнику»: «Если бы можно было сейчас, сию минуту очутиться возле Вас, с какой радостью я обняла бы Вас, Фёдор Михайлович, за Ваш 1 февральский “Дневник”. Я так славно поплакала над ним и, кончив, пришла в такое праздничное настроение духа, что спасибо вам. Мать»[140 - Вопросы литературы. 1971. № 9. С. 181.].
Такой тон вряд ли возможен при обращении в «обычный» журнал. Доверительность «Дневника писателя», его мощное, резко выраженное личностное начало, его высокое духовное напряжение, его исповедальность – всё это не могло не производить глубокого впечатления на читателя, уставшего от холодной риторики охранительной и либеральной печати.
Конечно, среди корреспонденции «Дневника», как и среди любой редакционной почты, попадаются письма маловыразительные, а порой – и курьёзные. Так, некто О. З. Левин из Самары, излагая принципы совершенно новой, «открытой» им философии, просит писателя высказаться в «Дневнике» в пользу его, Левина, наукообразных идей. На этом письме Достоевский кратко пометил: «Доморощенный философ (вздор)»[141 - ИРЛИ. Ф. 100. № 29757. CCXI6.7. Письмо от 15 апреля 1877 г. Прилагая к письму изложение своего сочинения «Единство физических сил с точки зрения гипотезы непрерывного творчества эфирных частиц из небытия на границах пространства», Левин говорит, что защищаемые им идеи «слишком жизненны для того, чтобы они прошли бесследно для истории развития русской мысли».].
Однако, как правило, речь в письмах идет о предметах достаточно серьёзных. Это относится даже к тем самодеятельным стихотворным упражнениям, изрядное количество которых мы находим в архиве писателя.
Не будем высокомерно игнорировать эти неуклюжие откровения неистребимого поэтического духа. Ведь нас в данном случае занимают не столько творческие способности авторов, сколько то, как реальные исторические обстоятельства влияли на их музу, какие струны затрагивал в них «Дневник писателя».
Житель города Киева Агафангел Архипов пишет: «Не вините за экспромтное послание, вызванное отчасти и Вашим уважаемым “Дневником писателя”, которому, сказать мимоходом, я сочувствую вполне… О многом поговорить бы с Вами… Буду, если пожелаете, посылать Вам время от времени кое-что. Много, конечно, не обещаю, но будет достаточно, как, надеюсь, увидите сами».
Сделав такое обнадёживающее заявление, Архипов переходит от прозы к стихам. Они называются «Ф. М. Достоевскому (многоуважаемому автору “Дневника писателя”)»:
Всюду – грустные картины:
Поникая головой,
Тщетно ищем мы причины —
Отчего наш край родной,
Русский край патриархальный —
Эпопейный, идеальный,
Отчего он так упал…
Обносился, обветшал?..
В деревнях везде тоскливо:
Голод песен не поёт…
Только вот он, торопливо
В кабачок мужик идёт…
Там веселье разливное:
Молодецкое, хмельное,
Хлещет шумно, через край…
Вот он где, заветный рай![142 - Там же. № 29641. CCXI6.2. Письмо от 30 апреля 1877 г. На конверте помета Достоевского: «Стихи».]
Эти стихи любопытны тем, что они, по признанию их автора, вызваны чтением «Дневника». И если, например, киевлянин Гребцов пишет Достоевскому: «Вы слишком благодушны: Вы словно игнорируете всю тьму и неурядицу»[143 - Достоевский и его время. С. 272.], то другого киевлянина – Архипова это кажущееся «благодушие» не может ввести в заблуждение. Стихи – в данном случае очень точный камертон.
Один читатель требовал от Достоевского более острой социальной критики. Другой – эту критику ощущал и даже откликался на неё стихами. И у того, и у другого имелись свои резоны.
От публицистики в её «чистом» виде действительно можно было бы ожидать большей остроты (вернее, большей определённости). Но «Дневник», как мы уже неоднократно отмечали, имел свою собственную «сверхзадачу», при осуществлении которой его автор стремился избежать «лобовых» решений. При этом критика, объективно присутствующая в «Дневнике», действовала особенно эффективно как раз в силу своей «художественной зашифрованности».
Но, может быть, «Дневник» оказывал столь сильное воздействие лишь на неискушённую провинциальную публику и оставлял вполне равнодушными людей, так сказать, более «литературных»? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к читателям такого рода.
Забытая ныне писательница К. В. Назарьева, признаваясь в своём «священном уважении» к Достоевскому, между прочим замечает: «Каждый выпуск Вашего “Дневника” будит столько хороших струн в нашем подавленном обществе, что нет слов выразить, как хороша Ваша мысль делиться с обществом теми впечатлениями, которые Вы получаете в течение м<еся>ца. Ваша “Кроткая” – это верх психического анализа страдания. Вы – поэт страдания. Вы самый симпатичный, самый глубокий наш писатель».
Назарьева, можно сказать, принципиально не отделяет «чисто» художественное творчество Достоевского от его «дневниковой прозы». Ей в голову не приходит препарировать Достоевского так, как это делают Скабичевский и другие критики. В своём письме она (совершенно естественно, «наивно»!) ставит публицистику «Дневника» в один ряд с «Бедными людьми» и «Кроткой»[144 - Письма К. В. Назарьевой полностью опубликованы нами в журнале «Вопросы литературы» (1971. № 9. С. 179–181).].
В юности знавший Достоевского профессор Харьковского университета Н. Н. Бекетов (брат деда А. А. Блока) пишет автору «Дневника»: «Фёдор Михайлович, пользуюсь правом, данным вами всякому читателю “Дневника” сказать несколько слов. Не забыл я вас, хотя было мне всего 19 лет, когда я с вами расстался – с тех пор вы всё продолжали ваш неустанный труд изучения человеческой души. Чтение ваших произведений – это беседа с собственной совестью – до того они имеют общечеловеческий всеобъемлющий смысл. Прекрасная явилась у Вас мысль делиться с публикою своим душевным сознанием всего творящегося вокруг нас»[145 - РГБ. Ф. 93. Разд. II. Картон 1. Ед. хр. 75.].
Один из постоянных корреспондентов Достоевского, упоминавшийся нами прозаик и критик Всеволод Соловьёв отзывается о «Дневнике» почти в тех же выражениях, что и весьма далёкие от литературы читатели: «Дорогой мой голубчик, Фёдор Михайлович, сейчас прочёл июньский “Дневник” Ваш и совершенно нахожусь под его впечатлением… Прочтя его один раз, я уже, кажется, помню наизусть каждое Ваше слово, мне хотелось бы просто съесть эту дорогую тетрадку»[146 - Письмо от 3 июля 1876 года // Вопросы литературы. 1971. № 9. С. 182.].
Следующее письмо тем более интересно, что оно не предназначалось Достоевскому. Его автор, поборник «провинциального возрождения» России, известный публицист К. В. Лаврский обращается к своей матери (документ обнаружен нами в архиве Н. Я. Агафонова): «Читали ли Вы… “Дневник”? Не правда ли, как хорошо! Какая прелесть “Мальчик у Христа на ёлке”, “Мужик Марей”. А как хороша одна из первых глав в февральском номере, где он говорит о своём взгляде на народ. Мне кажется, я его понимаю во всей глубине его чувств и взглядов в этом отношении и потому чувствую к нему самое искреннее братское расположе?ние…»[147 - Письмо от 21 марта 1876 г. // ИРЛИ. Ф. 13. № 275 (архив Н. Я. Агафонова).]
Чем же было вызвано это «братское расположение»?
От чего «отрезвлял» «Дневник писателя»?
Один из читателей «Дневника» (упомянутый выше М. М. Данилевский) к обычной просьбе о подписке прибавляет следующее: «При этом не могу удержаться, чтобы не выразить Вам искренней благодарности за то величайшее счастье, которое я чувствовал, читая Ваш “Дневник”, который заставлял и меня, и всех, кому я его читал, и плакать и смеяться. Мне приходилось по три раза прочитывать каждый номер, и каждый раз я испытывал одинаковую радость, что у нас есть такие великие писатели, отрезвляющие ум и сердце»[148 - Там же. Ф. 100. № 26990. CCXI6.4.].
«Отрезвляющие ум и сердце», – пишет Данилевский. Не сговариваясь с ним, то же самое слово употребил преподаватель учительской семинарии из города Торжка Н. Горелов: «Не могу не сказать Вам спасибо за искренние, прямые отрезвляющие речи»[149 - РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 70.]. И, наконец, А. Ф. Гусев, профессор апологетики христианства Казанской духовной академии: «Позвольте… пожелать Вам дальше и дальше давать публике то глубоко полезное, отрезвляющее чтение, которое предлагается в названном Вашем издании»[150 - РГБ. Ф. 93. Разд. II. Картон 2.] (курсив везде наш. – И. В.).
В чём же заключалось «отрезвляющее» воздействие «Дневника писателя»?
Горелов пишет: «…среди напущенного тумана ваши беседы всегда затрагивали прежде сердце, а затем вступал в свои права разум и просветлялся логичностью мысли беседующего». Признание это, несколько неуклюжее по форме, очень важно по существу: «Дневник» воздействует прежде всего «на чувство»; логическое выступает лишь «после» и как подтверждение «чувства». Читатель из Торжка, сам того не подозревая, постиг один из интимнейших секретов «Дневника», а именно – его «непублицистичность», антитеоретизм, его установку на целостное переживание. Иными словами – его «песенность».
«Под влиянием “Дневника”, – продолжает Горелов, – я сознаю, как я окреп во взглядах на самые дорогие стороны в жизни нашей родины; ваша любовь к народу и отечеству действовала на меня самым животворным образом»[151 - РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 70.].
И об этом же – причём опять-таки в очень схожих выражениях – говорит М. М. Данилевский: «Пусть же не перестанет Ваше перо просвещать нас тою горячею любовью к России, которая чувствуется в каждом слове Вашего “Дневника”. Нет, не мастер я выразить ту любовь к Вам, внушающему нам любовь к нашему отечеству! Дай вам Бог здоровья!»[152 - ИРЛИ. Ф. 100. № 29690. CCXI6.4.]
«Дай бог, чтобы здоровье Ваше скорее поправилось, – вторит ему учитель Нарвской прогимназии К. Галлер, – чтобы Вы могли опять продолжать свой “Дневник” и тем доставить многие приятные минуты Вашим многочисленным почитателям. Примите и от меня мою искреннюю признательность за все свежие и новые мысли, которые я вычитал из “Дневника”, где я особенно сочувствую Вашей любви к нашему простому народу, который и я привык любить и уважать, так как, родившись и проводивши детство в степях саратовских и самарских, я не мог не любить и уважать его…»[153 - РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 64.]
Ни один – подчёркиваем это, ни один! – из корреспондентов Достоевского не заявляет о том, что в силу нашего традиционного устоявшегося представления о «Дневнике» мы могли бы ожидать. Никто из читателей «Дневника» не благодарит автора за отстаивание существующего порядка вещей или за поддержку каких бы то ни было охранительных взглядов. Никто не пишет, что под влиянием «дневниковой прозы» Достоевского он сделался, например, приверженцем тех идеалов, которыми руководствовалась правительственная власть.
Пишут о другом: о приятии взгляда Достоевского на народ, о своем сочувствии этому взгляду. «Ещё веришь, что настанет же когда-нибудь время, когда начнут понимать русский народ или[154 - РГБ. Ф. 93. Разд. III. Картон 5. Ед. хр. 39. Письмо от 4 апреля 1877 г. Подчёркнутые Ишимовой слова – неточная цитата из февральского (1877 г.) «Дневника». Любопытно, что Ишимовой адресовано последнее письмо Пушкина, написанное им накануне дуэли.], по крайней мере, принимать его во внимание», – передаёт свои впечатления от «Дневника» писательница А. И. Ишимова.
Знаменательно, что большинство читателей «Дневника» уловили в нём самое главное: именно то, что вопрос о народе ставится Достоевским во главу угла и с разрешением этого вопроса связывается всё будущее России. При всех политических спорах и меняющихся общественных обстоятельствах такое категорическое указание придавало идеологической системе Достоевского видимость социально-психологической определенности и нравственной достоверности.
Могут возразить, что оппоненты Достоевского «слева» – революционные народники – указывали в ту же сторону, что и автор «Дневника». Да, это совершенно справедливо. Но тут надо принять во внимание следующее обстоятельство.
Достоевский рассматривал народ в качестве источника и перводвижителя коренных социально-нравственных преобразований, которые должны были, по мысли писателя, осуществиться принципиально безреволюционным путем. Необходимо уяснить данный момент, ибо иначе мы не поймём ни истинных причин «неожиданного» успеха «Дневника», ни глубинной подоплёки большинства читательских писем.
Кто же были авторы этих писем? Выше мы уже касались этого вопроса. Теперь попытаемся взглянуть на него с другой стороны.
Воссоздавая картину общественного развития 1870-х гг., мы нередко оставляем за скобками весьма значительные по численности социальные группы, относящиеся, если употреблять термин самого Достоевского, к так называемому «среднему обществу». Эта очень неоднородная и политически достаточно аморфная масса мелких чиновников, учителей, сельских священников, земских врачей и т. д. и т. п. была крайне неустойчива в своих симпатиях и антипатиях. Ее гражданские идеалы были чрезвычайно расплывчаты и неопределённы, её собственные взгляды представляли нередко эклектическое соединение самых противоположных идей. Равно страшась крайностей реакции и революции, представители этих общественных слоев старались нащупать свой собственный, по возможности безболезненный путь.
«Дневник писателя» подавал надежду именно на это. Погружённый в текущее, он в то же время как бы отрешался от него. Он выводил реальные исторические противоречия в надысторическую сферу, разрешая их «в высшем смысле». Характерно, что рядовой читатель совершенно не чувствовал этого «отрыва» – именно в силу атеоретичности «Дневника», его «посюсторонности», насыщенности социально-бытовыми реалиями, его художественного реализма.
Можно поэтому сказать, что «Дневник писателя» в одно и то же время отрезвлял от иллюзий и вселял их. «Дневник» отрезвлял от нравственного индифферентизма, от самоуспокоенности и пренебрежительного отношения к народу. Не предлагая конкретного исторического решения, Достоевский пытался сформулировать наиболее общие этические предпосылки будущей «мировой гармонии». Но перенесение акцентов в нравственную сферу сообщает идеологической системе «Дневника» черты некоторой исторической иллюзорности.
Почему же большинство читателей «Дневника» не замечают этого? Дело, на наш взгляд, заключается в творческом методе «Дневника». Его концепция мира – прежде всего образ мира. Именно «художественность» (не только в чисто литературном, но и в идейном плане!) делает «Дневник» весьма уязвимым для строго рационалистической научной критики. Но, с другой стороны, именно «художественность» скрадывает логические обрывы и «неувязки» «Дневника» и придаёт его глобальным выводам высокую степень убедительности.
Отсюда можно понять, с какой надеждой ухватились за «Дневник» те, кто, колеблясь «между двух бездн», страшились сделать окончательный выбор и судорожно пытались найти опору в какой-либо «соединительной» концепции. Именно такую возможность и заключал в себе «Дневник писателя». Но заключал лишь постольку, поскольку его собственная идеология не могла воплотиться ни в одной из существующих политических доктрин. Как только Достоевский предпринимал попытку такого «воплощения» (а он их предпринимал), он удостаивался комплиментов К. П. Победоносцева и Константина Леонтьева. Как только он отступал «назад» – к своим собственным идеалам, «в песню», – это вызывало инстинктивную насторожённость тех же Победоносцева и Леонтьева и неожиданную порой поддержку «слева». Остановимся на этом вопросе несколько подробнее.
Консерватор или радикал?
«Такого цельного и полного консерватора я никогда не видел и не встречал, – вспоминает об авторе “Дневника” князь Мещерский. – Мы все были маленькими перед его грандиозною фигурой консерватора»[155 - Мещерский В. П., кн. Мои воспоминания. Ч. 2 (1865–1881). СПб., 1898. С. 179.].
Что ж, Мещерский не сообщает как будто ничего нового. Мнение о консерватизме Достоевского прочно укоренилось в историко-литературной традиции. Посмотрим, однако, как расшифровывает Мещерский в своих воспоминаниях этот достаточно общий тезис.
«Достоевский был враг современного женского вопроса, – пишет мемуарист. – …А между тем эти стриженые и синеочковые девы, не подозревая ненависти к ним Достоевского, постоянно к нему лезли как к своему будто бы учителю»[156 - Там же. С. 180–181.]. И далее Мещерский «припоминает» разговор Достоевского с одной из его поклонниц. Выслушав посетительницу, автор «Дневника» якобы обращается к ней со следующим монологом:
Так вот что, слушайте меня, я буду кратче вас, вы много болтали… а я вам вот что скажу: всё, что вы говорили, пошло и глупо, понимаете вы, глупо: наука без вас может обойтись; а семья, дети, кухня без женщины не могут обойтись… У женщины одно призвание – быть женой и матерью… Другого призвания нет, общественного призвания нет и не может быть, всё это глупости, бредни, вздор…[157 - Там же. С. 181.]
Таким слогом изъясняется Достоевский в воспоминаниях князя. Ничего похожего, правда, мы не встретим у самого Достоевского. Это не его стиль, ибо писатель так не говорил.
Но оставим стиль на совести мемуариста. Быть может, он стремился прежде всего передать суть дела?
Обратимся теперь к первоисточнику. В майском «Дневнике» 1876 г. Достоевский высказывает свою «заветную идею»: в русской женщине, по его мнению, «заключена одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления». Далее автор «Дневника» пишет: «Допустив искренно и вполне высшее образование женщины, со всеми правами, которые даёт оно, Россия ещё раз ступила бы огромный и своеобразный шаг перед всей Европой в великом деле обновления человечества»[158 - Дневник писателя. 1876. Май (Несомненный демократизм. Женщины) // Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 23. С. 28, 29.].
Это нечто диаметрально противоположное тому, в чём с таким пафосом желает уверить нас Мещерский. Однако пойдём дальше – и сравним диалог, приводимый Мещерским, со сходным сюжетом в «Дневнике».
В июньском «Дневнике» за 1876 г. Достоевский излагает разговор с одной из своих посетительниц, молодой девушкой из Минска (С. Е. Лурье)[159 - Об этой посетительнице см. нашу публикацию: Волгин И. Л. Письма читателей к Ф. М. Достоевскому. С. 181–182.]. Автор «Дневника» пишет: «По уходе её (посетительницы. – И. В.) мне опять невольно пришла на мысль потребность у нас высшего образования для женщин, – потребность самая настоятельная и именно теперь, ввиду серьёзного запроса деятельности в современной женщине, запроса на образование, на участие в общем деле. Я думаю, отцы и матери этих дочерей сами бы должны были настаивать на этом, для себя же, если любят детей своих»[160 - Дневник писателя. 1976. Июнь (Опять о женщинах) // Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 23. С. 53.].
Подобные взгляды для Достоевского отнюдь не случайны: они вытекают из общего характера его мировоззрения. Недаром, завершая свой «Дневник», на последней странице его последнего выпуска он пишет: «…может быть, русская-то женщина и спасёт нас всех, всё общество наше, новой возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жаждой делать дело и это до жертвы, до подвига»[161 - Дневник писателя 1877. Декабрь (К читателям) // Там же. Т. 26. С. 127. См. также: Волгин И. Л. Последний год Достоевского. С. 252–256.].
Эти слова не остались незамеченными. На имя Достоевского пришло письмо, которое в подлиннике занимает 30 страниц текста, написанного в высшей степени неудобочитаемым почерком.
Автором этого письма является князь Н. Н. Голицын[162 - Род князей Голицыных / Сост. кн. Н. Н. Голицын. Т. 1. СПб., 1892. С. 193.]. Родившийся в 1836 г., Н. Н. Голицын в 1872–1875 гг. занимал пост подольского вице-губернатора, а позднее – начиная с 1879 г. – в течение четырёх лет был редактором «Варшавского дневника». Помимо многочисленных библиографических заметок, рассеянных в журналах 1860–1880-х гг., его перу принадлежит выдержавший несколько изданий «Словарь русских писательниц». (Что выглядит особенно пикантно, если учесть его отношение к «женскому вопросу».)
Политическая физиономия князя Голицына была весьма определённой. Он искренний единомышленник Мещерского, один из тех, кого его оппоненты «слева» относят к числу «деятельных реакционеров» 1870-х гг. Тем любопытнее проследить его отношение к «Дневнику».
«Вы – искатель правды, – пишет Голицын, – вот права Ваши на всеобщее уважение в среде всех лагерей, всех партий!»[163 - РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 1 об.]Однако, сделав подобный комплимент, Голицын спешит подчеркнуть, что он «далеко не разделяет всего, что говорилось в “Дневнике”», что он «далеко не согласен относительно многих и многих… из иллюзий “Дневника”»[164 - Там же. Л. 2.].
Какие же «иллюзии» не разделяет князь Голицын?
В первую очередь он обрушивается на Достоевского за его взгляды по женскому вопросу. «Да где она, русская женщина? – с негодованием вопрошает Голицын. – Где наши Зинаиды Волконские, Елагины, Ростопчины, те русские матроны, которые воспитывали славянофилов и богатырей сороковых годов? Где теперь русские матери? Разве эти <нрзб> и педагогички, учащие умственному разврату чуть не с пеленок?»[165 - Там же. Л. 4 об.]
Весьма скептически относится Голицын и к стремлению русской молодёжи принять участие в освободительной борьбе славянских народов – стремлению, столь горячо приветствуемому на страницах «Дневника». «Меня не приводит в восторг, – пишет князь, – их стремление идти в Красный крест и лазареты, зная очень хорошо, что из них 80 % нигилисток, авантюристок, фельдшериц, акушерок, дочерей, живущих на воле и своевольно покинувших родной кров, жён – покинувших мужей, наконец, вообще, женщин эмансипированных и свободно гуляющих по белу свету».
В своей филиппике Голицын употребляет весь набор двусмысленностей, к которым прибегали в подобных случаях его единомышленники. Он приходит к заключению, что «русская женщина еn masse пала до состояния последней умственной и физической блудницы, начиная от высших её сфер, куда быстро проникает подпольная интеллигенция, и кончая тою особою, которая стреляла в Трепова, и тем сонмом пропагандисток (или лучше сказать – публичных женщин), которыми красятся наши политические процессы»[166 - РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 4.].
Мы коснулись здесь лишь одного пункта, по которому читатель «Дневника» столь горячо возражает его автору. Но подобных моментов в письме Голицына предостаточно. Особое возмущение вызывает у него то обстоятельство, что Достоевский считает событием кончину Некрасова, что автор «Дневника» не только выступил с горячей речью на могиле поэта, но и посвятил ему целые главы своего моножурнала. «К чему же эти проводы, – возмущается Голицын, – эта народная скорбь, этот шум, демонстрация… Я спрашиваю, к чему?.. Хоронили сотоварища Чернышевского, “скорбный поэт”, “певец горя народного”, плаксивый деятель, скорбящий и охавший всю жизнь, хотя, кажется, ему следовало после 19 февраля настроить свою лиру или гармонику на мажорный лад… Некрасов был один из великих развратителей России, один из корифеев между её погубителями… и, разумеется, честь ему и слава, венки и слёзы… Какая мерзость!»[167 - Там же. Л. 7–8 об.]
Возражения Голицына касаются не тех или иных частностей «Дневника», а, можно сказать, самых коренных вопросов. И тем не менее, несмотря на столь существенные расхождения, он числит Достоевского в своём стане и адресуется к нему как к единомышленнику.
Теперь обратимся к читательскому письму совсем иного рода. Оно написано политическим эмигрантом – М. П. Драгомановым и послано, по всей вероятности, из Женевы. Драгоманов пишет: «Не найдёте ли Вы возможности печатно высказаться по поводу частного применения тех общих мыслей, какие высказаны в Вашем “Дневнике” и какие лежат в основе моих брошюр… Мы бы вряд ли сошлись во многом, если бы стали по порядку говорить о политическо-социальных вопросах, – но я позволю себе сказать, что в основе идей и чувств – Вы наш, хлопоман (т. е. народолюбец. – И. В.)»[168 - Письмо от 26 сентября 1876 г. См.: Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1935. С. 53.].
Осенью того же 1876 г. Достоевский получает ещё одно читательское письмо, автор которого скоро станет известен всей «подпольной России»: «Я скажу прямо, что жду от Вас помощи, а у меня в течение долгих лет наболела душа, и если теперь я решаюсь беспокоить Вас стонами, то потому что знаю, что лучшего врача не найду»[169 - Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. С. 52.].
Эти обращённые к Достоевскому строки принадлежат одной из тех «эмансипированных» женщин, чья деятельность вызвала такую ненависть князя Голицына. Через год автор этого письма будет перевязывать раненых в Болгарии (вспомним: «…меня не приводит в восторг их стремление идти в Красный крест и лазареты»), а ещё через несколько лет войдет в состав Исполнительного комитета «Народной воли». Её имя – А. П. Корба. Хотя в 1876 г. она ещё не успела вступить на путь, поведший к цареубийству 1 марта 1881 г. и обрёкший её на долгие годы карийской каторги, ближайшая направленность её идейного развития не вызывает сомнений. И тот факт, что А. П. Корба ищет нравственной опоры в «Дневнике», по-видимому, не случаен[170 - О А. П. Корбе и её возможной роли в «предсмертной коллизии» вокруг автора «Дневника» см.: Волгин И. Л. Последний год Достоевского.].
В 1880 г. будущий великий физиолог И. П. Павлов пишет своей невесте: «Прочти, прочти непременно “Дневник”. Достоевский заговорил в нём не хуже всякого радикала». И ещё через полгода: «Думала ли ты, моя дорогая, что наш Достоевский мог быть таким социалистом, радикалом!»[171 - Москва. 1959. № 10. С. 155, 177.]
Эти свидетельства современников дают основания утверждать, что в их глазах «Дневник» не выглядел неким ретроградным изданием. Подобную репутацию усердно создавала ему позднейшая, преимущественно либеральная критика (причём, как видим, не без помощи деятелей типа Мещерского).
Пожалуй, в истории русской журналистики мы больше не встретим примера, когда одно и то же издание вызывало бы столь противоречивые суждения. Каждый ищет и находит в «Дневнике» что-то своё. Так, Голицын и Драгоманов, будучи прежде всего политическими деятелями, обращаются к «Дневнику» как к «чистой» публицистике. Для них, как, впрочем, и для большинства газетных критиков, «Дневник» лишь сумма тех или иных взглядов, мнений, точек зрения. Им, по-видимому, не приходит в голову, что все эти «точки зрения» объединяются некоей внутренней доминантой, определяющей целостность «Дневника» и выводящей его за пределы традиционного публицистического жанра.
Как целостность воспринимали «Дневник» чаще всего именно рядовые читатели. Может быть, в силу своего непосредственного восприятия они угадывали в «Дневнике» то, чем он являлся на самом деле.
Без «последнего» слова
«Февральский №, – пишет Алчевская, – понравился нашему кружку ещё больше 1-го, особенно дело Кроненберга. Что же касается лично до меня, то отдавая ему полную справедливость, я тем не менее остаюсь верна рассказу “Мальчик у Христа на ёлке” и признаю это chef-d'oeuvre-ом “Дневника писателя”».
Обратим внимание: Алчевская ставит в один ряд художественный вымысел и действительный случай, ребёнка «придуманного» (герой рассказа «Мальчик у Христа на ёлке») и ребёнка реального (дочь Кроненберга). «Всё смешалось…» «Впрочем, – добавляет Алчевская, – и “Мужик Марей” мне очень тоже понравился и, говорят, что и то и другое я прочла с большим пониманием и увлечением на наших литературных вечерах»[172 - РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 56.].
На литературном вечере можно было прочесть «с большим увлечением» трогательную историю о замёрзшем мальчике, который попадает «к Христу на ёлку». Это – «литература». Но на литературном вечере немыслимо «с увлечением» читать дышащую болью и гневом статью об истязаниях семилетней девочки. Ибо это уже «не-литература». Здесь нет катарсиса, нет очищении, нет ангелов, парящих вокруг потусторонней ёлки.
В «Дневнике писателя» жизнь и литература как бы растворялись друг в друге. Они не существовали рядом, подле, раздельно, а именно сливались, сталкивались, совоплощались. Реальный факт и факт художественный «работали» и взаимодействовали друг с другом в рамках единой системы, у которой – заметим это особо – нет аналогов в истории мировой журналистики.
Правда «в высшем смысле» была одна. Но – какая?
Л. Ф. Суражевская (псевдоним – Элес) пишет из Твери: «Вы хорошо говорите, т. е. Вы плачете хорошо и других плакать заставляете, только я желала бы знать, насколько и легче ли Вам от этих слёз? Ведь Вы же правду говорите, Вы не кокетничаете впечатлительностью. Вы всё это знаете, видели, чувствовали, что пишете, или как?» Страждущий понимает страждущего – и читательница «Дневника» услышала то, чего не хотели слышать многоопытные газетные критики.
«Ведь всё время, – пишет Суражевская, – Вы <нрзб> одну и ту же ноту, во всём всё то же настроение, мне кажется, недовольство жизнью, потребность другой, лучшей?» Читательница «Дневника» очень точно уловила его основную ноту – «недовольство жизнью», неприятие «лика мира сего». Почувствовала она и другое, не менее важное: потребность лучшей жизни. Впрочем, одна лишь потребность не в состоянии вернуть душевное равновесие корреспондентке Достоевского. Она желает знать не только «что», но и «как». И с поразительной, чисто женской интуицией она высказывает вдруг одно подозрение.
Она подозревает Достоевского в незнании.
Неужели Вы тоже только спрашиваете (курсив автора письма. – И. В.), неужели весь смысл жизни терпеть… Отчего Вы ни разу не проговорились ответною мыслью, хоть бы в виде предположения…[173 - ИРЛИ. Ф. 100. № 29938. CCXI6.15.]
Вспомним: «Вот если бы г. Достоевский указывал, где взять капиталы…» Он знал другое. «Жизнь хороша, и надо так сделать, чтоб это мог подтвердить на земле всякий»[174 - Литературное наследство. Т. 83. 1971. С. 623.].
В «Сне смешного человека» Достоевский устами своего героя скажет: «Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей»[175 - Дневник писателя. 1877. Апрель (Сон смешного человека) // Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 25. С. 118.].
«Сон смешного человека» назван его автором «фантастическим рассказом». Мечта о «довольстве демоса» – «одна, положим, фантазия». Мысль об искренности в общественных вопросах – «фантастическая мысль». Слово это положительно преследует Достоевского.
Но преследует не одно лишь слово. Неотступна сама фантазия.
Как только автор «Дневника» заговаривал о своей положительной программе, – он становился «фантастом». Ибо его «программа» была проекцией в будущее. Он полагал, что это будущее органически вырастает из настоящего. На самом деле – оно отрицало настоящее.
Достоевский не мог не чувствовать этого. Может быть, оттого он и не желал сводить своё «как» к определённому образу действия, к формуле.
«Формулой» был весь «Дневник писателя».
Между тем ответ хотели найти в той или иной его главе. «…“Дневник” оставляет в вас какое-то неполное впечатление и всем нам кажется, что чего-то в нём нет»[176 - Биржевые ведомости. 1876. № 36. 6 февр.], – публично заявлял Скабичевский. Ему вторит в частном письме Гребцов: «Но вы не доводите до конца. Доведите – и успех будет громадный»[177 - ИРЛИ. Ф. 100. № 29682. CCXI6.3.]. И, наконец, Суражевская: «Отчего Вы ни разу не проговоритесь ответною мыслью, хотя бы в виде предположения».
В последнем Суражевская ошибалась. Он «проговаривался» – и именно «в виде предположения». Но тут же сам называл свое предположение «фантастическим».
Доводить мысль до конца было опасно, ибо в структуре «Дневника» мысль не равна самой себе.
В своих воспоминаниях Всеволод Соловьёв приводит следующий эпизод. Автор воспоминаний узнаёт о намерении Достоевского завести «Дневник» – тогда ещё на страницах «Гражданина».