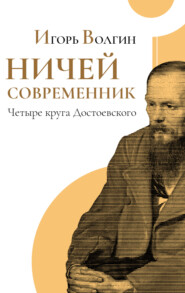скачать книгу бесплатно
«Записная книга» – так именует Достоевский задуманное издание. По-видимому, он мыслил его как своеобразный журнальный симбиоз: соединение большего художественного произведения с хроникой текущих событий. «По 6 печатных листов в 2 недели. 3 листа “Записной книги”. 3 листа романа»[34 - Там же. С. 226.].
Как видим, пока это попытка чисто механического сочленения уже существующих журнальных форм. Но – в рамках нетрадиционного моноавторского двухнедельника.
Судя по всему, задуманное издание первоначально должно было приближаться к периодическому журналу, состоящему из двух разделов: беллетристики и внутреннего обозрения[35 - Интересно сравнить этот замысел Достоевского с планом Лизаветы Тушиной в «Бесах»: издавать такую книгу, чтобы в ней была отражена «картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год» (см.: Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 10. С. 104).].
Замысел этот с годами претерпевает значительные изменения. Жёсткая двучленность задуманного издания уже не удовлетворяет Достоевского.
Автор «Дневника» должен был понимать, что механическое соединение жанров вряд ли приведёт к созданию какой-то новой литературной формы.
Задача заключалась в создании нового жанра.
Публицистику следовало одушевить. «Мысль изречённая» должна была соединиться с личностью того, кто ее изрекал.
«Дневник писателя», появившийся на страницах «Гражданина» в 1873 г., уже обладал некоторыми внешними признаками той жанровой структуры, которая получила своё наивысшее воплощение в «Дневнике» 1876–1877 гг. Но хотя в «Дневнике» 1873 г. перегородки внутри прозы и убраны, сама эта проза ещё не преступает своих былых границ. Элементы разных жанров перемешаны, но не слиты: мы без труда отделим очерковую зарисовку от полемического наброска, критическое эссе от заметок. «Дневник» 1873 г. ещё близок к традиционному газетному фельетону. Хотя образ автора уже обладает в нём устойчивыми личностными признаками, он, этот образ, играет скорее вспомогательную роль. Автор в «Дневнике» 1873 г. – это прежде всего хроникёр, тонкий и наблюдательный эссеист, комментатор. Он ещё не персонифицирует в себе всё издание. Он свободен в своей прозе, но это – свобода, проистекающая от отсутствия некоей центральной идеи.
В 1876 г. происходит не просто изъятие одной из публицистических рубрик «Гражданина» и превращение её в самостоятельное ежемесячное издание. Принцип построения (вернее, идейной организации) «Дневника» 1876–1877 гг. иной. Новый «Дневник» уже обладает собственной концепцией, собственной «сверхзадачей».
В «Дневнике писателя» 1876–1877 гг. публицистика как жанр впервые ставила себе цели, осуществление которых было возможно лишь на более высоких уровнях художественного сознания. «Прикидываясь» традиционной публицистикой (и действительно оставаясь таковой по своей внешней функции), «Дневник» по принципам своего художественного действования тяготеет к чему-то более глубокому и многомерному.
Та форма «Дневника», которая существовала в 1876–1877 гг., была интуитивно, эмпирически нащупана Достоевским: она неразрывно связана с индивидуальными особенностями его гения. В то же время «Дневник» явился реализацией потенциальных возможностей, накопленных практическим опытом всей русской журналистики.
«Шёл процесс размывания организационных форм журнальной деятельности, сложившихся в начале 60-х гг. и наиболее ярко представленных “Современником”, – справедливо замечает Л. С. Дмитриева. – Проявилась возможность выступления сколько-нибудь значимой общественно-активной личности в качестве носителя целого направления. Историческая ситуация выдвинула в Достоевском деятеля, отразившего этот объективный процесс»[36 - Дмитриева Л. С. О жанровом своеобразии «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского: К проблеме типологии журнала // Вестн. Моск. унта. Сер. 11. Журналистика. 1969. № 6. С. 29.].
Всё это так. Но следует всё же задаться вопросом, почему ни в восьмидесятые, ни в девяностые годы ни одна «сколько-нибудь значимая общественно-активная личность» не выступила на журналистском поприще в том качестве и с таким успехом, как это сделал Достоевский в годы семидесятые? По-видимому, здесь всё-таки придётся сместить акцент со «сколько-нибудь» именно на «личность».
Жанр и структуру «Дневника» определить столь же трудно, как и его издательский тип. В моножурнале затронуто громадное количество тем: можно сказать, что Достоевскому удалось «схватить», запечатлеть образ России не только в романах, но и в «Дневнике».
Автор «Дневника» говорит о крушении общественных и нравственных устоев, о глубоком духовном кризисе, поразившем русское общество, и о тех подспудных, скрытых от глаз процессах, которые совершаются в глубинах русской жизни. Он пишет о распаде семьи и о воспитании детей, о личных трагедиях, о само убийствах, о проблемах молодого поколения и о женском вопросе. Важнейшей особенностью «Дневника» является то обстоятельство, что все эти темы затрагиваются не абстрактно, не «вообще», а как бы вырастают из самого потока жизни – из судебных отчётов, фактов газетной хроники, читательских писем.
Не случайно Достоевский самым подробным образом останавливается на ряде уголовных процессов, иногда малопримечательных, но интересующих его именно в этическом плане.
Весьма значительное место занимает в «Дневнике» международная тематика. Достоевский чрезвычайно чутко реагирует на все перипетии балканского кризиса, на события русско-турецкой войны и т. п. И хотя «чисто» политическая публицистика – наиболее уязвимая часть «Дневника писателя» (в ней встречаются положения, совершенно неприемлемые, скажем, для тогдашнего «демократического читателя»), эти моменты необходимо соотносить с общей нравственной атмосферой издания.
Достоевский выступает в «Дневнике» как гениальный литературный критик. Если собрать воедино всё сказанное им о Пушкине, Гоголе, Некрасове, Льве Толстом и других русских писателях, получится поразительная картина. Даваемые в «Дневнике» литературные характеристики, всегда тонкие и глубокие, обладают мощным эстетическим потенциалом.
Органической частью моножурнала являются собственно художественные произведения – такие как «Кроткая», «Мальчик у Христа на ёлке», «Столетняя», «Сон смешного человека» и др. «Вдвинутость» художественного текста в текст с формальной точки зрения «нехудожественный» – принципиальная специфическая особенность «Дневника».
И, наконец, «Дневник писателя» – это ещё и автобиографическая проза (в какой-то мере сближающаяся с «Былым и думами» Герцена). За «Дневником писателя» стоит сам писатель – со своей собственной индивидуальной судьбой.
«Дневник писателя» личностен от начала до конца. Этот момент – принципиален. Дело не только в том, что единственный автор «Дневника» был средоточием всего издательского процесса, что в нём персонифицировалась вся множественность журнальных функций. В отличие от любого из периодических изданий «Дневник» обладал ещё и собственным героем. «Ведь и он сам, – писал Вс. Соловьёв об авторе “Дневника”, – интереснейшее лицо среди самых интересных лиц его лучших романов, – и, конечно, он будет весь, целиком в этом “Дневнике писателя”»[37 - Соловьёв Вс. Воспоминания о Достоевском // Исторический вестник. 1881. № 4. С. 843.].
Был ли в «Дневнике» действительно весь Достоевский?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего исследовать поэтику «Дневника», его литературную специфику, его жанр. Но возможен и другой путь.
Попробуем составить предварительное мнение о моножурнале Достоевского по «косвенным» признакам – исходя из реакции на него русского общественного мнения. Может быть, именно это приблизит нас к постижению художественной загадки «Дневника».
Глава 3
«Что за ребяческий бред…»
В зеркале русской прессы
Первые отклики
В будущем 1876 году будет выходить в свет ежемесячно отдельными выпусками сочинение Ф. М. Достоевского «Дневник писателя». Каждый выпуск будет заключать в себе от одного до полутора листов убористого шрифта, в формате еженедельных газет наших. Но это будет не газета; из всех двенадцати выпусков составится целое, книга, написанная одним пером. Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчёт о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчёт о виденном, слышанном и прочитанном. Сюда, конечно, могут войти рассказы и повести, но преимущественно о событиях действительных…
Так гласили первые газетные извещения о новом издании. Объявление это вызвало многочисленные толки и пересуды. В литературных кругах затея Достоевского была встречена весьма скептически.
Вс. Соловьёв свидетельствует:
На вечере у Якова Петровича Полонского, у которого обыкновенно можно было встретить представителей всевозможных редакций, людей самых различных взглядов, я выслушал с разных сторон заранее подписанный приговор «Дневнику писателя». Решали так, что издание непременно лопнет, что оно никого не заинтересует. Говорили:
– Он, наверное, начнет писать о Белинском, о своих воспоминаниях. Кому теперь это нужно, кому интересно!?
– Ну, а если он начнёт о вчерашнем и сегодняшнем дне? – спрашивал я.
– В таком случае ещё того хуже… что он может сказать?! Он будет бредить!..[38 - Соловьёв Вс. Воспоминания о Достоевском. С. 843.]
Сакраментальное словечко «бредить» было произнесено ещё до выхода «Дневника». Более того: уже само объявление о будущем издании вызывает хихиканье.
31 января 1876 г. «Дневник писателя» стал реальностью. Его появление произвело сенсацию в журнальном мире. К удивлению некоторых коллег Достоевского, их мрачные прогнозы не подтвердились.
«Говорят, что первый номер очень хорошо разошёлся, – не без удивления констатирует в “Санкт-Петербургских ведомостях” П. Боборыкин. – Я этому искренне обрадовался, хотя не нашёл в содержании почти ничего ценного в моих глазах. Но я рад этому факту, показывающему, что можно писателю появляться периодически без посредничества предпринимателей журнального или книжного дела»[39 - Боборыкин П. Воскресный фельетон // Санкт-Петербургские ведомости. 1876. № 39. 8 февр.].
Характерно, что в первых откликах прессы подчёркивается именно этот момент. Стремление Достоевского обрести издательскую независимость вызывает, по-видимому, всеобщее сочувствие.
«Счастливая мысль пришла Ф. М. Достоевскому! – восклицал в “Голосе” Г. К. Градовский. – В его “Дневнике писателя” нельзя не видеть попытки эмансипироваться от издателей и редакций. Чем виноват г. Достоевский, если он настолько оригинален, что не подходит ни под одну из рамок, предоставляемых существующими периодическими изданиями русскому писателю?»[40 - Листок. (Подпись: Гама) // Голос. 1876. № 39. 8 февр.]
Далее Градовский делает следующее любопытное замечание, понятное, возможно, лишь весьма осведомлённым читателям. «Редакция “Русского вестника” хочет его сокращать и исправить для эксплуатации в своих узких интересах (намёк на изъятие из “Бесов” так называемой “исповеди Ставрогина”? – И. В.) <…> другие редакции не решаются поместить произведение г. Достоевского, не сопроводив его разными оговорками, одинаково неприятными и для них и для писателя (очевидно, имеются в виду редакционные примечания к “Подростку” в “Отечественных записках”. – И. В.). При таких условиях г. Достоевский скорее и настойчивее многих других писателей должен был почувствовать необходимость найти исход из того прокрустова ложа, в которое мы вкладываем русскую мысль»[41 - Листок. (Подпись: Гама) // Голос. 1876. № 39. 8 февр.].
He сговариваясь с обозревателем «Голоса», Вс. Соловьёв высказывает в «Русском мире» очень схожие мысли: «Большинство наших литературных представителей из русских писателей превратилось в писателей известных журналов. Журналы стянули к себе все силы. Вне журналов писательская деятельность представляется невозможною»[42 - Современная литература. (Подпись: Вс. С-в) // Русский мир. 1876. № 38. 8 февр.].
Вс. Соловьёв особо подчеркивает идейную самобытность Достоевского и непринадлежность писателя ни к одному из литературных лагерей: «Он писал и в “Русском вестнике”, и в “Гражданине”, и в “Отечественных записках” – журналах с различными направлениями – и никогда не делал ни малейшей уступки духу литературной партии, всегда оставался самим собой, чрезвычайно искренним и безупречно честным писателем, стоящим выше всяких личных интересов».
Соловьёв приветствует то обстоятельство, что отныне «Достоевский начинает не стесняемый ничьею хозяйской рукой беседовать с русским обществом»[43 - Там же.].
Как видим, консервативный «Русский мир» сходится с либеральными «Санкт-Петербургскими ведомостями» и «Голосом» в положительной оценке самого факта издания «Дневника». В попытке писателя освободиться от редакционной и издательской опеки усматривают важный общественный прецедент.
Правда, о содержании первого номера газетные критики высказываются гораздо осторожнее. Боборыкин, как мы помним, не нашёл в нем «ничего ценного». Скабичевский, заявив в «Биржевых ведомостях», что «самою животрепещущей новостью является, конечно, “Дневник писателя”», тут же оговаривается: «Новость ли это, полно? С внешней стороны это, конечно, новость… Но, с другой стороны, по содержанию, подумайте, какая же это новость? Разве мы не знакомы давно уже были с “Дневником писателя” на страницах “Гражданина”, и чем же настоящий “Дневник писателя” отличается от него? Решительно ничем»[44 - Мысли по поводу текущей литературы. (Подпись: Заурядный читатель) // Биржевые ведомости. 1876. № 36. 6 февр.].
Таким образом, Скабичевский воспринимает выход в свет самостоятельного «Дневника» как простое возрождение рубрики, некогда существовавшей в «Гражданине». Не сомневается он и в соответствующей идейной преемственности нового «Дневника».
Однако, высказав сгоряча подобное мнение, Заурядный читатель вынужден был убедиться, что он остался в одиночестве. Ни одна газета не рискнула связать новый «Дневник» с традицией «Гражданина». Наоборот, большинство обозревателей как раз подчёркивают непохожесть нового издания на его одноимённого предшественника.
Г. К. Градовский (сам, кстати, бывший редактор «Гражданина») отмечает в «Голосе»: «Г. Достоевский отряхнул с себя тот мусор грубого ханжества и шарлатанства… которые сквозят в самых патетических местах журнала-газеты и которые бросали невыгодную тень на некоторые статьи его прежнего “Дневника”. Нынешний “Дневник писателя” читается с удовольствием»[45 - Голос. 1876. № 39. 8 февр.].
«Во всяком случае, – приходит к заключению критик “Нового времени”, – приятно и то, что в первом выпуске “Дневника писателя” нет никаких скверностей и пошлостей в духе и жанре “Гражданина” и кн. Мещерского…»[46 - Буква <И. В. Василевский>. Наброски и недомолвки // Новое время. 1876. № 37. 8 февр.]
С. А. Венгеров, обозревая в июне 1876 г. уже пять выпусков «Дневника», возвращается к кругу всё тех же ассоциаций: «Многим был памятен отдел, ведённый тем же г. Достоевским под тем же названием в “Гражданине”, и нельзя сказать, чтобы эти воспоминания умаляли сомневающееся настроение. Но уже с первого выпуска “Дневника” всякие сомнения рассеялись и успех его всё более упрочнялся». Венгеров приходит к заключению, что в «“Дневнике писателя” русская журналистика приобрела орган, заслуживающий всякого уважения», и желает Достоевскому «продолжать своё издание в том же духе и направлении»[47 - Литературные очерки. Искренняя откровенность. (Подпись: Фауст Щигровского уезда) // Новое время. 1876. № 107. 17 июня.].
«Вообще г. Достоевский начал свой журнал необыкновенно счастливо, – замечает в “Голосе” Г. А. Ларош, – в каждом нумере было хоть что-нибудь оригинальное, умное и интересное, а нередко мелькали и настоящие художественные странички»[48 - Голос. 1876. № 152. 3 июня.].
Наиболее внимательные критики сразу же отметили принципиальные отличия «дневниковой прозы» Достоевского от избитых форм традиционного журнализма. «Содержание “Дневника” публицистическое, – констатирует Венгеров. – Но как далеко оно от того, что у нас называется публицистикою!»[49 - Новое время. 1876. № 107. 17 июня.]
Можно сделать вывод, что дебют «Дневника» вызвал вполне благожелательные отклики со стороны ведущих петербургских газет – вне зависимости от идейной окраски. И Достоевский не преминул отметить это немаловажное обстоятельство: «…[Х]орошо или не хорошо, что я всем угодил? Дурной или хороший это признак? Может быть ведь и дурной? А впрочем, нет, зачем же, пусть лучше это будет хороший, а не дурной признак, на том и остановлюсь»[50 - Дневник писателя. 1876. Февраль (О том, что все мы хорошие люди…) // Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 22. С. 39.].
В словах этих, впрочем, крылась некая усмешка.
Причины «литературной брани»
Отметив благожелательность прессы, автор «Дневника» как бы между прочим роняет: «Если и была литературная брань, то незаметная»[51 - Там же.].
Достоевский умышленно не вдаётся в подробности. Нарочито пренебрежительной оговоркой он как бы освобождает себя от необходимости вести мелочную полемику.
Между тем «литературная брань» была не столь уж незначительной (а иногда, добавим, и не столь уж литературной). 3 февраля 1876 г. в «Петербургской газете» появились уже цитированные нами выше стихи Дм. Минаева, в которых «Дневнику» приписывались «и гениальность, и юродство».
Но вот что любопытно: первый номер моножурнала Достоевского вовсе не даёт оснований для таких размашистых определений!
О чём говорится в первом «Дневнике»? В нём ещё совершенно отсутствуют так называемые «политические статьи», нет там и ни одного из тех «вселенских пророчеств», которыми порой изобилуют позднейшие выпуски. Это своего рода проба пера, приступ к теме, настройка тона – то, что мы сейчас с оговорками назвали бы «потоком сознания». И если в первом «Дневнике» ещё можно, пожалуй, усмотреть проблески гениальности, то уж о «юродстве» говорить как будто бы не приходится.
Следует поэтому предположить, что язвительная эпиграмма Дм. Минаева была вызвана не только и не столько содержанием первого номера «Дневника», сколько причинами более общего порядка. Подспудно существующее (заведомое!) недоверие к автору «Бесов» и бывшему редактору «Гражданина» как бы проецируется на его ближайшую публицистическую деятельность.
Помимо этого, критиков настораживает самый тон «Дневника», нарушение так называемых литературных приличий, интимно-доверительное, «домашнее» обращение его автора к читателям. «Недостаёт только, – возмущалась “Петербургская газета”, – чтобы по поводу кроненберговского дела Достоевский рассказал, как возвращаясь из типографии, он не мог найти извозчика и поэтому промочил ноги, переходя через улицу, отчего опасается получить насморк и прочее»[52 - Первое слово г. Суворина и второе слово г. Достоевского // Петербургская газета. 1876. № 42. 2 марта.].
Достоевский рассказал о другом. Касаясь процесса Кроненберга, обвинённого в истязании своей семилетней дочери, писатель вспомнил, как в Сибири, в госпитале, в арестантских палатах ему, Достоевскому, приходилось видеть окровавленные спины каторжников, прогнанных сквозь строй.
Несомненно, это было очень «лично». Суворин, например, тоже писал в «Новом времени» от первого лица, но у него не было таких воспоминаний. Здесь была важна не только форма обращения к читателю, но и личность того, кто обращался. Вводя в идейно-художественную структуру «Дневника» – в качестве работающих элементов – сугубо личные, частные мотивы, Достоевский решал принципиальную художественную задачу.
В «Дневнике» «лично» не только то, что относится непосредственно к его автору, но и всё остальное.
О чём бы ни писал Достоевский, общее принципиально не отделено у него от частного, «дальнее» от «ближнего». Страдания семилетней девочки и «судьбы Европы» вводятся в единую систему координат. Всё оказывается равнозначно друг другу, но не равно само себе. Факты уголовной хроники обретают «высшую» природу, а крупнейшие мировые события низводятся до уровня уголовного факта.
И в этой системе маленькая дочь Кроненберга («слезинка ребёнка!») и «судьбы Европы» имеют одинаковую нравственную ценность. Ибо в «Дневнике» предпринята попытка применить принципы этического максимализма к моделированию всей мировой истории – сверху донизу.
Но вернёмся к «литературной брани».
«Г. Достоевский, – назидательно замечает рецензент “Иллюстрированной газеты”, – доказал уже свою неспособность быть хорошим фельетонистом… Самый язык его не отличается необходимой для этого лёгкостью, а, напротив, полон тяжеловесными оборотами и неуклюжими, часто грубыми выражениями. Остроумия в нём нет ни малейшего»[53 - Петербургские письма // Иллюстрированная газета. 1876. 15 февр. (Автором этой статьи был, по-видимому, редактор-издатель газеты В. Р. Зотов).].
Между тем остроумие – одно из неотъемлемых качеств «Дневника»! Более того, без учёта этого обстоятельства он вообще не может быть понят. Вс. Соловьёв так характеризует «дневниковую прозу» Достоевского: «Это живой разговор человека, переходящего с предмета на предмет, разговор своеобразный и увлекательный, где иногда под формою шутки скользят серьёзные мысли. Немало остроумных и тонких замечаний и всё это просто и искренне, на всём лежит печать ума и таланта»[54 - Русский мир. 1876. № 38. 8 февр.].
Рецензент «Одесского вестника» замечает с некоторым удивлением: «Там, где французский фельетонист рассказывает и отчасти балагурит, – русский рассуждает, возбуждает и разрешает довольно серьёзные вопросы, – хотя по временам тоже балагурит»[55 - Одесский вестник. 1876. № 208. 23 сент.].
«Зато г. Достоевский остроумен, да ещё как!» – восклицает Ларош. Сравнивая смех Достоевского со смехом Мольера, Свифта и Гоголя, рецензент приходит к выводу, что «такой весёлости у автора “Мёртвого дома” нет, но злого сарказма много»[56 - Ларош Г. А. Литература и жизнь // Голос. 1876. № 152. 3 июня.].
Итак, в публичных оценках «Дневника» можно заметить известный разнобой. Зачастую одни и те же издания то хвалят, то ругают «Дневник» – в зависимости от личных вкусов и пристрастий своих рецензентов. Но при этом ни один печатный орган не пытается осознать «Дневник писателя» как целостное явление. Впрочем, вряд ли справедливо упрекать в этом газетных критиков, если подобная задача не была поставлена и в позднейшей научной литературе.
Вернемся, однако, к текущей периодике.
Два Достоевских: «хороший писатель» и «плохой мыслитель»
Если тезис о неспособности Достоевского быть хорошим фельетонистом не получил, как мы видели, серьёзной поддержки, то более повезло обвинению другого рода.
После целой серии мелких выпадов против «Дневника» «Петербургская газета» выступила наконец с пространной редакционной статьёй. «Если мы нередко подсмеиваемся над иностранцами, которые берутся судить о России, вовсе не зная России, – писал автор статьи, – то во сто раз более подлежат осмеянию достопочтенные наши соотечественники, которые сочиняют на русское общество всевозможные обвинения, вовсе не зная этого общества, ни его добродетелей, ни его пороков»[57 - Кабинетные моралисты // Петербургская газета. 1876. № 24. 4 февр.].
Иными словами, автору «Дневника» отказывали в знании России.
Между тем, перечитывая «Дневник», нельзя не убедиться, что Достоевский являет в нём глубокое, порой беспрецедентное понимание своей родины. Многие страницы «Дневника» поражают своей художественной прозорливостью.
В чём же дело? Почему некоторые современники Достоевского (и в первую очередь именно литераторы) оказались невосприимчивы к «дневниковой прозе» писателя?
Думается, что объяснение этому факту следует искать в самой природе «Дневника».
Эта природа заключала в себе глубокое внутреннее противоречие. С одной стороны, «Дневник» преследовал как будто бы чисто публицистические цели, с другой – осуществлял их при помощи особых «непублицистических» средств.
Но этого-то как раз и не осознавало большинство газетных критиков. Они накладывали на многогранный художественный организм «Дневника» привычную схему, соответствующую их представлению о том, какой именно должна быть публицистика. Однако «Дневник» не мог разместиться в этих узких рамках. Там, где в как бы чуждой ему сфере «чистой» идеологии вступал в свои права художник, образовывались «точки разрыва» – и именно в этих случаях реакция прессы была особенно бурной.
«Дневник» безжалостно разрушал привычный журнальный стереотип. Его художественная новизна раздражала тем сильнее, чем глубже затрагивал он ненормальность общественного бытия.
Общество было нездорово. Однако болезненность склонны были приписать именно Достоевскому.
«Ум г<осподина> Достоевского имеет болезненные свойства», – это «медицинское» заключение «Петербургской газеты» разделялось почти всем консилиумом мелкой столичной прессы. (Здесь и ниже в цитатах курсив наш. – И. В.)
Многие мысли и положения («Дневника». – И. В.) до того странны, что могли появиться только в болезненно-настроенном воображении[58 - Иллюстрированная газета. 1876. 15 февр.].
Признаюсь, я с нетерпением разрезал январскую тетрадку этого дневника. И что за ребяческий бред прочёл я в ней?[59 - Новый критик <И. А. Кущевский>. Новости русской литературы // Новости. 1876. № 38. 7 февр.] (У Минаева, если вспомнить, «бред» характеризуется как «старческий». – И. В.)
Когда вы дошли до подписи автора, то вам становится ясно, что, с одной стороны, г<осподин> Достоевский фигурирует в качестве то добродушно, то нервно брюзжащего и всякую околесицу плетущего старика, который желает, чтобы с него не взыскали, а, с другой стороны, что и вам-то самим нечего с него взыскивать[60 - Буква <И. В. Василевский>. Наброски и недомолвки // Новое время. 1876. № 37. 8 февр.].
И наконец:
Говорите, говорите, г<осподин> Достоевский, талантливого человека очень приятно слушать, но не заговаривайтесь до нелепостей и лучше всего не отзывайтесь на те «злобы дня», которые стоят вне круга ваших наблюдений…[61 - Петербургская газета. 1876. № 24. 2 февр.]
Поразительно, что все эти уничижительные оценки относятся именно к первому номеру «Дневника»! А ведь первый «Дневник», как мы уже отмечали, был всего-навсего «пробой пера». Достоевский не высказал в нём ещё ни одной из тех идей, которые могли бы выглядеть «эксцентричными», положим, с точки зрения тогдашней либеральной печати.
Не случайно почти никто из оппонентов не спорит с Достоевским по существу. Критический гнев вызывает в данном случае не столько содержание «Дневника», сколько способ мышления его автора.
Он (Достоевский. – И. В.) желает убедить других, а может быть и себя, в том, что его путь – путь логической мысли, а не болезненного ощущения[62 - Некто из толпы <Е. П. Свешникова>. «Дневник писателя». Ежемесячное издание Ф. М. Достоевского // Кронштадтский вестник. 1877. № 61. 22 мая.].
На всё это Достоевский ответил в своей записной тетради одной фразой: «Да моя болезненность здоровее вашего здоровья».
Впрочем, в печати фраза эта не появилась.
Таким образом, следует заключить, что до и даже помимо «всего остального» наибольшее неприятие периодической печати вызывает сам метод «Дневника». Но метод в данном случае глубоко содержателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее, основываясь на анализе пока одних лишь печатных откликов.
Именно к середине 1870-х гг. – т. е. в рассматриваемый период – к Достоевскому всё чаще прилагается гибкий «резиновый» тезис о «хорошем» писателе и «плохом» мыслителе.
«Мыслевая основа его произведений, – писал обозреватель “Одесского вестника”, – всегда была крайне однообразна и только художественные их достоинства бросались в глаза. Из прежних произведений Достоевского едва ли читатели помнят хоть одну новую, оригинальную, блестящую мысль»[63 - С. С. <С. И. Сычевский> Журнальные очерки // Одесский вестник. 1876. № 155. 15 июля.].