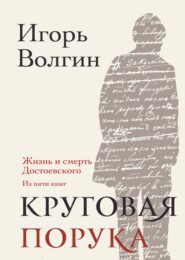
Полная версия:
Круговая порука. Жизнь и смерть Достоевского (из пяти книг)
Поскольку никакой иной некрасовской эпиграммы на Достоевского мы не знаем, остаётся предположить, что речь идёт о «Послании». Однако, если даже «витязь горестной фигуры» извещён о существовании подобного опуса, это ещё не означает, что ему известен сам текст. Во всяком случае, авторы, зная обидчивость героя, не были особенно заинтересованы в том, чтобы это сочинение до него дошло.
Нет никаких указаний на то, что ранее весны 1880 г. (т. е. его последней весны) те или иные строки «Послания Белинского к Достоевскому» были знакомы адресату.
В мае 1880 г., когда разразился упомянутый литературный скандал (речь о нём ещё впереди), одна строфа «Послания» появилась в «Вестнике Европы»: редакция извлекла её из забвения как исторический аргумент. Так Достоевскому стала известна единственная (последняя) строфа, где имя его, впрочем, не называлось. Несколько позже он заносит в предсмертную записную тетрадь, что эти стихи «без сомнения не на меня написаны». Если бы он знал всё стихотворение (или хотя бы его название!), он бы, разумеется, думал иначе.
Впрочем, он думал бы иначе и в том случае, если бы после выхода с каторги, пребывая в Семипалатинске, имел возможность более основательно следить за столичной периодикой.
В декабрьском номере «Современника» за 1855 г. Новый Поэт (Иван Иванович Панаев: опять он!) предавал осмеянию некоего литературного кумирчика, которому автор фельетона и его друзья когда-то восторженно поклонялись. Кумирчик якобы потребовал от своего издателя, чтобы тот напечатал его произведение «в начале или в конце книги» и чтобы оно было обведено «золотым бордюром или каймою». Издатель, дабы угодить юному гению, немедленно согласился на все его условия:
Ты доволен будешь мною,Поступлю я, как подлец,Обведу тебя каймою,Помещу тебя в конец!Таким образом, последняя строфа «Послания» была впервые обнародована ещё в 1855 г.: герой был легко узнаваем (во всяком случае, 19-летний Добролюбов узнал немедленно). Однако ни в письмах из Сибири, ни позже Достоевский никогда не упоминает об этом навете. Знакомство со стихотворным текстом состоялось только через четверть века – в 1880 г., когда – в ходе полемики – в номере «Нового времени» от 3 мая В. П. Буренин изложил забытый панаевский фельетон [56].
Но даже и теперь Достоевскому не хочется верить! Однако верить приходится. И в его последней тетради появляется запись:
«Каторга…
И мужик постыдится, он не попрекнёт “несчастного”».
Иначе говоря, автор «Мёртвого дома» не без горечи констатирует, что его бывшие друзья и единомышленники потешались над ним как раз в тот момент, когда он пребывал «в мрачных пропастях земли».
Здесь обнаруживается одна знаменательная аналогия. В своё время Достоевским были публично отвергнуты обвинения в том, что его повесть «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» – не что иное, как пародия на заключённого в Петропавловскую крепость Николая Гавриловича Чернышевского. Для него, бывшего узника этой крепости, подобные шутки – нравственно невозможны.
В 1855 г. Панаев с легкостью необыкновенной позволил себе то, в чём позднее был негодующе упрекаем автор «Крокодила». У Достоевского имелись основания заметить, что этика Нового Поэта несколько проигрывает в сравнении с этикой «мужика».
Однажды, говоря о Панаеве, Белинский со свойственным ему оптимизмом заметил: «От таких недостатков должно исправлять людей гильотиною». Но Панаев – «свой», поэтому ему легко прощается его «свистунское начало», выражающееся как в неуёмном стремлении поражать окружающих своими модными штанами, так и в его «бабьей страсти к сплетням литературным»: последним Новый Поэт был особенно славен.
«Кумирчик наш, – вовсю веселится Панаев, словно не ведая, где именно обретается в настоящий момент означенный “кумирчик”, – стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт… Бедный! Мы погубили его!..»
«О ком это писано? – негодующе откликнулся в 1918 г. Корней Иванович Чуковский. – О Достоевском! “Достоевский забыт”! И кто это пишет! Панаев, которого так прочно забыли, словно его и не было на свете. О, как бы изумился Панаев, если бы мог хоть на миг воскреснуть из своей забытой могилы и увидеть, что этот смешной Достоевский, этот ходячий анекдот, этот “прыщ” – есть величайшая святыня России, что он приворожил к нам Европу, которая увидела в нём залог, обетование и знамение наших сказочно-грандиозных судеб» [57].
Но каким образом через столько лет после предполагаемых событий вдруг снова всплыла эта история? Почему за восемь месяцев до смерти Достоевский вынужден был публично оправдываться в возводимых на него клеветах?
Апрель 1880: в журнале М. М. Стасюлевича «Вестник Европы» (издание, к которому близок весь тургеневский круг) печатаются одни из лучших русских воспоминаний – «Замечательное десятилетие» Павла Васильевича Анненкова.
Повествуя о славных днях, Анненков, разумеется, не мог не упомянуть Достоевского. Требование «каймы» – открыто, без каких-либо экивоков – влагалось в уста названного своим полным именем героя. Автор ещё не законченных печатанием «Братьев Карамазовых» представал перед всей читающей Россией в довольнотаки дурацком виде.
Либеральная («тургеневская») партия наносила своему давнему ненавистнику и оппоненту идейный удар, более похожий на личное оскорбление. Недаром Достоевский расценил этот выпад как акт моральной дискредитации, как попытку опорочить его писательский облик в глазах читающей публики («чтобы запачкать»).
Суворинское «Новое время», только и ждущее случая, чтобы почувствительнее задеть респектабельный «Вестник Европы», не без злорадства уличает Анненкова в клевете. Газета даёт точную библиографическую справку: в известных экземплярах «Петербургского сборника» никакой каймы нет.
Честь мемуариста была поставлена на карту – и он из Бадена немедленно высылает Стасюлевичу свои письменные оправдания. Автор «Замечательного десятилетия» горячо уверяет редактора, что онде самолично видел первые экземпляры сборника «с рамками». Разумеется, это не намеренная ложь, а невольная аберрация старческой памяти. (Трогательно, что, уверяя Стасюлевича в её абсолютной надёжности, Анненков тут же именует первый роман Достоевского «Добрыми людьми».)
Любопытна также трансформация давних слуховых впечатлений в устойчивый зрительный образ. Дело в том, что в 1846 г. будущий воспоминатель покинул Петербург 8 января, то есть за четыре дня до появления цензурного разрешения на выход «Петербургского сборника» и примерно за однудве недели до его поступления в продажу. Так что сам он «видеть» ничего не мог – он мог только слышать.
Ни одного экземпляра «Петербургского сборника» с «каймой» доселе не обнаружено.
Неточности в воспоминаниях Анненкова были отмечены не только на родине их автора. В той же апрельской книжке «Вестника Европы» мемуарист поведал о своих встречах с Карлом Марксом (они познакомились в Брюсселе весной 1846 г. – как раз после отбытия Павла Васильевича из Петербурга). Анненков, в частности, излагает разговор Маркса с одним русским «степным помещиком» [58]. Этот номер журнала попался на глаза Марксу, который наконец-то обратил свои взоры к России и, как бы томясь тайным предчувствием, принялся за изучение языка («Я русский бы выучил только за то…»). Анненков подвернулся как нельзя кстати. На полях 496-й страницы «Вестника Европы» основоположник сделал следующую выразительную помету: «Это ложь! Он (т. е. помещик. – И. В.) ничего подобного не говорил» [59].
Таким образом, Анненков-мемуарист подвергся критике не только в Петербурге. Его не одобрили и в Лондоне. Интересно: добрался ли Маркс до эпизода, где фигурировал Достоевский, и сказала ли ему что-нибудь эта фамилия?
Встречи и переписка с Марксом относятся к тому весьма непродолжительному периоду в жизни Анненкова, когда он мог позволить себе известное вольномыслие. Правда, те, кто хорошо изучил характер Павла Васильевича, никогда не обольщались на этот счёт. В 1856 г. Некрасов и Дружинин жестоко отделали своего приятеля в совместно написанной эпиграмме (чувство юмора в 40-е и 50-е годы тесно увязано с чувством коллективизма):
За то, что ходит он в фуражкеИ крепко бьёт себя по ляжке,В нём наш Тургенев все замашкиСоциалиста отыскал.Но не хотел он верить слуху,Что демократ сей чёрств по духу,Что только к собственному брюхуОн уважение питал.Замечательно, что Анненков (точно так же, как и Достоевский в случае с «Посланием») почти четверть века ничего не ведал об этой характеристике: вплоть до возникновения «дела о кайме», когда Суворин, желая побольнее уязвить оппонента, опубликовал указанную эпиграмму в «Новом времени» (4 мая 1880 г.). Разобиженный Павел Васильевич не нашёл ничего лучшего, как приватно возразить, что он «фуражки – ейБогу – никогда не носил» и что «это напраслина» [60].
Впрочем, по сравнению с «каймой» «фуражка» выглядела сущей безделицей.
Достоевский не мог поверить в то, что он является адресатом «Послания». В свою очередь, Анненков, ознакомившись с эпиграммой на себя, усомнился в авторстве Некрасова: «А впрочем может быть и он состряпал – таков был человек».
Полемика вокруг «каймы» сильно огорчила мемуариста. Спустя три месяца, когда, казалось бы, должны были стихнуть страсти, он, всё ещё негодуя, пишет Стасюлевичу, что прибывающая в Карлсруэ великая княгиня Мария Максимилиановна (внучка Николая I и дочь того самого «Лейхтенберга», который некогда «уважал» Достоевского) «упорствует считать меня порядочным и честным человеком, несмотря на все возражения “Нового времени”. Вероятно – не читает его» [61].
Надо полагать, Достоевский негодовал не меньше. Он даже положил не подавать руки Павлу Васильевичу, если вдруг встретит его на Пушкинском празднике в Москве. Они действительно встретились – и Анненков наградил Достоевского поцелуем: интересующихся подробностями отсылаем к другой нашей книге [62].
Между тем «Вестнику Европы» надо было срочно спасать лицо, ибо, доверившись мемуаристу, редакция попала в пренеприятное положение. Дабы не усугублять конфуз, Стасюлевич, естественно, отказался воспроизвести в печати путаные и маловразумительные оправдания своего баденского корреспондента. Издатель обратился к другому лицу – единственному благополучно здравствующему автору «Послания». Именно Тургенев, находившийся в эти дни в Петербурге, поспешил подтвердить истинность слов своего старого друга, заменив при этом, однако, «Бедных людей» на никому не ведомый «Рассказ Плисмылькова». (Что окончательно запутало дело. Ибо «Рассказом Плисмылькова» первоначально (в журнальном объявлении) именовался будущий рассказ Достоевского «Ползунков», напечатанный в 1848 г. в запрещённом цензурой «Иллюстрированном альманахе» Некрасова и Панаева. Никакой «каймы» вокруг «Ползункова» в дошедших до нас экземплярах нет [63].)
Конечно, в редакционном ответе «Вестника Европы» нет прямой ссылки на новый источник информации (т. е. на Тургенева), да и в качестве сочинителей «Послания» упомянуты лишь покойники (Некрасов и Панаев). Тургенев предпочёл сокрыть своё участие под неопределённым «и др.». У живого автора, и без того состоявшего в сложных отношениях с героем, не было ни малейшего желания настаивать на своих правах. Но, разумеется, именно с его слов была обнародована на страницах журнала последняя строфа «Послания» – с прозрачной заменой рифмующего слова «подлец» вызывающе деликатными точками… Скромность чрезмерная, особенно если вспомнить, что указанная строфа уже опубликована Панаевым в 1855 г., причём в неурезанном виде.
«Новое время» ответило на объяснения «Вестника Европы» очередными насмешками, а 18 мая Суворин уже от имени самого Достоевского опубликовал решительное опровержение журнальной сплетни. Полемика оборвалась…
Но не оборвалась традиция («…ставши мифом и вопросом» – как в воду глядели авторы «Послания»: действительно мифом и действительно вопросом). История с «каймой» периодически всплывала в той или иной мемуарной интерпретации, причём надо заметить, что все версии в конечном счёте восходят к Тургеневу. Достоевский, правда, до этого уже не дожил. И хотя нынешние исследователи склонны сюжет с «каймой» считать чистейшим, ни на чём не основанным вымыслом [64], настойчивость упоминаний заставляет поискать какие-то реальные обстоятельства, хотя бы и до неузнаваемости искажённые логикой мифа.
Для того чтобы отвергнуть легенду, необходимо постичь её механизм.
Кто в первую очередь был заинтересован в том, чтобы отличить «Бедных людей»? Разумеется, сам издатель. Он прекрасно понимал, что «эта штука» (похитим у будущего бессмертную формулу) если и не посильнее «Фауста» Гёте, то тем не менее всё же способна стать главной приманкой «Петербургского сборника». И Некрасов действительно выделяет роман, открывая им свой альманах.
Ни о какой «кайме» толков пока нет. Правда, говорят о другом: об иллюстрациях.
Что собираются иллюстрировать?
Открыв «Петербургский сборник», каких-либо картинок к «Бедным людям» мы там не обнаружим. И всё же они существовали. Указания на это содержатся по меньшей мере в двух независимых друг от друга источниках.
Во-первых, свидетельство художника П. П. Соколова: ему были заказаны Некрасовым иллюстрации к роману.
Во-вторых, «Северная пчела». Её сотрудник Л. В. Брандт, как и следовало ожидать, был покороблен «великолепно-картинным» объявлением о «Петербургском сборнике», которое он углядел в кондитерской на Невском проспекте.
Без риска ошибиться можно утверждать, что речь у Брандта идёт о первых в мире иллюстрациях к сочинениям Достоевского.
Выше уже говорилось, что булгаринская газета встретила дебютанта решительным поношением. И на сей раз упоминание о «Бедных людях» выдержано в таком же глумливом тоне. Но для нас в данном случае важна не оценка, а информация. Очевидно, те самые рисунки Соколова, которые по неизвестным причинам не попали в печатный текст, были использованы для рекламы. И не исключено, что автор «Бедных людей», так и не дождавшийся обещанных иллюстраций, высказал в связи с этим своё неудовольствие.
Подобные огорчения не могли укрыться от его весёлых литературных друзей: об этом свидетельствует блистательное «Послание».
Но что удивительно. Кроме указанного стихотворного текста (32 строки), не существует ни одного относящегося к 40-м годам источника, где бы упоминалась история с «каймой». Ни в переписке современников, ни в их дневниках на это нет и намёка. Каким же образом такой соблазнительный факт мог ускользнуть от внимания друзей и врагов? Белинский, например, сообщает о Достоевском «анекдоты» куда менее занимательные. О «кайме» же впервые вспоминают лишь в 1855 г. (фельетон Панаева): тут уже она повышена в ранге и именуется «золотым бордюром». В самый момент происшествия «нехудожественные» известия о нём отсутствуют.
Всё это наводит на мысль, что слух о «кайме» возрос не на основе конкретного, достоверно известного и твёрдо зафиксированного в общественной памяти события, а синтезировался из разного рода пересудов и кривотолков. Но как возникли эти последние?
И снова сквозь шум времени (который, как водится, большей частью состоит из звуковых помех) доходит до нас слабый голос героя. Доходит, правда, не «напрямую», а в позднейшей передаче Константина Леонтьева. Да и сам Константин Леонтьев в данном случае лишь ретранслятор: он старательно воспроизводит рассказ Ивана Сергеевича Тургенева.
Тем не менее – вслушаемся.
«Знаете, – моюто повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести!»
Вот она, криминальная фраза! Очевидно, на этих (действительно неосторожных!) словах и основывались авторы «Послания». Для них совершенно безразлично, когда и при каких обстоятельствах слова эти были произнесены.
Между тем самое замечательное тут – это интонация: она прорывается сквозь двойные литературные фильтры. В словах Достоевского нет ни гордыни, ни самоупоения; тон здесь скорее просительный, почти защитный («каким-нибудь бордюрчиком»!). Нам както уже приходилось говорить, что так мог бы изъясняться и Макар Девушкин.
К какому же тексту относится указанная просьба?
«Бедные люди» и «Двойник» уже опубликованы, «Рассказа Плисмылькова» («Ползунков») нет ещё и в намётках. Между тем Белинский, увлечённый издательским успехом Некрасова, затевает собственный сборник – «Левиафан». Достоевский, поспешая, пишет для него повесть «Сбритые бакенбарды».
Справедливо замечено, что по буквальному смыслу «Послания» его герой «потребовал обвести каймой произведение, которое просто не существовало». А этого быть не могло, поскольку «Достоевский так не шутил» [65].
Не было текста – не было и просьбы о «кайме». Но, может быть, Достоевский и позволял себе такие шутки именно потому, что произведение ещё не написано?
На титульном листе «Петербургского сборника» значится: «Некоторые статьи иллюстрированы». И это действительно так. К примеру, стихи Тургенева украшены 19 отличными рисунками, а рассказ Панаева – 25 политипажами! В «Бедных людях» обещанные ранее иллюстрации отсутствуют. Так отчего же не намекнуть непрактичному Белинскому, что недурно бы в предполагаемом «Левиафане» украсить предполагаемую повесть хотя бы «каким-нибудь бордюрчиком» (сиречь иллюстрациями), раз чести этой удостаиваются и другие авторы. Чем он, Достоевский, хуже остальных?
Попробуем на минуту отвлечься и представить, как происходит дело. (Мысленная инсценировка – при скудности документов – не худшая форма познания.) Честная компания сидит у Белинского и обсуждает альманашный проект. Некрасов, Тургенев, Панаев – люди в издательском деле тёртые – наперебой предлагают: мне хорошо бы такието иллюстрации, мне – такието… Достоевский, ущемлённый, как помним, художниками «Петербургского сборника», робко встревает: и мне… Какое, однако, самомнение!
Между тем он требует не преимуществ, а равенства. И если бы речь шла именно о рисунках, никому бы не пришло в голову обыгрывать этот сюжет. Но герой, к несчастью, выражается непрямо. Он предпочитает иносказания. Эвфемистическое «бордюрчик» – бесценный подарок литературным остроумцам. Они подхватывают словцо и превращают его в улику.
Через тринадцать лет, в письме к брату из Семипалатинска, обсуждая планы переиздания «Бедных людей», Достоевский заметит: «Как бы хорошо сделал Кушелев, если б издал с иллюстрацией! Это было бы очень хорошо».
Опять интонация: не сожаление ли об упущенных некогда возможностях?
И, наконец, последнее.
«Обведу тебя каймою, помещу тебя в конец», – сулит обозлённый издатель. То есть? То есть преподнесу твой текст так, как положено, увы, подавать в печати неизбежные горестные заметы… Не намекалось ли тут самым невинным образом, что требующий «каймы» как бы печётся о собственном некрологе?
Итак, если «каймы» физически не существовало, то, как полагают иные, «что-то без сомнения было». И это «что-то» принадлежит к тому же ряду двоящихся сюжетов, которые словно для того и возникают, чтобы подчеркнуть соблазнительное сходство (первым соблазнился Белинский) между автором и героем «Двойника».
Отозвавшись в 1877 г., что «повесть эта мне положительно не удалась», Достоевский тут же добавляет: «…серьёзнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил».
Двусмысленная судьба «Двойника»…
К истории болезни
Главы из повести читались у Белинского ещё в декабре 1845 г.: об этом много лет спустя поведал сам Достоевский. Избирательная, как у всех авторов, память запечатлела подробности. Тургенев, прослушавший половину, «похвалил и уехал» («очень кудато спешил», – добавляется в скобках, – и эта тридцатилетней выдержки ирония свидетельствует о незабытых обидах). Самому же Белинскому всё, что ни пишет его литературный крестник, нравится как бы по инерции. Правда, в его печатном отзыве уже различимы мягкие укоряющие нотки.
Это едва наметившееся охлаждение гораздо откровеннее заявляет о себе в коллективном «Послании»: «Из неизданных творений удели не „Двойника”». И не знающий этих строк, но известный своей чуткостью герой более всего огорчён тем обстоятельством, что «наши» (и прежде всего – Белинский) недовольны им «за Голядкина».
Впрочем, первый истолкователь «Бедных людей» ещё столь пламенно верует в возможности молодого таланта, что, торопя Герцена поскорее дать повесть в проектируемый «Левиафан», уверяет своего корреспондента, что она (повесть) была бы в альманахе капитальною вещью, «разделяя восторг публики с повестью Достоевского» («Сбритые бакенбарды»): последней между тем ещё не существует в природе, и она никогда не будет дописана.
Неуспех «Двойника» вызывает у его создателя сильнейшие душевные муки. И если первое сообщение брату, будто литературные переживания повели к тому, что автор «заболел от горя», выглядит столь же литературно, то подробности, явившиеся позже (после обморока у Виельгорских), не оставляют сомнений в том, что апрельский кризис 1846 г. потряс весь его организм.
«Каждый мой неуспех производил во мне болезнь», – скажет он позднее.
Речь зашла о здоровье: о том, чего Достоевскому всегда не хватало.
В отличие, скажем, от Пушкина или Толстого он не был человеком физически крепким. К нему легко привязывались мелкие телесные недуги. Его преследовали нервические расстройства. Все воспоминатели отмечают бледность его лица.
В год своего дебюта он всё время меняет квартиры – словно одержимый каким-то тайным беспокойством. Душевная неприкаянность прежде всего воплощается в быте: он буквально не может найти себе места.
Он любит селиться в угловых домах – в точке схождений и пересечений – там, где запинается линейный ритм городской застройки и просматриваются разные пространственные возможности. При этом он отдаёт предпочтение тем квартирам, из окон которых можно наблюдать церковные купола и шпили: зримые знаки обетованной миру гармонии.
Но пока гармонии не предвидится – не только в мире, но и в одной, отдельно взятой душе…
За несколько лет до смерти он продиктовал Анне Григорьевне, именуя себя в третьем лице, краткую свою биографию (сделано это было в первый и единственный раз – по чьей-то настоятельной просьбе). Не без гордости поведав о беспримерном успехе «Бедных людей», автор далее замечает: «Но наступившее затем постоянное нездоровье несколько лет сряду вредило его литературным занятиям».
Сами «литературные занятия» – не столь, заметим, малозначительные – не расшифрованы хотя бы в названиях. Зато «нездоровье» упомянуто как важный (пожалуй, даже решающий) биографический фактор. Ни с каким другим периодом своей творческой жизни Достоевский не будет так тесно увязывать указанное обстоятельство.
И тут является мысль: сугубо ли медицинскими причинами были вызваны его тогдашние недомогания? Или же естественные расстройства усугублялись отчасти их литературным происхождением?
Ни в детстве, ни в юности (т. е. до начала серьёзных занятий словесностью) никаких признаков эпилепсии у Достоевского не наблюдается. Правда, доктор Яновский говорит о какихто нервных явлениях (может быть, галлюцинациях? вспомним: «Волк бежит!»), которым, по словам его пациента, тот был подвержен в детские годы. Но только к одной эпохе – «вступлению на поприще» – сам больной относит зримое торжество мучившей его болезни.
Внимательный наблюдатель, он совершенно отчётливо характеризует своё состояние 1845–1849 гг. как душевную болезнь. Он избавится от неё только на каторге, которая, по его словам, обновит его физически и духовно. Но ведь именно на каторге – опять же по его собственному счёту – настигнет его эпилепсия. Как примирить эти, на первый взгляд, несовместимые вещи? Одна ли болезнь вытеснила другую? Или за счастливое исцеление от «болезни нравственной» пришлось заплатить столь высокую цену?
С эпилепсией у Достоевского обычно соединяется равнодушие к женскому полу.
О Смердякове замечено:
«…Женский пол он, кажется, так же презирал, как и мужской, держал себя с ним степенно, почти недоступно. Фёдор Павлович Карамазов стал поглядывать на него с некоторой другой точки зрения…
– С чего у тебя припадки-то чаще? – косился он иногда на нового повара, всматриваясь в его лицо. – Хоть бы ты женился на какой-нибудь, хочешь женю?..
Но Смердяков на эти речи только бледнел от досады, но ничего не отвечал».
Обладающий немалым житейским опытом, Карамазов-старший склоняется, очевидно, к мысли, что обострение природной болезни Смердякова сопряжено с вынужденным и не всегда полезным в его возрасте воздержанием. Правда, сам больной таковым обстоятельством вроде бы не удручён.
Высказывалась мысль, что появление у Достоевского эпилепсии (в её «классической» форме) именно на каторге связано с теми же неудобствами, которые вызывали искреннюю озабоченность Фёдора Павловича Карамазова. Намекалось даже, что сама эта болезнь была неизбежным следствием слишком резкого перехода от вольного петербургского житья к суровой каторжной прозе.

