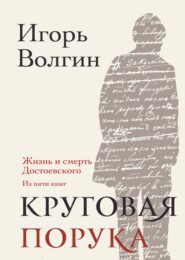
Полная версия:
Круговая порука. Жизнь и смерть Достоевского (из пяти книг)
У Достоевского имелись основания говорить о «безотрадной обстановке» своего детства. Но не забудем и его слов о высшей идее, которой были одержимы родители. Суровость воспитания позволила не только легче пережить переход изпод родительского крова в закрытое военноучебное заведение. Именно в семье были заложены те понятия, которые, надо полагать, не остались для него бесполезными: добра и зла, благородства и чести, порядочности и долга. Жестокость требований, предъявляемых к детям, не помешала бурному развитию воображения, а прикосновение к источникам культуры дало первотолчок тому духовному движению, которое уже не могло остановиться никогда.
Может быть, счастье Михаила Андреевича, что он не дожил до того дня, когда его второй сын, взойдя на эшафот, продемонстрирует непредсказуемые эффекты отцовской педагогики: он не перенёс бы подобного удара.
Что мог думать сын – об отце?
На процессе Мити Карамазова не чуждый новейших веяний адвокат Фетюкович обращается к заполнившей судебную залу публике со следующими прочувствованными словами: «…пусть сын станет перед отцом своим и осмысленно спросит его самого: “Отец, скажи мне: для чего я должен любить тебя? Отец, докажи мне, что я должен любить тебя?” – и если этот отец в силах и в состоянии будет ответить и доказать ему, то вот и настоящая нормальная семья… В противном случае, если не докажет отец, – конец тотчас же этой семье; он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим».
Тончайшая авторская ирония пронизывает эту чужую прямую речь.
Ибо отцов не выбирают.
В 1857 г. в письме к Врангелю, касаясь его недоразумений с отцом, Достоевский скажет, что «знал в жизни… точно такие же отношения». И добавит: «Его тоже нужно понять…»
Последняя фраза звучит как рефрен той, давней: «Мне жаль бедного отца!» Именно к этому слову – жалость (жаление, сожаление) обращается Достоевский, говоря об отце, – к слову, которое в русском просторечье имеет ещё один смысл…
В детстве у него как будто не было оснований посягать на отцовский авторитет. Но в 15–16 лет он мог ощущать некий душевный разлад: внушаемые ему с детства представления колебались под напором «высокого и прекрасного». «Домашние» и «мировые» идеалы вступали в извечное противоборство.
Как уловить момент, когда главные его интересы (или, как сейчас сказали бы, – приоритеты) выделяются из семейного круга? Когда перешёл он этот рубеж, когда захватил его собственный личный Sturm und Drang [11]?
Источники хранят на сей счет абсолютное молчание.
В конце жизни он вспоминал, что это началось «ещё с 16ти, может быть, лет», а ещё точнее: «когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду». Детство кончилось: он впервые задумался о будущем, о призвании, о том, зачем явился на этот свет. «…В душе моей был своего рода огонь, в который я и верил, а там, что из этого выйдет, меня не очень заботило…»
Ещё совсем недавно мы наблюдали ребёнка – живого, отзывчивого на все впечатления бытия, самозабвенно предающегося весёлой игре. Теперь, в пансионе Чермака, «это был сериозный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом». Он берёт под защиту своего младшего товарища (Каченовский младше Достоевского на пять лет); в нём самом не осталось ничего от былого инфантилизма. Недавнего предводителя «диких», его не занимают ныне шумные игры – он предпочитает более умеренные удовольствия.
Очевидно, именно в эти годы у Достоевского вырабатывается та глубокая внутренняя сосредоточенность и самоуглублённость, которая со стороны могла представляться замкнутостью или даже нелюдимостью.
В набросках к неосуществлённому «Житию великого грешника» сказано: «Опасная и чрезвычайная мысль, что он будущий человек необыкновенный, овладела им ещё в детстве». Случайно ли мысль о собственной необыкновенности названа «опасной»?
Среди всех мыслимых вариантов один пример был особенно зрим, ослепителен и недавен. Он являл собой как бы квинтэссенцию земной человеческой славы.
В год, когда Достоевский вышел из пансиона Чермака и готовился к новой неведомой жизни, Россия отмечала 25-летие Отечественной войны 1812 г.
Развенчанная тень
Девять лет отделяют рождение Достоевского от недавних мировых событий. И всего полгода от смерти их главного виновника и героя.
Он родился в октябре 1821го. В мае того же года на острове Святой Елены «угас» Наполеон.
«Мир был наполнен этим именем, – говорит князю Мышкину генерал Иволгин, – я, так сказать, с молоком всосал».
Детские годы Достоевского озарены отблеском великого московского пожара. Его окружают живые воспоминатели – свидетели, жертвы и очевидцы. Он жадно впитывает их рассказы; он бродит по саду, где слышатся голоса французских солдат; он видит дома, встающие на пепелище. Вещественный мир духовен: он полон знаков, намёков и тайн.
В отличие от ревности к грядущему, ревность к прошедшему не губительна для настоящего…
Могут ли мальчики не играть в войну? Особенно – в войну недавнюю, следы которой ещё не изгладились – ни в памяти, ни в душе? Ребёнок ближе к дожизни: у него просто нет иных воспоминаний.
Его не было в той Москве: для мечтателя это дело поправимое.
Рассказ генерала Иволгина о его камерпажестве у Наполеона – первая историческая «поэма» Достоевского. (Второй (и последней) станет Легенда о великом инквизиторе.)
Следует задуматься о литературных истоках. Насколько самобытен сей плод (своего рода Легенда о великом императоре!), взращённый в чудном генеральском саду?
Вспомним, что юный Достоевский – усердный читатель Вальтера Скотта. Он начинает читать великого шотландца примерно в том возрасте, в каком будущий генерал Иволгин удостаивается дружбы завоевателя Москвы.
Прямого влияния Вальтера Скотта на Достоевского как будто не наблюдается: слишком различны их художественные миры. Между тем «наполеоновская» новелла в «Идиоте» – вальтерскоттовская по всем статьям.
Наполеоновская тема занимает Достоевского с раннего детства до конца его дней.
Можно сказать, все девятнадцатое столетие пронизано отзвуками наполеоновского мифа. Наполеон – человек века: он потряс воображение нескольких поколений. К нему – к его славе и судьбе, к его взлёту и падению прикованы взоры.
Достоевский впервые упоминает императора французов в контексте, не имеющем прямого отношения к деятельности названного лица. Наполеон является здесь не в своём конкретном историческом обличье, а в, казалось бы, совершенно проходном вербальном смысле. У господина Прохарчина, героя одноимённого рассказа, сурово вопрошают: «…Для вас свет, что ли, сделан, Наполеон вы, что ли, какой», давая тем самым ему понять неуместность его амбиций [12]. Комическая пара «Прохарчин – Наполеон» вполне случайна. До появления другого тандема «Наполеон – Раскольников» ещё далеко. Случайна и речевая ситуация, однако мысль, что свет «сделан» для Наполеона, выражена достаточно ясно.
Отсюда не так уж далеко до основополагающего тезиса подпольного парадоксалиста «свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить»: взглянувший в такое зеркало «классический» Наполеон должен был бы устыдиться.
«…Почерк – моё единственное сходство с Наполеоном…» – говорит Достоевский в одном письме.
В отличие от Достоевского, князь К. из «Дядюшкиного сна» полагает, что он походит на Наполеона и внешне: это в его глазах составляет известный нравственный капитал.
«– Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я на Наполеона Бонапарте похож… а в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу? Как ты находишь, мой милый, похож я на папу?
– Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона, дядюшка.
– Ну да, это enface. Я, впрочем, и сам то же думаю, мой милый».
Так рушится «образ врага», замещённый если не дружеским шаржем, то довольно игривым литературным портретом. Князь К., прибегая к Наполеону, желал бы подчеркнуть в себе «оттенок благородства» – тайную санкцию на замышляемое им дело. Но и «сам Наполеон», сопряжённый с князем К., обретает оттенок комического величия.
Сравнение с Наполеоном у Достоевского всегда усмешливо. Назвать когото Наполеоном – значит сыграть на понижение. С Наполеоном сравниваются (или – сравнивают себя) такие жалкие существа, как уже упомянутый господин Прохарчин, впавший в детство князь К., умирающий от чахотки Ипполит («Идиот»). Даже косвенное уподобление возникает в минуту величайшего унижения героя («Записки из подполья»), когда, застигнутый врасплох, в драном халате, он из последних сил старается сохранить лицо: «Я ждал минуты три, стоя перед ним (слугой. – И. В.), с сложенными а 1а Napoleon руками». Эта «позицья» – последняя линия обороны подпольного парадоксалиста, переживающего своё Ватерлоо.
В «Дядюшкином сне», наряду с князем К.[13], сравнения с великим человеком удостоена дама.
Марью Александровну Москалёву «сравнивали даже, в некотором отношении, с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку её враги, более для карикатуры, чем для истины». В действительности же император французов и в подмётки не годится почтеннейшей Марье Александровне: «у Наполеона закружилась, наконец, голова, когда он забрался уже слишком высоко», а «у Марьи Александровны никогда и ни в коем случае не закружится голова, и она останется первой дамой в Мордасове».
«Люди верят только Славе, – говорит Пушкин, – и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою».
Мечтает ли 16летний Достоевский о славе? Или ему достаточно сознания, что он – «человек необыкновенный»?
Смерть матери, гибель Пушкина, близкое уже расставание с домом – все эти события обрушиваются на него в первые месяцы 1837 г. У него вдруг пропадает голос – и нет рядом мужика Марея, который бы смог коснуться его онемелых губ.
(Что означает это изъятие дара речи: не весть ли о том, что служение начинается с поста?)
Он едет в Петербург – поступать в Инженерное училище – в самый разгар захватившей его духовной работы. Ему ещё нет 16; он читает Жорж Санд и грезит Италией; он полон надежд и смутных предчувствий.
По дороге он наблюдает сцену: фельдфебель лупит по шее мужикавозницу. Впечатление глубоко врежется в сердце и отзовётся через много лет; пока же он сочиняет «роман из венецианской жизни».
Между тем возок подкатывает к столице – и в белёсом тумане уже различим шпиль Петропавловской крепости.
Из главы 3
Михайловский замок
Портрет второгодника
Что происходит с нашим героем осенью и зимой 1838го, весной 1839го? Никогда прежде мы не задумывались над этим. Может быть, именно здесь – точка перелома? Избегая сакральной формулы «духовный переворот», выразимся скромнее: с героем происходит нечто.
Меняются его письма: их дух, содержание, тональность. Если раньше в них господствовал своего рода биографический фатализм (безграничное упование на волю Божью, что щедро отражено в словаре), то теперь этот предмет практически изъят из употребления. Автор Нагорной проповеди, как помним, сравнивается с Гомером, автор Пятикнижия – с Шекспиром. Меняется стиль мышления: все ценности становятся эстетически измеримы. Литература оказывается столь же универсальной, как само бытие. Бог и человек обретаются в ней почти на равных.
Из писем к отцу исчезают все рассуждения на «отвлечённую» тему – тот «отстал» окончательно. Зато в письмах к брату «идейная» часть возрастает.
Эту зиму он тесно общается с Шидловским. Но, может быть, следует назвать ещё одно имя. Хотя он упоминает его только единожды («к чему мне сделаться Паскалем или Остроградским»).
Тёзка Ломоносова, Михаил Васильевич Остроградский, – первый встреченный им в жизни гений (он встретит их, надо сказать, не так уж много). Остроградский преподавал математику – и о том, как он её преподавал, ходили легенды. Его знали в Европе. «Каково идёт учёность?» – осведомлялся при встрече государь Николай Павлович. «Очень хорошо, Ваше Императорское Величество», – отвечал Остроградский.
«…Не терплю математики», – признаётся Достоевский, может быть, поражённый тем, чего достиг в этом деле его гениальный учитель и чего ему самому никогда не достичь. Но наставник и не призывал к подражанию. Его заботит другое.
И в лекциях, и в печатных трудах академик не устаёт повторять: надо быть первым в своём деле.
Достоевский желает быть первым.
Но пока он оставлен на второй год.
Последнее происшествие, при известии о котором папеньку чуть было не хватил удар (а пожалуй что и хватил), произвело не меньшее впечатление и на самого потерпевшего: с ним, по его словам, «сделалось дурно». Это немудрено: здесь жестоко страдало самолюбие и – уже не впервой – оскорблённое чувство справедливости. Помимо прочего, неперевод в следующий класс открывал добавочную статью родительских расходов.
«Мы не знаем, что Вам вздумалось, милый папенька, писать к нам о деньгах. О! у нас их ещё очень много», – бодро сообщают братья летом 1837 г., в первые месяцы своего столичного житья. Кажется, это единственный случай: более они никогда не решатся на столь легкомысленные заявления.
Почти все письма Достоевского к Михаилу Андреевичу полны просьб о денежном вспомоществовании. Почтительный сын, он никогда не просит денег просто так – аккордно и неподотчётно, он самым подробнейшим образом исчисляет свои – в большинстве своём крайние – нужды. Так, извещая Достоевскогостаршего, что решительно все его новые товарищи обзавелись собственными киверами, он тонко даёт понять неизбежность и для себя этих чрезвычайных трат. Дело, оказывается, отнюдь не в стремлении не отстать от прочих, а главным образом в том, что старый его кивер «мог бы броситься в глаза царю».
Подобные аргументы, долженствующие, по мысли автора, продемонстрировать его непосредственную близость к источнику власти (и произвести тем самым неотразимое действие на законопослушного родителя), эти государственные мотивы сменяются со временем доводами более прозаическими: «…я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги в лагери, потому что туда надо запасаться этим».
О возможном неудовольствии монарха по поводу не совсем исправных сапог на сей раз умалчивается.
Дочь Достоевского Любовь Фёдоровна утверждает, что её дед «владел имением и деньгами, которые он копил для приданого своим дочерям», а посему будущего автора «Преступления и наказания» глубоко возмущали те лишения и унижения, которым его «подвергала скупость отца».
Любовь Фёдоровна по обыкновению несколько преувеличивает: мы знаем, что «именье» не приносило почти никакого дохода, а приданым для дочерей пришлось озаботиться всё тем же Куманиным. Сам Достоевский ни разу – ни прямо, ни косвенно – не попрекает отца за прижимистость. Наоборот, он всячески пытается войти в его положение. «Боже мой! Долго ли я ещё буду брать у Вас последнее… Знаю, что мы бедны». Он говорит, что, если бы он обретался «на воле», он бы не требовал от отца ни копейки: «…я обжился бы с железною нуждою».
Отметим в скобках энергическую точность эпитета.
Те материальные и сопряжённые с ними нравственные стеснения, о которых он повествует в письмах к отцу и брату, отнюдь не досужий плод его юношеских фантазий. Он действительно принуждён отказываться от многих благ, которыми походя пользуются его более обеспеченные соученики. Уместно всё же предположить, что воспитанники одного из самых престижных военноучебных заведений с голоду не пухли…
Здесь, пожалуй, впервые явила себя одна из характернейших его черт. Он всегда был склонен драматизировать свои обстоятельства.
П. П. СемёновТянШанский, обитавший в том же полевом лагере, что и Достоевский, свидетельствует: ему самому на все лагерные надобности хватало десяти рублей. А поскольку казённый чай давали утром и вечером, он вполне обходился без своего чая.
На этом сюжете мы обещали остановиться подробней.
Испрашивая у отца необходимые ему сорок рублей, Достоевский настоятельно подчёркивает, что он не включает в эту сумму расходы на чай и сахар. При этом даётся понять, что чай – не роскошь, а средство существования, ибо в условиях лагерного житья отсутствие этого ободряющего напитка влечёт невосполнимый ущерб здоровью. Но – тут следует самое патетическое место: «Но всё-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю».
Такое самоотвержение призвано было до глубины потрясти душу чадолюбивого родителя. Что, собственно, и входило в авторский замысел. Благородный отказ от предмета первой необходимости (только в силу бесконечной сыновней покорности трактуемого как баловство: «Что же, не пив чаю, не умрёшь с голода»), эта добровольно приносимая жертва оборачивалась немым укором. Уж если в уважении родительских нужд отказывают себе в таком невинном удовольствии, надо иметь воистину каменное жестокосердие, чтобы немедленно не удовлетворить все прочие пожелания бескорыстного просителя – хотя бы в вознаграждение за его стоический дух.
И тут, откуда ни возьмись, вновь возникает уже знакомый павловский мотив. «Однажды училище почтила Своим посещением… вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна. Осведомясь о пище кондукторов, Ея Величество приказала дозволить им по вечерам пить чай, для чего и подарила училищу самовар. В то время во всех прочих военноучебных заведениях чай положительно не допускался» [14].
В тоне официального историографа Училища, запечатлевшего этот замечательный, но, увы, пропущенный потомками факт, звучит законная гордость. Высочайше пожалованный чай – привилегия не менее почётная, чем отсутствие телесных наказаний. Поддержание доброй традиции в полевых условиях (уже на собственный счёт) становится делом чести.
Конечно, чай – только знак, символ нравственной независимости (СемёновТянШанский замечает, что чаепитие носило скорее ритуальный характер – «чтобы не отстать от других товарищей»). И хотя нелепо (вслед за Страховым) отождествлять автора «Записок из подполья» с его героем, нельзя упускать из виду, что слова подпольного парадоксалиста («Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить») могли заключать в себе реминисцентную пародию: во‑первых, некоторых реальных обстоятельств авторской юности [15], а во‑вторых, той эпистолярной методики, которая использовалась в сношениях с отцом.
Молодой Достоевский решает вопрос в пользу «света»: впрочем, последнее даётся ему не без известных усилий.
…Михаил Андреевич ещё успеет отозваться на указанное письмо. Он изобразит картину надвинувшейся беды: чёрные выжженные поля, обнажённые для корма скоту крыши, безысходность, отчаяние и гибель. Он высылает просимую сыном сумму, уведомляя, что не скоро сможет возобновить присылки. И – как бы в усиление его слов – это даяние оказывается последним.
На что способен народ
Надо признать, что малоподвижная судебная машина действует хотя медленно, но последовательно, не обходя ни одного из возникающих обстоятельств и формально исполняя все требования закона. Уездный суд надёжно страхует себя от возможных обвинений в недобросовестности или попытках замять дело. При этом главная ответственность перелагается на земский суд.
Удивительно другое. В 1925 г. деревенские старожилы – с чужих, разумеется, слов – «вспоминают» подробности (во многом совпадающие, заметим, с теми, что приводятся в воспоминаниях Андрея Михайловича). Так, сквозь тьму времён доходит известие, что в момент покушения «навоз мужики возили». Эта устойчивая деталь, фигурирующая также и в официальных бумагах, как бы намекает на тайное равноправие обеих версий…
Допустим и «промежуточный» вариант: припадок и смерть, последовавшие в результате нападения.
Апоплексический удар под бесцветным, пустым, выжженным июньским небом столь же вероятен, как и зверское умерщвление опостылевшего и распутного помещика. Среди убийц находились и родственники 16летней Катерины, которая незадолго до того прижила от барина вскоре умершее дитя. А само нападение, по некоторым сведениям, совершилось во дворе крестьянина Ефимова – двоюродного брата Катерины. «Убийство Михаила Андреевича, – замечает Нечаева, – …имело особый характер (сдавливание гениталий. – И. В.), который может быть истолкован как месть за женщину». Надо думать, однако, что метод предполагал прежде всего неоставление улик. Иначе – если длить аналогию – вливание в барскую глотку бутылки спирта тоже может быть истолковано в сугубо символическом смысле…
Ч. Б., разумеется, не может проигнорировать такой сюжет. Его не удовлетворяет скупая информация Андрея Михайловича («Катя… была огоньдевчонка»), и он смелыми мазками дополняет картину: «рано развившаяся девочка с широкими бедрами и пышной грудью (вот, вот они, недостающие подробности, уличающие, но отчасти и оправдывающие поздние мужские порывы Михаила Андреевича! – И. В.), так не соответствующими её тонкому, скорбному лицу и тихим, задумчивым глазам…» (само собой, с «задумчивыми глазами» более гармонировали бы узкие бедра). Оказывается, вовсе не маменьку ревновал несовершеннолетний Федюша, а пышногрудую горничную отца: какое, однако, посрамление для фрейдистов! Но и её настигает рок. «…Катерину вытащили из неумело прилаженной на сеновале петли», – горько заключает Ч. Б.: бестактно вопрошать подлинного художника, откуда он известился об этом не отражённом ни в одном источнике приключении…
Откуда, собственно, пошёл слух? Почему у Хотяинцевых возникли подозрения о насильственной смерти соседа? Лейбрехт, говорящий с их слов, утверждает, что «какаято девка Гна Достоевского слышала крик его, и чтобы она о том никому не говорила брат её запрещал».
Какая такая «девка»? И какой такой «брат»?
Известно, что после появления первенца – незаконнорожденного сына Михаила Андреевича – Катерина была возвращена из господского дома в деревню, в семью своего двоюродного брата (она была сирота). Именно у него во дворе, по словам крестьян, совершилось убийство.
«Девка Гна Достоевского» – очень похоже, что это всё та же Катерина. Она «слышала крик»: что пробудил он в её смятенной душе? В отличие от Ч. Б., загнавшего бедную самоубийцу на сеновал, у нас нет никаких оснований подозревать Катерину в чувствах, враждебных отцу её ребёнка. Мы бы даже рискнули предположить обратное, хотя сознаём, что такое допущение способно навлечь на нас упрёк в притуплении классового чутья. Молодая мать слышала смертный крик убиваемого. Несмотря на угрозы брата, она могла поведать об услышанном: например, крестьянам Хотяинцева или даже самим Хотяинцевым. Толки дошли до Лейбрехта… Ход делу был дан.
«Ищите женщину!» – радостно восклицаем мы, указуя на тайный движитель преступлений. Но не она ли (женщина) есть и вернейшее средство к разоблачению оных?
Достоевский, по свидетельству очевидцев, не любил говорить об отце. Это объясняют его неприязнью к покойному. Но не вернее ли предположить, что сыновняя сдержанность была вызвана и воспоминаниями о чудовищных подробностях отцовской кончины?
Незадолго до смерти автор «Мёртвого дома» скажет А. С. Суворину: «Вы не видели того, что я видел… вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи».
Интересно, где именно мог наблюдать он эти проявления слепой и стихийной ярости? На каторге? Разумеется. Хотя там – не столько видел, сколько слышал («страшные истории» – непременная принадлежность каторжного фольклора). Не правильнее ли поэтому отнести его слова о народной ярости к собственному семейному опыту («видел» = «знал»)?
Независимо от того, как отвечаем мы на сакраментальный вопрос, «был ли убит отец Достоевского», трудно предположить, чтобы у самого писателя существовала на этот счёт точка зрения, отличная от семейной. В свою очередь, документы, призванные как будто поколебать уверенность в возможности криминального исхода, цели этой не вполне достигают. Оказывается, что слухи об убийстве отца не позднейшие домыслы, не навет, порождённый мстительным воображением потомков, – о преступлении догадывались современники событий.
Не исключено, правда, что именно «вмешательство» Лейбрехта явилось тем спусковым крючком, который запустил миф о насильственной гибели Михаила Андреевича. То есть как раз тщательное расследование (долгая нерешаемость дела, доследования, допросы крестьян и т. д. и т. п.) породило слухи о криминальной подоплёке события, а услужливая молва подхватила и раздула первоначальные пересуды, персонифицировав предполагаемых участников убийства. Историки в равной мере могут как благодарить дотошного ротмистра, так и ретроспективно журить его.
Но тут различим ещё один поворот темы.
Дом с привидениями
Долгие годы автор «Братьев Карамазовых» проводит в стенах Михайловского замка. Между тем стены эти хранят государственную тайну. Повествуя о пребывании Достоевского в училище, Савельев говорит, что будущий инженер хорошо изучил топографию замка. Думается, его не меньше интересовала история.

