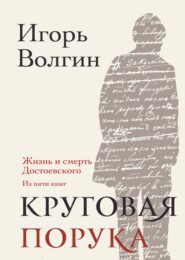скачать книгу бесплатно
Рассудку, впрочем, было отчего ожесточиться. Ибо время с 1846 по 1849 г. оказалось для Достоевского периодом проб (благозвучие требует непременного «и ошибок», но мы, затруднившись расшифровкой термина, пожертвуем им вовсе). Автор «Бедных людей» нимало не убеждён, что, сочинив этот роман, он раз и навсегда решил вопрос о творческом методе. Он находится в постоянном поиске, «сталкивая», казалось бы, взаимоисключающие приёмы письма и отваживаясь на рискованные художественные эксперименты. («В моём положении однообразие – гибель»).
Белинского, только недавно провозгласившего принципы новой реалистической поэтики, не мог не насторожить гипертрофированный психологизм «Двойника». Размытое, двоящееся, «несфокусированное» изображение представлялось ему отходом от этих принципов. Рецидивы поверженного романтизма, обнаруженные в «Хозяйке» (этой негодной попытке «помирить Марлин<ского> с Гофманом, подболтавши немножко Гоголя»), должны были окончательно вывести его из себя.
Особого неудовольствия удостаивается «фантастический колорит». «Фантастическое, – строго замечает критик, покоряя друга-читателя неоспоримостью аргумента – в наше время может иметь место только в домах умалишённых, а не в литературе, и находиться в заведывании врачей, а не поэтов… В искусстве не должно быть ничего тёмного и непонятного…» Не будем, однако, спорить с этой замечательной мыслью: автор не виноват, что он не дожил до лучших времён и не читывал того, что читывали мы…[67 - А ведь писано тем же автором в 1840 г.: «Фантастическое есть тоже один из романтических элементов духа, который должен быть развит в человеке, чтоб он был человеком» (Белинский В.?Г. Полн. собр. соч. Т. III. С. 506.). Неужели так скоро всё это принесено в жертву новейшим откровениям позитивизма? И «фантастическое» изгоняется потому, что и религия может быть отнесена к этой туманной области духа?]
…Какое, всё же, подспорье для совести и души – счастливое озарение, что Александр Андреевич Чацкий несколько не в себе! Сколь утешительна эта мысль, а главное, сколь необходима она при всех наших недоумениях и печалях! И вот уж велено докторам ежедневно свидетельствовать себя не сознающего басманного жителя и оказывать ему всяческие пособия и попечения. Можно ли не умилиться мягкосердечию высшей власти, избавившей бедного больного от заслуженных им взысканий! И мы облегчённо вздыхаем, уверясь в том, что смущавшие нас парадоксы – всего лишь следствия гибельных для здоровья занятий, частых и непомерных напряжений ума. Но, Боже правый! Зачем ненавистники власти так рабски копируют её же приёмы, и не из того же ль посева возрос этот жалкий ребяческий плагиат? Двусмысленный шепоток предшествует появлению «Выбранных мест», а по выходе их разносится громовое: «Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться, или – не смею досказать моей мысли…» «Конечно, конечно, лечиться!» – радостно подхватываем мы, желая отклонить от неосторожного автора ещё более мрачные подозрения. Конечно, лечиться – в спецучреждениях, в психушках – к вящей пользе тех, кто, как выяснилось, скорбен главой. Ибо помыслить их здоровыми – значит признать безумными самих себя. Лишь бы не догадаться, что наша история – это история болезни: всё дело в неадекватности отдельных лиц!
«Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный», – говорит Достоевский. На дворе осень 1846 г. Но отношения не могут долго оставаться «добрыми», если само добро понимается розно.
Справедлива мысль, что, будучи одним из «виновников» такого явления, как Достоевский, Белинский влиял на будущего автора «Братьев Карамазовых» «вовсе не как критик» (вернее, не только как критик)?[68 - См.: Виноградов И. Диалог Белинского и Достоевского: философская алгебра и социальная арифметика // 3намя. 1986. № 6. С. 230.]. Гораздо могущественнее было его воздействие как идеолога и ересиарха.
Если вера Достоевского прошла через «горнило сомнений», можно сказать, что впервые это горнило раздул Белинский.
«…Он тотчас же бросился… обращать меня в свою веру… Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма». Так говорит автор «Дневника писателя» в 1873 г.
Атеизм становится мировой религией.
За четыре года до знакомства с автором «Бедных людей» Белинский писал В.?П. Боткину, что он не может веровать «в мужичка с бородкою, который, сидя на мягком облачке, < – > под себя, окружённый сонмами серафимов и херувимов, и свою силу считает правом, а свои громы и молнии – разумными доказательствами. Мне было отрадно… – заключает Белинский, – плевать ему в его гнусную бороду».
Крепкие выражения употреблялись, как видим, по поводам не только литературным.
В 1842 г., сообщая тому же корреспонденту о внезапной смерти 25летней жены А.?А. Краевского (старшей сестры Авдотьи Яковлевны Панаевой), Белинский позволяет себе не меньшее богохульство. «Велик Брама – ему слава и поклонение во веки веков!.. Леденеет от ужаса бедный человек при виде его! Слава ему, слава: он и бьётто нас, не думая о нас, а так – надо ж ему что-то делать. Наши мольбы, нашу благодарность и наши вопли – он слушает их с цыгаркою во рту и только поплёвывает на нас в знак своего внимания к нам».
Сказано также неслабо.
Конечно, отсюда ещё далеко до принципиального неверия: отрицается, скорее, определённый тип религиозности. Но доводы подобного рода запоминаются крепко. Не эта ли сокрушительная аргументация была обрушена на голову Достоевского при вступлении его на поприще?
И не тогда ли незамутнённая «слезинка ребёнка» (вспомним французский рассказ), утрачивая свойственную ей литературность, начала отливаться в грозное философское вопрошение?
«…Я страстно (выделено нами. – И. В.) принял всё учение его», – говорит Достоевский. «Всё учение» означает и «бунт». Богоборческие инвективы Ивана, его этически неопровержимые «contra» – всё это столь выстрадано и страстно, что заставляет задуматься о возможных автобиографических мотивах.
(Да: «…принял всё учение его». Весной 1846 г., сообщая брату литературные новости, Достоевский роняет загадочную обмолвку: «Пропускаю жизнь и моё учение…» В многозначительно подчёркнутом слове желательно бы, конечно, углядеть тайный намёк на успехи Белинского в духовном совращении своего прозелита.
Но с равным основанием нам могут указать и на конкурентов – помянутых выше Минушек и Кларушек… В жизни всё смешалось, почти как в доме Облонских, и кто возьмётся по прошествии стольких лет без риска ошибиться отделить идейных агнцев от безыдейных козлищ?..)
Славно, что мы хотя бы имеем возможность прислушаться к спору.
«– Да знаете ли вы, – взвизгивал он (Белинский. – И. В.) раз вечером (он иногда както взвизгивал, если очень горячился, обращаясь ко мне), – знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведён к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже захотел»?[69 - Дневник писателя. 1873. Январь. Старые люди.].
Творец сам виноват, что не создал человеку приличных условий: тогда бы и он, человек, смог бы вести себя много пристойнее!
Достоевскому тоже довелось размышлять над коварным вопросом.
«Делая человека ответственным, – напишет он в 1873 г., – христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет – так убить другого, чтобы достать табаку».
«Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их – так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать?»[70 - Там же.]
Кажется, Белинский мало преуспел, обращая Достоевского в свою веру (вернее, в своё безверие). Слишком различен был их духовный состав. Зато почти безошибочно можно обозначить общую точку. Это жгучий интерес к проблеме теодицеи (т. е. богооправдания, снятия вины с Творца за существование мирового зла). Ни Белинский, ни Достоевский вовсе не приходят в восторг от несовершенства творения. Но в их кажущемся единомыслии таится нота смертельного разлада.
Строго говоря, аргументация Ивана Карамазова неопровержима с точки зрения формальной логики. Алёшино «Расстрелять!» – красноречивое тому свидетельство. Но у Алёши есть запасной козырь – тот, который одинаково чужд как брату Ивану, так и «предтече» Ивана – Виссариону Белинскому. Белинский полагал, что в творение только ещё предстоит внести искупающий его смысл. По Достоевскому, такие обетования уже даны.
В 1867 г., находясь за границей, он пишет для готовящегося в России литературного сборника статью «Знакомство моё с Белинским». Работа подвигается туго, и в одном из писем можно отыскать намёк на причину авторских мучений: «Только что притронулся писать и сейчас увидел, что возможности нет написать цензурно…»
Статья (немалая по объёму) была всё же написана, отослана и – бесследно исчезла. Она не найдена до сих пор. Однако ряд косвенных указаний позволяет понять, какой именно аспект смущал мемуариста.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: