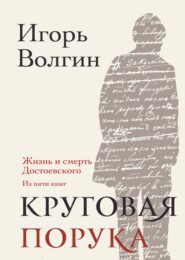скачать книгу бесплатно
Замечательно, что Анненков (точно так же, как и Достоевский в случае с «Посланием») почти четверть века ничего не ведал об этой характеристике: вплоть до возникновения «дела о кайме», когда Суворин, желая побольнее уязвить оппонента, опубликовал указанную эпиграмму в «Новом времени» (4 мая 1880 г.). Разобиженный Павел Васильевич не нашёл ничего лучшего, как приватно возразить, что он «фуражки – ейБогу – никогда не носил» и что «это напраслина»?[60 - М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 3. С. 387.].
Впрочем, по сравнению с «каймой» «фуражка» выглядела сущей безделицей.
Достоевский не мог поверить в то, что он является адресатом «Послания». В свою очередь, Анненков, ознакомившись с эпиграммой на себя, усомнился в авторстве Некрасова: «А впрочем может быть и он состряпал – таков был человек».
Полемика вокруг «каймы» сильно огорчила мемуариста. Спустя три месяца, когда, казалось бы, должны были стихнуть страсти, он, всё ещё негодуя, пишет Стасюлевичу, что прибывающая в Карлсруэ великая княгиня Мария Максимилиановна (внучка Николая I и дочь того самого «Лейхтенберга», который некогда «уважал» Достоевского) «упорствует считать меня порядочным и честным человеком, несмотря на все возражения “Нового времени”. Вероятно – не читает его»?[61 - Там же. С. 387, 390.].
Надо полагать, Достоевский негодовал не меньше. Он даже положил не подавать руки Павлу Васильевичу, если вдруг встретит его на Пушкинском празднике в Москве. Они действительно встретились – и Анненков наградил Достоевского поцелуем: интересующихся подробностями отсылаем к другой нашей книге?[62 - См.: Волгин И.?Л. Последний год Достоевского. М., 2017. С. 385, 390.].
Между тем «Вестнику Европы» надо было срочно спасать лицо, ибо, доверившись мемуаристу, редакция попала в пренеприятное положение. Дабы не усугублять конфуз, Стасюлевич, естественно, отказался воспроизвести в печати путаные и маловразумительные оправдания своего баденского корреспондента. Издатель обратился к другому лицу – единственному благополучно здравствующему автору «Послания». Именно Тургенев, находившийся в эти дни в Петербурге, поспешил подтвердить истинность слов своего старого друга, заменив при этом, однако, «Бедных людей» на никому не ведомый «Рассказ Плисмылькова». (Что окончательно запутало дело. Ибо «Рассказом Плисмылькова» первоначально (в журнальном объявлении) именовался будущий рассказ Достоевского «Ползунков», напечатанный в 1848 г. в запрещённом цензурой «Иллюстрированном альманахе» Некрасова и Панаева. Никакой «каймы» вокруг «Ползункова» в дошедших до нас экземплярах нет?[63 - В «Иллюстрированном альманахе» 1848 г. «Ползунков» (т. е. «Рассказ Плисмылькова») снабжён рисунками П.?А. Федотова. Это единственное произведение Достоевского, иллюстрированное в 40-е годы. В тексте альманаха «Ползункову» непосредственно предшествует рассказ А.?В. Станкевича «Дурак Федя»: справедливо ли усмотреть в этом случайном соседстве тонкий выпад издателей против одного из авторов?].)
Конечно, в редакционном ответе «Вестника Европы» нет прямой ссылки на новый источник информации (т. е. на Тургенева), да и в качестве сочинителей «Послания» упомянуты лишь покойники (Некрасов и Панаев). Тургенев предпочёл сокрыть своё участие под неопределённым «и др.». У живого автора, и без того состоявшего в сложных отношениях с героем, не было ни малейшего желания настаивать на своих правах. Но, разумеется, именно с его слов была обнародована на страницах журнала последняя строфа «Послания» – с прозрачной заменой рифмующего слова «подлец» вызывающе деликатными точками… Скромность чрезмерная, особенно если вспомнить, что указанная строфа уже опубликована Панаевым в 1855 г., причём в неурезанном виде.
«Новое время» ответило на объяснения «Вестника Европы» очередными насмешками, а 18 мая Суворин уже от имени самого Достоевского опубликовал решительное опровержение журнальной сплетни. Полемика оборвалась…
Но не оборвалась традиция («…ставши мифом и вопросом» – как в воду глядели авторы «Послания»: действительно мифом и действительно вопросом). История с «каймой» периодически всплывала в той или иной мемуарной интерпретации, причём надо заметить, что все версии в конечном счёте восходят к Тургеневу. Достоевский, правда, до этого уже не дожил. И хотя нынешние исследователи склонны сюжет с «каймой» считать чистейшим, ни на чём не основанным вымыслом?[64 - См. обстоятельную и конструктивную работу В.?Н. Захарова «По поводу одного мифа о Достоевском» (Север. 1985. № 11. С. 113–120).], настойчивость упоминаний заставляет поискать какие-то реальные обстоятельства, хотя бы и до неузнаваемости искажённые логикой мифа.
Для того чтобы отвергнуть легенду, необходимо постичь её механизм.
Кто в первую очередь был заинтересован в том, чтобы отличить «Бедных людей»? Разумеется, сам издатель. Он прекрасно понимал, что «эта штука» (похитим у будущего бессмертную формулу) если и не посильнее «Фауста» Гёте, то тем не менее всё же способна стать главной приманкой «Петербургского сборника». И Некрасов действительно выделяет роман, открывая им свой альманах.
Ни о какой «кайме» толков пока нет. Правда, говорят о другом: об иллюстрациях.
Что собираются иллюстрировать?
Открыв «Петербургский сборник», каких-либо картинок к «Бедным людям» мы там не обнаружим. И всё же они существовали. Указания на это содержатся по меньшей мере в двух независимых друг от друга источниках.
Во-первых, свидетельство художника П.?П. Соколова: ему были заказаны Некрасовым иллюстрации к роману.
Во-вторых, «Северная пчела». Её сотрудник Л.?В. Брандт, как и следовало ожидать, был покороблен «великолепно-картинным» объявлением о «Петербургском сборнике», которое он углядел в кондитерской на Невском проспекте.
Без риска ошибиться можно утверждать, что речь у Брандта идёт о первых в мире иллюстрациях к сочинениям Достоевского.
Выше уже говорилось, что булгаринская газета встретила дебютанта решительным поношением. И на сей раз упоминание о «Бедных людях» выдержано в таком же глумливом тоне. Но для нас в данном случае важна не оценка, а информация. Очевидно, те самые рисунки Соколова, которые по неизвестным причинам не попали в печатный текст, были использованы для рекламы. И не исключено, что автор «Бедных людей», так и не дождавшийся обещанных иллюстраций, высказал в связи с этим своё неудовольствие.
Подобные огорчения не могли укрыться от его весёлых литературных друзей: об этом свидетельствует блистательное «Послание».
Но что удивительно. Кроме указанного стихотворного текста (32 строки), не существует ни одного относящегося к 40-м годам источника, где бы упоминалась история с «каймой». Ни в переписке современников, ни в их дневниках на это нет и намёка. Каким же образом такой соблазнительный факт мог ускользнуть от внимания друзей и врагов? Белинский, например, сообщает о Достоевском «анекдоты» куда менее занимательные. О «кайме» же впервые вспоминают лишь в 1855 г. (фельетон Панаева): тут уже она повышена в ранге и именуется «золотым бордюром». В самый момент происшествия «нехудожественные» известия о нём отсутствуют.
Всё это наводит на мысль, что слух о «кайме» возрос не на основе конкретного, достоверно известного и твёрдо зафиксированного в общественной памяти события, а синтезировался из разного рода пересудов и кривотолков. Но как возникли эти последние?
И снова сквозь шум времени (который, как водится, большей частью состоит из звуковых помех) доходит до нас слабый голос героя. Доходит, правда, не «напрямую», а в позднейшей передаче Константина Леонтьева. Да и сам Константин Леонтьев в данном случае лишь ретранслятор: он старательно воспроизводит рассказ Ивана Сергеевича Тургенева.
Тем не менее – вслушаемся.
«Знаете, – моюто повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести!»
Вот она, криминальная фраза! Очевидно, на этих (действительно неосторожных!) словах и основывались авторы «Послания». Для них совершенно безразлично, когда и при каких обстоятельствах слова эти были произнесены.
Между тем самое замечательное тут – это интонация: она прорывается сквозь двойные литературные фильтры. В словах Достоевского нет ни гордыни, ни самоупоения; тон здесь скорее просительный, почти защитный («каким-нибудь бордюрчиком»!). Нам както уже приходилось говорить, что так мог бы изъясняться и Макар Девушкин.
К какому же тексту относится указанная просьба?
«Бедные люди» и «Двойник» уже опубликованы, «Рассказа Плисмылькова» («Ползунков») нет ещё и в намётках. Между тем Белинский, увлечённый издательским успехом Некрасова, затевает собственный сборник – «Левиафан». Достоевский, поспешая, пишет для него повесть «Сбритые бакенбарды».
Справедливо замечено, что по буквальному смыслу «Послания» его герой «потребовал обвести каймой произведение, которое просто не существовало». А этого быть не могло, поскольку «Достоевский так не шутил»?[65 - Север. 1985. № 11. С. 118.].
Не было текста – не было и просьбы о «кайме». Но, может быть, Достоевский и позволял себе такие шутки именно потому, что произведение ещё не написано?
На титульном листе «Петербургского сборника» значится: «Некоторые статьи иллюстрированы». И это действительно так. К примеру, стихи Тургенева украшены 19 отличными рисунками, а рассказ Панаева – 25 политипажами! В «Бедных людях» обещанные ранее иллюстрации отсутствуют. Так отчего же не намекнуть непрактичному Белинскому, что недурно бы в предполагаемом «Левиафане» украсить предполагаемую повесть хотя бы «каким-нибудь бордюрчиком» (сиречь иллюстрациями), раз чести этой удостаиваются и другие авторы. Чем он, Достоевский, хуже остальных?
Попробуем на минуту отвлечься и представить, как происходит дело. (Мысленная инсценировка – при скудности документов – не худшая форма познания.) Честная компания сидит у Белинского и обсуждает альманашный проект. Некрасов, Тургенев, Панаев – люди в издательском деле тёртые – наперебой предлагают: мне хорошо бы такието иллюстрации, мне – такието… Достоевский, ущемлённый, как помним, художниками «Петербургского сборника», робко встревает: и мне… Какое, однако, самомнение!
Между тем он требует не преимуществ, а равенства. И если бы речь шла именно о рисунках, никому бы не пришло в голову обыгрывать этот сюжет. Но герой, к несчастью, выражается непрямо. Он предпочитает иносказания. Эвфемистическое «бордюрчик» – бесценный подарок литературным остроумцам. Они подхватывают словцо и превращают его в улику.
Через тринадцать лет, в письме к брату из Семипалатинска, обсуждая планы переиздания «Бедных людей», Достоевский заметит: «Как бы хорошо сделал Кушелев, если б издал с иллюстрацией! Это было бы очень хорошо».
Опять интонация: не сожаление ли об упущенных некогда возможностях?
И, наконец, последнее.
«Обведу тебя каймою, помещу тебя в конец», – сулит обозлённый издатель. То есть? То есть преподнесу твой текст так, как положено, увы, подавать в печати неизбежные горестные заметы… Не намекалось ли тут самым невинным образом, что требующий «каймы» как бы печётся о собственном некрологе?
Итак, если «каймы» физически не существовало, то, как полагают иные, «что-то без сомнения было». И это «что-то» принадлежит к тому же ряду двоящихся сюжетов, которые словно для того и возникают, чтобы подчеркнуть соблазнительное сходство (первым соблазнился Белинский) между автором и героем «Двойника».
Отозвавшись в 1877 г., что «повесть эта мне положительно не удалась», Достоевский тут же добавляет: «…серьёзнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил».
Двусмысленная судьба «Двойника»…
К истории болезни
Главы из повести читались у Белинского ещё в декабре 1845 г.: об этом много лет спустя поведал сам Достоевский. Избирательная, как у всех авторов, память запечатлела подробности. Тургенев, прослушавший половину, «похвалил и уехал» («очень кудато спешил», – добавляется в скобках, – и эта тридцатилетней выдержки ирония свидетельствует о незабытых обидах). Самому же Белинскому всё, что ни пишет его литературный крестник, нравится как бы по инерции. Правда, в его печатном отзыве уже различимы мягкие укоряющие нотки.
Это едва наметившееся охлаждение гораздо откровеннее заявляет о себе в коллективном «Послании»: «Из неизданных творений удели не „Двойника”». И не знающий этих строк, но известный своей чуткостью герой более всего огорчён тем обстоятельством, что «наши» (и прежде всего – Белинский) недовольны им «за Голядкина».
Впрочем, первый истолкователь «Бедных людей» ещё столь пламенно верует в возможности молодого таланта, что, торопя Герцена поскорее дать повесть в проектируемый «Левиафан», уверяет своего корреспондента, что она (повесть) была бы в альманахе капитальною вещью, «разделяя восторг публики с повестью Достоевского» («Сбритые бакенбарды»): последней между тем ещё не существует в природе, и она никогда не будет дописана.
Неуспех «Двойника» вызывает у его создателя сильнейшие душевные муки. И если первое сообщение брату, будто литературные переживания повели к тому, что автор «заболел от горя», выглядит столь же литературно, то подробности, явившиеся позже (после обморока у Виельгорских), не оставляют сомнений в том, что апрельский кризис 1846 г. потряс весь его организм.
«Каждый мой неуспех производил во мне болезнь», – скажет он позднее.
Речь зашла о здоровье: о том, чего Достоевскому всегда не хватало.
В отличие, скажем, от Пушкина или Толстого он не был человеком физически крепким. К нему легко привязывались мелкие телесные недуги. Его преследовали нервические расстройства. Все воспоминатели отмечают бледность его лица.
В год своего дебюта он всё время меняет квартиры – словно одержимый каким-то тайным беспокойством. Душевная неприкаянность прежде всего воплощается в быте: он буквально не может найти себе места.
Он любит селиться в угловых домах – в точке схождений и пересечений – там, где запинается линейный ритм городской застройки и просматриваются разные пространственные возможности. При этом он отдаёт предпочтение тем квартирам, из окон которых можно наблюдать церковные купола и шпили: зримые знаки обетованной миру гармонии.
Но пока гармонии не предвидится – не только в мире, но и в одной, отдельно взятой душе…
За несколько лет до смерти он продиктовал Анне Григорьевне, именуя себя в третьем лице, краткую свою биографию (сделано это было в первый и единственный раз – по чьей-то настоятельной просьбе). Не без гордости поведав о беспримерном успехе «Бедных людей», автор далее замечает: «Но наступившее затем постоянное нездоровье несколько лет сряду вредило его литературным занятиям».
Сами «литературные занятия» – не столь, заметим, малозначительные – не расшифрованы хотя бы в названиях. Зато «нездоровье» упомянуто как важный (пожалуй, даже решающий) биографический фактор. Ни с каким другим периодом своей творческой жизни Достоевский не будет так тесно увязывать указанное обстоятельство.
И тут является мысль: сугубо ли медицинскими причинами были вызваны его тогдашние недомогания? Или же естественные расстройства усугублялись отчасти их литературным происхождением?
Ни в детстве, ни в юности (т. е. до начала серьёзных занятий словесностью) никаких признаков эпилепсии у Достоевского не наблюдается. Правда, доктор Яновский говорит о какихто нервных явлениях (может быть, галлюцинациях? вспомним: «Волк бежит!»), которым, по словам его пациента, тот был подвержен в детские годы. Но только к одной эпохе – «вступлению на поприще» – сам больной относит зримое торжество мучившей его болезни.
Внимательный наблюдатель, он совершенно отчётливо характеризует своё состояние 1845–1849 гг. как душевную болезнь. Он избавится от неё только на каторге, которая, по его словам, обновит его физически и духовно. Но ведь именно на каторге – опять же по его собственному счёту – настигнет его эпилепсия. Как примирить эти, на первый взгляд, несовместимые вещи? Одна ли болезнь вытеснила другую? Или за счастливое исцеление от «болезни нравственной» пришлось заплатить столь высокую цену?
С эпилепсией у Достоевского обычно соединяется равнодушие к женскому полу.
О Смердякове замечено:
«…Женский пол он, кажется, так же презирал, как и мужской, держал себя с ним степенно, почти недоступно. Фёдор Павлович Карамазов стал поглядывать на него с некоторой другой точки зрения…
– С чего у тебя припадки-то чаще? – косился он иногда на нового повара, всматриваясь в его лицо. – Хоть бы ты женился на какой-нибудь, хочешь женю?..
Но Смердяков на эти речи только бледнел от досады, но ничего не отвечал».
Обладающий немалым житейским опытом, Карамазов-старший склоняется, очевидно, к мысли, что обострение природной болезни Смердякова сопряжено с вынужденным и не всегда полезным в его возрасте воздержанием. Правда, сам больной таковым обстоятельством вроде бы не удручён.
Высказывалась мысль, что появление у Достоевского эпилепсии (в её «классической» форме) именно на каторге связано с теми же неудобствами, которые вызывали искреннюю озабоченность Фёдора Павловича Карамазова. Намекалось даже, что сама эта болезнь была неизбежным следствием слишком резкого перехода от вольного петербургского житья к суровой каторжной прозе.
Эта гипотеза не хуже всех остальных, хотя не вполне ясно, почему болезнь не пошла на убыль вместе с уничтожением вызвавших её причин.
В «Идиоте» Рогожин и князь Мышкин обмениваются следующими суждениями:
«– А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!
– Я нннет! Я ведь… Вы, можете быть, не знаете, я ведь по прирождённой болезни моей даже совсем женщин не знаю».
«Незнание» женщин князем – прямой результат его недуга, в то время как у Смердякова сама болезнь, возможно, провоцируется высокомерной нравственностью героя.
Для эпилептиков Достоевского характерна некоторая непроявленность пола. «Священная болезнь» не только не подстёгивает половой инстинкт, но скорее притупляет его.
Всё это, разумеется, не означает, что анамнез автобиографичен: у Достоевского сложные отношения со своими героями.
Сложные отношения у автора «Двойника» и с самим собой. В одном из писем к брату он просит простить его за то, что был «угловат и тяжёл», гостя у него в Ревеле, и «нарочно злился» даже на маленького Федю (племянника, названного так, разумеется, в его честь). Он говорит, что был «смешон и гадок», приписывает это своему болезненному состоянию и выказывает раскаяние. Он знает о своём нелёгком характере, осуждает свои «уклонения» и просит поверить, что вовсе не они составляют его человеческую суть. Он занят не только самоанализом, но и тем, что позже будет названо им самоодолением.
Его всегда занимало, что думают о нём окружающие. Но в эти годы из всех своих современников он наиболее дорожит мнением одного. Он трудится с постоянной оглядкой на этого человека – того, чей образ всю его жизнь не будет давать ему покоя.
Чехов заметил, что царствование Белинского было для автора «Бедных людей» существеннее, чем царствование императора Николая.
Русский мат с идеологической подоплёкой
«К нему, – говорит П.?В. Анненков о Белинском, – всегда являлись несколько по-праздничному, в лучших нарядах, и моральным неряхой нельзя было перед ним показаться…»
«Лучшим нарядом» Достоевского были «Бедные люди». Праздник, однако, длился недолго.
Три капитальных момента определяют стремительное сближение и последующее расхождение… – ученика и учителя, по старой школьной привычке чуть было не обмолвились мы, но на ходу сообразили, что эти определения здесь не вполне уместны. Итак, три момента («три составных части…» – если уж на то пошло). Во-первых, эстетика. Во-вторых, проблемы общего мировоззренческого толка. И, наконец, меняющаяся литературно-журнальная ситуация.
Всё, что писал Белинский о Достоевском в «Отечественных записках», отмечено превосходной степенью. Даже указания на отдельные недостатки должны были льстить самолюбию: недостатки эти сопрягаются с избытком таланта, ещё не ведающего собственных сил.
Всего около полутора лет Достоевский мог числить себя принадлежащим к ближайшему окружению Белинского. Он вхож не только в духовный мир критика: он принимает посильное участие в его издательских и даже домашних делах. Когда весной 1846 г. жена Белинского вместе с сестрой и годовалым ребёнком отправляется на воды в Гапсаль, Достоевский предваряет их приезд в Ревель письмом к брату, где даются подробнейшие инструкции относительно приискания для Белинских «порядочной няньки». Он умоляет Михаила Михайловича оказать дружественному семейству всяческое содействие и гостеприимство.
Пока Достоевские приискивают няньку для дочери Белинского, сам глава отъехавшего в Ревель семейства путешествует по югу России.
Осенью 1846 г. все, как и положено, сходятся в Петербурге. Но за лето успели произойти события, которые явятся полной неожиданностью как для Белинского, так и для его литературного протеже.
Об этих изменившихся обстоятельствах будет сказано ниже. Пока остановимся на изменившихся оценках.
«…Это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе», – жалуется Достоевский брату в ноябре 1846-го. Он словно предчувствует недоброе.
Предчувствия оправдались. В первой же статье Белинского в первом номере обновлённого «Современника» (январь 1847-го) Достоевский помянут в тональности, прежде к нему не применимой. Правда, и тут об авторе «Бедных людей» и «Двойника» сказано несколько сочувственных слов. Однако третья его вещь, «Господин Прохарчин», напечатанная в «Отечественных записках», оценена неприязненно.
Хотя и в ней Белинский усматривает искры таланта, он раздражительно замечает, что искры эти сверкают «в такой густой темноте, что их свет ничего не даёт рассмотреть читателю».
В мае тон ещё более ужесточается. Возникают – что ранее полностью исключалось – откровенно насмешливые нотки.
О «Хозяйке» говорено с таким негодованием («что-то чудовищное», «странная вещь! непонятная вещь!»), какое может быть сравнимо лишь с восторгами, возбуждёнными «Бедными людьми». А в предназначенном исключительно для дружеских глаз послании (П.?В. Анненкову) Белинский прилагает к новой повести Достоевского уж вовсе непечатные определения?[66 - Письма Белинского (с несколько смягчённой издателями формулировкой: «Хозяйка» названа здесь «нервической чепухой», хотя в подлиннике употреблено более энергическое выражение) были опубликованы в № 187–188 «С.??Петербургских ведомостей» за 1869 г. и вполне могли стать известными находившемуся в то время за границей, но по мере сил следившему за отечественной прессой Достоевскому. Таким образом, спустя двадцать с лишним лет он имел возможность ознакомиться с «внутренними» отзывами «наших», что, конечно, могло лишь усилить его раздражение против изображаемых в «Бесах» «людей 40х годов».].
В 60-е годы Тургенев тактично предположил, что прославление Белинским «свыше меры» «Бедных людей» «служило доказательством уже начинавшегося ослабления его организма». Казалось бы, пришедшее наконец прозрение должно свидетельствовать об окрепшем здоровье.
Увы, увы! Знаменитое – «надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!» – доносится почти из гроба: жить Белинскому остаётся всего чуть-чуть.
Выходит – не благословил?
Через тридцать примерно лет Достоевский запишет в рабочей тетради: «При огромном таланте можно высказать много чувств (Белинский), но всё-таки не быть критиком».
Он не отказывает Белинскому в таланте. Он не отказывает ему в чувстве. Он ставит под сомнение его профессионализм.
В той же рабочей тетради замечено: «Человек ограниченный (Белинский), который не в состоянии разглядеть в виновном невиноватого, а в ином и праведном виновного. Уж у него, кого признал праведным, – вечно праведен, а злодеем – тот вечно злодей».
Современники отмечают, что в своих симпатиях и антипатиях Белинский, напротив, был непостоянен, как женщина.
Кому же прикажете верить?
Верить приходится всем. Ибо по сути речь идёт об одном. С переменой точки зрения Белинский радикально уничтожал всё, с этой точкой зрения связанное. Он не ведал полутонов. Он не включал в своё новое понимание ни одного из элементов понимания старого. Неумение разглядеть в невиновном виновного и т. д. – не намекает ли это на отсутствие той душевной пластичности, которая только и позволяет оценить явление в разных его ипостасях, обозреть его с разных сторон?
Конечно, Белинский «вне середины». В этом – его сила. Но в этом же – слабость. «И – и» не для Белинского. Диалектический метафизик, он признаёт лишь «или – или». Он верен принципам, в которые свободно уверовал – и ничто не в силах поколебать в нём эту фанатичную убеждённость. Искусство должно споспешествовать исправлению нравов! Нравы, как видим, ухудшились, а искусство всё ещё живо.
«Я меняю убеждения, это правда, – говаривал “первый критик”, – но меняю их, как меняют копейку на рубль!»
Он был нерасчётлив, но искренен.
Да, Белинский был искренен: и тогда, когда превозносил «Бедных людей», и тогда, когда два года спустя признавался, что трепещет при мысли перечитать их. К счастью, он, кажется, так и не успел этого сделать: первое чувство (которое, как свидетельствует опыт, нередко оказывается самым верным) не подверглось ревизии ожесточённого критического рассудка.