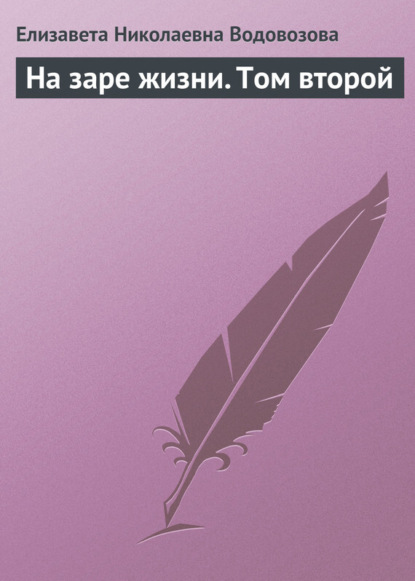 Полная версия
Полная версияНа заре жизни. Том второй
Но вот наступила пятая неделя нашего блуждания по несуществующим обедам, а в моем кармане оставалось лишь немного мелочи, которой не могло хватить на весь следующий день на пропитание детей и прислуги.
– Не отпустить ли мне няню? – советовалась я с Василием Ивановичем, но тут же сокрушалась о том, как тяжело это будет: няня – такая чудесная женщина, так искренно любит детей и нас! А для меня самой как горько, как обидно прекратить литературную работу: с уходом няни мне никогда не придется присесть к письменному столу, никогда не кончу я своего педагогического труда, который так уже подвинут вперед, следовательно, должна буду похерить все мечты и надежды на будущее. Трудно было отпустить няню и потому, что младший сын, крайне болезненный мальчик, постоянно хворавший, треш бовал не только безотлучного присутствия при себе, но и множества услуг.
– Никакая новая урезка тут не поможет. Опять придем к тому же, – проговорил Василий Иванович после долгого молчания.
– Нам бы пробиться год-другой… У тебя и у меня будут готовы книги к печати… Но что же делать теперь, сию минуту? Ведь завтра уже детям нечего будет есть! Боже мой, что же делать? Что делать, говори же?.. – И я зарыдала.
– То, что все делают в подобных случаях! Одно… одно средство… – каким-то раздирающим душу воплем прокричал мой муж и, не докончив фразы, быстро выбежал из комнаты. В первый и последний раз в жизни не мог сдержать себя этот на редкость выдержанный человек, большую часть своей жизни не только боровшийся со всевозможными лишениями, но и с нищетой в буквальном смысле этого слова. Никто никогда не мог сказать, в каком он настроении: он не выдавал его ни словом, ни звуком, ни жестом, работал каждую ночь до пяти часов утра и, кажется, только на этот раз решительно ничего не делал, а курил и шагал по своей комнате.
Убийственный намек, брошенный Василием Ивановичем, который нетрудно было понять без объяснений, потряс мой организм; одно воспоминание о нем приводило меня в ужас и исступление. Я очутилась в детской, бросилась на колени перед спавшими детьми и то с отчаянием умоляла их навести меня на мысль, что мне делать, то проклинала судьбу, что я не могу молиться, что я не верю ни во что, что я не надеюсь ни на высшую благость, ни на божье милосердье, что я лишена даже этого утешения.
На другой день Василий Иванович рано ушел в Публичную библиотеку, а у меня работа валилась из рук. Отдав последнюю мелочь на покупку провизии для завтрака, я вошла в детскую. К моему изумлению, мой младший сын, который без чужой помощи уже несколько месяцев не мог приподнять голову от подушки, теперь сидел в кроватке и просил его одеть. В последние дни я замечала улучшение его здоровья, на что указывала и врачу, который объяснял это усиленными приемами рыбьего жира и ваннами из морской соли.
– Да ведь он у нас поправился от молочной пищи! – воскликнула няня радостно и наклонилась к ребенку, уже так давно не сидевшему самостоятельно. – Доктора-то ваши все приказывают кормить говядиной, а наши крестьянские ребята и в глаза ее не видят. Там, где есть коровушка да бог хлебом не обидел, какие они здоровые да ядреные!
– Зато сколько их и умирает по деревням в раннем детстве! – заметила я.
Тем не менее меня тоже очень удивляло, что мой больной мальчик начал поправляться именно в последнее время, когда, вследствие отсутствия средств, я начала питать его исключительно молочного и мучною пищей.
Возвращаюсь к прерванному рассказу. Более бодрый вид ребенка и неподдельная радость няни несколько ослабили мучительную боль моего сердца. Я решила, что хотя и не заплатила няне жалованья за два месяца, но еще попрошу у нее взаймы несколько рублей. Мне казалось, что поговорить с ней об этом мне будет не очень трудно… Но боже мой, боже мой! Что же будет через несколько дней, когда опять ничего не останется, а впереди ничего, решительно ничего? Слезы падали на исхудалые пальцы ребенка, когда я усаживала его в кресло и расстанавливала на столике перед ним игрушки. В эту минуту кто-то громко позвонил. Няня вышла и через минуту подала мне карточку с фамилией, мне совершенно неизвестною.
Передо мной стоял человек средних лет с копною густых, кудрявых волос, своим обликом напоминавший художника. Он заговорил о том, что вот уже целый год, как он собирает сведения о портретах и картинах Угрюмова, Воробьева и других. Я сказала, что у нас есть только портрет отца моего мужа, но кем он написан – не знаю, и ввела его в кабинет.
– Ведь это же кисти Угрюмова! У вас должны быть другие его вещи, а также портреты и картины некоторых Умерших художников.
Он открыл записную тетрадь и начал вычитывать из нее всю подноготную отца моего мужа, его родни и знакомых, среди которых были художники такие-то и такие.
– Некоторые их произведения, – говорил он, – а также многие другие, перешли в собственность отца вашего мужа. Когда он разорился, а затем умер, все его произведения поступили в собственность матери Василия Ивановича, а после нее достались вашему мужу. Между ними должен находиться портрет одного сановника времен Николая Павловича: его прежде всего я и разыскиваю.
Только тут я вспомнила, что как-то нашла в одном углу нашей квартиры большой сундук и увидала, что он сплошь набит испорченными картинами. Он был водворен на чердак, где с тех пор и оставался, никому не нужный и всеми забытый. Когда по просьбе посетителя его внесли и открыли, он с ужасом всплеснул руками:
– Мало удавить тех, кто так относится к искусству! – произнес он, не стесняясь моим присутствием, и быстро начал вынимать и раскладывать портреты и картины на столе и полу; между ними нашелся и портрет вельможи со звездой. Все портреты, – их оказалось гораздо более, чем картин, – были покрыты плесенью от сырости; на некоторых из них зияли даже трещины и дырки, и все они были изрядно перепачканы.
– Если эти произведения валялись у вас на чердаке в таком преступном небрежении, они вам не нужны. Зав этого сановника со звездой я могу вам дать двадцать пять рублей. Впрочем, я хочу купить все ваши картины. Вы сами видите, что некоторые из них никуда не годятся: я даю за все двадцать штук – триста пятьдесят рублей.
От неожиданного счастья у меня забилось сердце и всю меня так стало передергивать и трясти, что я ничего не могла выговорить!
– Ведь вот вы ничего не смыслите в искусстве, а теперь думаете, что я хочу вас нагреть… Дескать, не найдется ли другого покупателя, который даст за этот хлам еще больше.
– Нет, нет, берите, если только можете сию минуту отдать мне деньги, – проговорила я наконец.
Он сейчас же отдал мне деньги.
– А теперь продайте мне портрет отца вашего мужа.
Я просила его раньше взглянуть на две небольшие неиспорченные картины: на одной из них были изображены монахи, молящиеся в часовне, а на другой – пейзаж. За них любитель картин давал еще 100 рублей, но я взяла его адрес и обещала ответить на его предложение на другой же день. Прощаясь, он приглашал меня посетить его мастерскую месяца через два, когда все купленные им картины будут реставрированы.
Я побежала отдавать жалованье служащим. С сияющими лицами они бросились меня обнимать, а няня, обливаясь слезами, умоляла оставить ее жалованье у меня.
– Когда совсем выправитесь с делами, тогда и отдадите. А нельзя будет, так год и два без жалованья служить буду. На башмаки или на что нужно у меня маленько прикоплено. А то я, глядючи на вас, совсем извелась! Поди же ты, какое горе свалилось! И с Варварушкой, вот при ней скажу, во как ссорилась за то, что она о ту пору своими глупыми словами ваше сердце пуще растравляла.
Подошла ко мне и кухарка с извинениями и тоже с просьбой оставлять у меня и ее жалованье.
– В книжку-то приписывайте, аккуратно приписывайте каждый месяц, чтобы, значит, чего не забыть, ну, а опосля все сразу и подсчитаете…
– Как посмотрю я на тебя, и глупая же ты, Варвара! И чего ты их наставляешь: «В книжку кажинный раз приписывайте»… Деревня! Тебе-то что? Не таковские, чтобы за ними что пропадало. Не первый год живешь, – сердито наступала на нее няня.
– Барыня, голубушка… Ах ты, господи, опять запамятовала!.. Вы ведь не любите, чтобы вас барынею называли… – припомнила Варвара мою просьбу: по принципу шестидесятых годов мы с негодованием отвергли эту кличку. – Я не такая зубоскалка, как она, что ни скажу, все по-ейному неладно… А я вас уж так прошу, так прошу: не то что с жалованьем могу потерпеть, а чтобы, значит, когда нужда опять вас пристукнет, так прихватите вы у меня деньжонок, – у меня больше ейного прикоплено. Она ведь целый день свои деньжонки транжирит на кофеи да на сливки.
Меня до глубины души тронули эти слова сердечного участия. «Как резко отличалось отношение этих двух простых женщин от поведения моей подруги, у которой я имела несчастье взять в долг», – пронеслось у меня в голове. Я горячо благодарила их и не стала настаивать, чтобы они тотчас получили свое жалованье, уверенная в том, что это их обидит. Их сочувственное отношение очень помогло мне пережить и дальнейшую страду моей жизни. Обе они беспрестанно прибегали ко мне посоветоваться, как устроить подешевле то или другое домашнее дело или покупку, когда забор провизии в долг опять превышал месячный срок. Варвара тащила с собой в лавку няню, рассчитывая на ее красноречие более, чем на свое собственное. И торговцы не тревожили теперь меня напоминанием об уплате. К тому же обе они зорко наблюдали за тем, чтобы в лавках ничего не приписывали лишнего. Мои отношения к ним тоже изменились: я говорила им теперь, когда кто-нибудь из нас получал работу или плату за нее. Как они радовались последнему и вперегонку начинали высчитывать, на сколько времени хватит у нас денег. Это было большим нравственным удовлетворением и облегчением для моей экспансивной натуры.
Когда Василий Иванович пришел за мной, чтобы отправиться на «фантастический обед», у нас стол уже был накрыт и вносили кушанье. Няня и я, мы со всеми подробностями передавали ему о чудесном избавлении нас от голода и мора. В первый раз после пяти недель мы наелись досыта.
У нас зашел разговор о двух картинах («Монахи в часовне» и «Пейзаж»). Василий Иванович очень удивлялся, что не вспомнил о них даже в такое критическое время, которое мы только что переживали. Он просил меня снести их в «Общество поощрения художеств» и узнать у Григоровича, нельзя ли их принять на выставку.
На вопрос Григоровича, за сколько я желаю их продать, я отвечала, что ничего в этом не понимаю и прошу позволения руководиться в этом деле исключительно его советом. По его мнению, за них следует назначить столько, чтобы за вычетом уплаты процентов в «Общество» для меня очистилось не менее 200 рублей. Мы так и решили. И на этот раз нам повезло: еще не наступили рождественские праздники, а Григорович уже известил меня, что картины проданы. Полученные за них деньги я немедленно вручила моей подруге С. и так была рада, что полугодовой срок, на который я брала деньги взаймы, еще не истек.
Мне недолго пришлось радоваться избавлению нас от грозившей опасности: уплатив неотложные долги из денег, вырученных за продажу картин, у меня опять оставалось немного. Неопределенный, совершенно случайный, заработок и тяжелое материальное положение становилось хроническим.
Среди наших знакомых распространился слух, что мы продали картины (которые я забросила на чердак на съедение крысам) и что это улучшило несколько наше материальное положение. За все это время мы мало кого видели из наших знакомых. Если не было необходимости достать какую-либо книгу или журнал, мы решительно никуда не выходили; с весны не было у нас и приемных дней. Впрочем, число их не только у нас, но посещение знакомыми своих друзей и близких вообще сильно поубавилось во время тяжелого периода этой ужасающей реакции.
Однажды к нам зашли два наших хороших знакомых: один из них, всегда оживленный, жизнерадостный студент, умел экспромтом и стишок сказать, подходящий к случаю, и сатирическую песенку спеть по поводу какого-нибудь дикого или курьезного общественного явления, и пляску сплясать с какими-нибудь смешными выкрутасами, и пробарабанить на фортепьяно для танцующих польку или вальс. Другой, года на три-четыре его старше, уже окончивший курс юрист – человек довольно мрачного типа; многие находили его красноречивым, а сам себя он считал чуть не будущим Демосфеном. Оба они объявили, что пришли к нам по поручению наших общих знакомых. «Мрачный юрист» произнес чуть ли не настоящую речь, а студент иногда вставлял благожелательное или остроумное словцо, что настолько смягчало укоризненный тон, выговор, который наставительно делал нам старший из них, и настолько серьезно, что можно было принять нас за провинившихся школьников. Когда на его вопрос, почему мы нигде не показываемся и закрыли наши вторники, мы отвечали ссылкою на занятия – это лишь подстрекнуло оратора к настоящему обличению.
– Умственно развитые люди, – говорил он, – прекрасно знают, что вы невинно пострадали от произвола и самодурства правительства, все более угнетающих честных людей. А как вы реагировали на это? Вместо того чтобы ближе сплотиться со всеми нами, поделиться мыслями по этому поводу и продолжать вращаться в среде ваших единомышленников, вы совершенно изолировались от них. А почему? Потому что вы попали в тяжелое материальное положение. Вот тут-то бы, казалось, и нужно было убедиться в симпатии к вам ваших знакомых и искать утешения в их сочувствии… Но из того, что вы не могли кормить нас закусками и ужинами… да, да, только из-за этого, я твердо убежден в этом, крепко-накрепко заперли двери вашего дома. Мы должны не для жратвы объединяться… Если при продолжительном сидении и по слабости человеческой натуры требуется перекусить, то почему же вы не вспомнили прекрасную традицию начала этого десятилетия, честное товарищеское правило? Ведь когда-то вы сами приходили в гости с тюричками… Что же, вы могли это делать относительно других, но, сохрани бог, чтобы кто-нибудь посмел это сделать относительно вас! Вас недаром считают гордячкой! Мысль – перед носом друзей запереть дверь – приписывают не Василию Ивановичу, а вам, Елизавета Николаевна, особе с дворянским, шляхетским гонором. Да будет вам стыдно!
– У вас веселятся от души, болтают без всяких стеснений… Какая жалость, что нельзя больше к вам приходить! – воспользовался студент маленьким перерывом во время длинной речи товарища.
– Да… с вашей стороны такое предвзятое изолирование от общества – поступок антисоциальный, узкоэгоистический. Теперь, когда вы крыс накормили картинами, вы можете пригласить нас в следующий вторник и напоить чаем. Если что-нибудь будет кроме этого, мы предупреждаем заранее, что все вынесем в кухню.
Во всех этих речах, теперь кажущихся архаическими, наивными и комичными, которые торжественно произносились нередко по поводу пустяка, выражались нравы того! времени: в них сказывались и стремление к обличению; и желание солидарности между знакомыми, но в то же время при всяком удобном случае красною нитью проходило и искреннее сочувствие к ближним.
Мы горячо поблагодарили наших посетителей и просили передать знакомым, что будем ждать их к себе в следующий вторник.
Первою явилась Е. К. Гайдебурова.
– Я сказала вашей нянюшке оставить дверь открытою: за мною к вам идут гости. Когда они соберутся, пусть занимают сами себя, а мы с вами отправимся поболтать в вашу комнату.
Не подозревая, что она умышленно желает вывести меня из столовой, я охотно последовала за нею.
– Гости желают видеть хозяйку! – кричали за дверью уже через полчаса после того, как мы уединились. Я вошла к ним и страшно переконфузилась. Наш обеденный стол был раздвинут и обильно уставлен всевозможными яствами и пивными бутылками.
Нелегко было жить тогда, очень тяжела была борьба за существование, но люди, которых мы наиболее уважали из нашей компании, не шли на компромиссы, чтобы обеспечить себя, мужественно боролись с лишениями и препятствиями, и их участливое сердечное отношение друг к другу, солидарность во взглядах на общественные задачи, служили большим утешением, вливая мужество и энергию для продолжения трудовой жизни.
С момента удаления со службы В. И. Водовозов ненадолго отвлекался от главных своих литературных работ ради небольших случайных заказов. Во все остальное время он трудился над своими книгами: над «Практической славянской грамматикой» и «Словесностью в образцах и разборах». Но одна за другой они появились лишь через два – два с половиной года. Кстати замечу: Василий Иванович приобрел привычку работать почти одновременно над двумя книгами, объясняя это тем, что когда голова утомлена одним трудом, ему необходимо оставить его на несколько дней и заняться другим; только это одно, по его словам, дает ему возможность никогда не прекращать умственный труд. И этому правилу он неизменно следовал до конца своей жизни.
Среди случайных литературных заказов были работы на довольно странных условиях. Однажды к нему явился Паульсон (основатель педагогического журнала «Учитель») и заявил, что он составляет две книги для чтения в элементарных школах: одна из них носит название «Первая учебная книжка» и была издана уже раньше, но ей предстоит переиздаваться, другая – «Вторая учебная книжка». Он просил Василия Ивановича написать для его обеих книг сколько для него возможно стихотворений, как оригинальных, так и переводных, лишь бы содержание их соответствовало назначению. По словам Паульсона, он, не получив стихотворений, не может заранее определить гонорара, но он «не обидит». Последнее, конечно, он добавил тоном шутки.
– Да, вот еще что, – сказал этот человек, который со всеми разговаривал весьма высокомерно, а в эту минуту как-то сконфузился и потерял свой обычный самонадеянный тон, – ни в первой, ни во второй части моей книги я не нахожу удобным выставлять имя автора каких бы то ни было стихотворений. К тому же стихотворения эти вы мне передаете в полную мою собственность раз навсегда. Говорю об этом так детально, чтобы впоследствии не было каких-либо недоразумений и пререканий. Надеюсь, что письменного условия с вами не потребуется.
– Конечно, я спорить и прекословить не буду… – в тон ему отвечал Василий Иванович, – я так люблю писать стихи! Когда у меня является эта страстишка, не подходящая для настоящего времени, я стараюсь себя обуздать. А так как эта работа будет теперь оплачена, я, кажется, присосусь к ней.
По черновым рукописям стихотворений, оставшихся после смерти Василия Ивановича, двадцать шесть стихотворений оригинальных и переводных было помещено в двух книжках Паульсона без имени их автора. Но, вероятно, их было гораздо больше: он нередко писал стихи на отдельных листках, бросая куда попало те из. них, которые были уже напечатаны. За все эти стихотворения Василий Иванович получил от Паульсона 150 рублей и находил эту плату вполне удовлетворительною. Любопытно, что в своих двух книгах Паульсон, когда заимствовал из чего бы то ни было уже напечатанного, он аккуратно указывал и называл имена авторов, только имя Василия Ивановича никогда не было упомянуто. Понятно, всеми было признано, что все неподписанное в двух книжках Паульсона принадлежит его перу. Оказалось, что при этом он имел предлог, хотя, конечно, весьма своеобразный, для оправдания себя: «Называю фамилии писателей, давших мне лишь печатный материал для помещения в моей книге, как и было мною условлено с автором».
Ушинский очень недолюбливал Паульсона за его чересчур авторитетный и самоуверенный тон и в компании знакомых нередко острил над этою чертою его характера. Однажды на одном из педагогических собраний Ушинский возражал Паульсону и начал словами: «Самомнение и самолюбование – свойства недоброкачественные и у нас по справедливости не пользуются особым фавором. Но что сказать о специальном реферате господина Паульсона, только что прочитанном перед собранием почтенных педагогов, основанием которого служат исключительно гнилые подпорки?» И затем, путем неопровержимых научных данных, он разбил в пух и прах реферат Паульсона. Это сильно посбавило его спесь и заносчивость, и члены педагогического собрания, раздраженные его высокомерием, часто и после этого инцидента вспоминали о блестящем возражении Ушинского, столь тяжелом для самолюбия Паульсона.
Однажды Ушинский приехал к нам с книгою Паульсона: в ней лежало несколько закладок.
– Признавайтесь, Василий Иванович; эти стихотворения – ваше произведение? Употреблять кстати народные обороты, писать литературно, да еще стихами, Паульсон, конечно, не может…
Василий Иванович сознался и рассказал об условиях с Паульсоном. Чтобы смягчить негодование Ушинского, сейчас же отразившееся на его физиономии, Василий Иванович похвастался хорошим гонораром.
– Как, вы считаете щедрым гонораром сто пятьдесят рублей за множество стихотворений? Упражнения, которыми господин Паульсон снабдил свою книжонку для обучения родной речи, несомненно, принадлежат его перу. В них рельефно сказывается отсутствие понимания духа русского языка и детской психологии. А ваши стихи и все повыдерганное им из чужих произведений даст возможность его книжонке выдержать несколько изданий. Вы же останетесь при пиковом интересе. И вы еще отдали ваш труд в полную его собственность, даже без права получить вознаграждение при последующих изданиях. Мне просто обидно за вас! И какой негодяй этот Паульсон: даже имя от вас отнял, нигде не подписал его, точно все ваши стихотворения его собственные. Это просто возмутительно до невероятности. Вот оно, наше вековое рабство!
Затем Ушинский начал резко выговаривать мне за то, что я допустила такую эксплуатацию и не оказала ему, моему наставнику, хотя самое маленькое доверие, не рассказала ему о наших материальных невзгодах, не взяла у него в долг, чтобы не допускать такого вопиющего безобразия. Он сам приехал бы все разузнать о нас, но, долго прожив вне Петербурга, не имел об этом никакого представления.
Из случайных работ, очень нечасто перепадавших в период наших тяжелых материальных невзгод, но хорошо оплачивавших авторский труд и приносивших нравственное удовлетворение, были статьи Василия Ивановича в «Отечественных записках» (во времена редакторства Некрасова, Елисеева и Салтыкова) под названием «Обзор книг и руководств для общего образования». Особенное оживление внесло в жизнь Василия Ивановича летнее временное заведование редакциею «Отечественных записок». Когда однажды Елисеев уезжал на лето лечиться за границу, он передал свои обязанности Василию Ивановичу. Елисеев остался им, видимо, очень доволен, так как он говорил мне, от какой массы чтения плохих статей избавил его в то время Василий Иванович, какой подробный отчет он давал ему письменно об их содержании, до какой щепетильности он доходил, когда приходилось решать вопрос относительно приема той или иной статьи, при малейшем сомнении отсылая рукопись за границу на просмотр ему, Елисееву.
Некрасов, встретив Василия Ивановича, просил назначить ему день, когда он может посетить нас. Василий Иванович пригласил его на наш журфикс во вторник. Никогда не забуду, сколько неприятностей и огорчений вынесла я во время этого появления у нас Некрасова.
Вместе с другими к нам в тот вечер пришел наш знакомый, Владимир Романович Щиглев. Это был человек вполне честный, не без некоторого и литературного дарования, но не по разуму радикальный, крайне узкий и однобокий в своих суждениях, всегда точно ищущий, на кого бы направить стрелы своего грубоватого остроумия и до неловкости прямолинейного, резкого обличения. Он был чистокровным нигилистом до мозга костей, и хотя грубость нигилизма и его эксцентричности в мелочах сильно сгладились в конце шестидесятых годов, но Владимир Романович оставался совершенно таким же, каким был в начале этого десятилетия. Для примера приведу следующее.
Однажды он пришел к нам и, увидав на столе оттиск уже гораздо раньше напечатанного в журнале перевода трагедии Софокла «Антигона», спросил:
– Зачем извлечена из архива эта азбучная старина?
Когда он узнал, что Василий Иванович собирается издать ее отдельной книжечкой, он, по обыкновению, резко заметил:
– А к вам таки, как банный лист, прилипли старые кумиры… Ведь они в свое время уже были высмеяны!
– И напрасно… Такое произведение, как «Антигона», вечно останется прекрасным поэтическим произведением, – отвечал Василий Иванович.
– А вот я считаю это с вашей стороны если не настоящей изменой знамени, то, во всяком случае, сделкою с совестью, – отрезал он.
И вот этот-то человек ненавидел Некрасова всеми силами своей души за его стихотворения, посвященные Муравьеву и Комиссарову. Его неутолимая ненависть не угомонилась и тогда, когда поэт в свое оправдание напечатал свое дивное, трогательное стихотворение «Неизвестному другу»; те же злобные чувства пылали в нем и позже, когда уже выяснилось, что стихотворение к Муравьеву, которое особенно скомпрометировало репутацию знаменитого поэта, было написано им не для приобретения личных выгод, а чтобы спасти «Современник» и под влиянием советов знакомых. Но В. Р. Щиглев презирал какие бы то ни было выяснения и смотрел на них как на принципиальную неустойчивость тех, кто думал, что можно чем-нибудь обелить, как он выражался, «гнусные преступления против общества».



