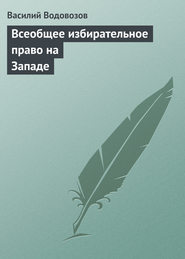 Полная версия
Полная версияВсеобщее избирательное право на Западе
То же самое постановление имеется в конституциях или избирательных законах Франции, Австрии и Венгрии, Голландии, Италии, большей части штатов Северной Америки и др. И это совершенно естественно. Политические выборы никогда не проходят спокойно; они раздражают общественные страсти и вызывают обостренную борьбу. Армия, как таковая, пока она существует в своем настоящем виде, должна быть чужда политической борьбы, – и сами военные и защитники современного военного строя всего более настаивают на этом: избирательная агитация, которая проникнет и в армию, когда она будет допущена до избирательных урн, неизбежно подорвет военную дисциплину. Там, где постоянную армию заменяет милиция (напр., в Швейцарии), там нет места для подобного ограничения; в других же странах без него обойтись трудно.
Из другого лагеря идет другое возражение против участия армии в выборах. Избирательная агитация, говорят в радикальном и демократическом лагере, введенная в армии, может дать повод к пользованию ею для избирательных целей; можно опасаться, что вооруженная сила будет употребляема на то, чтобы производить давление на избирателей. В Германии, как мы видели, военные могут быть избираемы. Французская конституция идет дальше и лишает их также и этого права. Очевидно, что в данном случае творцами французской конституции руководил не второй, а первый мотив, не стремление охранить свободу избирателей от внешнего давления, а стремление охранить дисциплину в армии, на которую может вредно повлиять участие офицеров в парламенте, с которым неизбежно связано право заниматься политикой и вступать в борьбу со своим непосредственным начальством.
Исходя из того же соображения, французская конституция лишила всех вообще чиновников права быть избираемыми в парламент, сделав ограничение только для некоторых категорий как то: министров, посланников, префектов полиции, президентов (но не членов) судов, архиепископов и епископов, профессоров и некоторых других.
В пользу запрещения чиновникам доступа в парламент в различные исторические моменты и в разных странах приводили разные мотивы. С одной стороны выставлялось опасение, что наличность в них большого числа чиновников может лишить парламент необходимой самостоятельности и поставить его в чрезмерную зависимость от правительства; говорят также, что чиновник, делающийся членом политической партии и принужденный, добиваясь избрания в парламент, участвовать в политической борьбе, не в состоянии сохранять беспристрастие в своей служебной деятельности по отношению к разным классам населения. С другой стороны выставляют как раз противоположный аргумент. Говорят, что если чиновник сохраняет в парламенте свою независимость и, являясь членом оппозиции, выступает против своего прямого начальства, то это может дурно отразиться на интересах служебной дисциплины. В зависимости от исторических и от местных условий, лишение чиновников пассивного избирательного права является то популярным требованием радикалов, то мерой, на которой настаивает консервативное правительство. Исключение чиновников из английской палаты общин было совершено в свое время, чтобы ослабить влияние правительства на парламент; в настоящее время оно удерживается потому, что министры не желают дозволить подчиненным им чиновникам говорить и действовать против них в парламенте.
Стремление ограничить доступ чиновников в парламент особенно сильно в таких странах, как Болгария, где правительство охотно проводит их туда; чтобы потом при помощи самого грубого давления на их совесть находить в парламенте необходимую поддержку. Однако в той же Болгарии всего более силы имеет и возражение противников этой меры.
– Если вы исключите чиновников, – говорят они, – то где вы, при нашей бедности в интеллигентных людях, найдете необходимое число людей, которые могли бы достойно исполнять обязанности депутатов?
Если верно, что в странах, вроде Болгарии, запрещение чиновникам доступа в парламент могло бы понизить общий уровень интеллигентности парламента, то во всех странах без исключения такое ограничение может вредно отражаться на уровне некоторых специальных знаний, которыми может и должен располагать парламент. Так, напр., запрещение доступа в него профессорам и учителям может вредно отразиться на ходе парламентских занятий при обсуждении вопросов народного просвещения. Лишение доступа в парламент судей могло бы понизить уровень знаний парламента по юридическим вопросам. Поэтому даже французская конституция, при составлении которой крупную роль играли чисто бюрократические соображения о чиновничьей дисциплине, даже она сочла нужным сделать некоторые исключения при проведении этого принципа. Против него всего более восстают те, кто, питая доверие к здравому смыслу и политическому развитию масс избирателей, считает ненужным какие бы то ни было стеснения свободы избирателей в выборе своих кандидатов. При свободной избирательной борьбе, при неограниченном праве для каждого в печати и на народных собраниях критически освещать личность борющихся кандидатов, избиратели никогда не пошлют в парламент человека, в твердости убеждений которого они имеют основание сомневаться. Зачем же нужна им указка, заранее опорочивающая целые категории людей, признанием их лишенными гражданского мужества? Есть необходимость позаботиться о защите избирателей от давления на них при выборах; но если имеется налицо главное условие правильности выборов, т. е. свобода печати и избирательных собраний, то избиратели почти всегда сумеют разобраться в достоинстве кандидатов. А если они оказываются не доросшими до своей задачи, то никакие конституционные стеснения свободы выборов не смогут принудить их действовать разумнее.
Что же касается вредного влияния присутствия в парламенте чиновников на служебную дисциплину, то есть ли нужда проводить и на гражданской службе дисциплину чисто военную? Неужели на ходе дел в каком-нибудь учреждении может отразиться дурно, что чиновник сохраняет независимость убеждений по отношению к своему начальству?
Такие соображения руководили германским учредительным рейхстагом (1867 г.), вырабатывавшим конституцию, и он решительно отверг требование правительства, настаивавшего на запрещении чиновникам быть депутатами. В германской конституции нет поэтому никаких ограничений для чиновников в их правах голоса активного или пассивного, и даже военные, как мы видели, лишенные права участвовать в выборах, всё же могут быть избраны депутатами.
Но также германская конституция сочла нужным принять одну существенную меру против подкупа правительством депутатов. «Если какой-либо член парламента, – гласит она, – получит платное место на государственной службе или повышение на ней, то он теряет свое место в рейхстаге; однако он может быть избран вновь» (ст. 21). Таким образом необходимо, чтобы избиратели одобрили каждое принятие новой должности их избранником. Подобный же принцип установлен долголетним обычаем в Великобритании и прямым предписанием конституции нидерландской (ст. 96), бельгийской (ст. 36), испанской (ст. 31) и многих др. Во всех этих странах депутат, сделавшийся министром, подлежит обязательно переизбранию. Во Франции существует такое же постановление для тех категорий чиновников, имеющих право быть депутатами, и только (по исключению) министры переизбранию не подлежат.
Некоторые конституции, даже из признающих всеобщее избирательное право или приближающихся к нему, сохраняют один остаток старины, очень существенным образом ограничивающий избирательное право, причем это ограничение получает характер чисто классовый. Мы говорим об определенном сроке проживания в одной местности, как условии, без которого никто не может быть занесен в избирательный список. Постановление о годичном сроке оседлости в английском конституционном праве, причем этот срок фактически увеличивается еще на несколько месяцев, иногда почти на целый год, временем составления избирательных списков, лишает избирательных прав не одну сотню тысяч человек, и притом почти исключительно рабочих. Лицо, принадлежащее к средним и высшим классам общества, этому ограничению подвергается очень редко, так как даже в том случае, когда оно всю жизнь путешествует по Англии или заграницею, оно обыкновенно сохраняет за собой свою квартиру, наличность которой и определяет его оседлость. Рабочий, гоняемый нуждою из одного конца страны в другой, или даже из одного участка Лондона в другой, квартиры за собой, конечно, не оставляет, и потому не имеет возможности попасть в избирательный список какого бы то ни было избирательного округа. Шестимесячный срок, установленный для муниципальных, а следовательно и законодательных выборов, 14 статьёю французского закона 1884 г. об организации муниципалитетов, имеет, благодаря своей сравнительной краткости, менее вредное значение, однако, и он вызывает недовольство французской демократии.
Благодаря этому сохранившемуся пережитку эпохи имущественного ценза, Франция может обходиться с одним избирательным списком для законодательных выборов и для выборов в органы местного самоуправления (муниципальные и генеральные советы). Но там, где принцип всеобщего голосования проведён последовательнее, там неизбежны двоякие избирательные списки. Их мы видим в Швейцарии, государстве с наиболее демократической конституцией во всей Европе и даже на всём земном шаре. Ни одно условие (кроме гражданской неправоспособности и некоторых других категорий лиц, лишенных права голоса) не ограничивает избирательного права швейцарского гражданина; ни имущественного ценза, ни периода оседлости. Но уже для выборов в кантональные советы, которые являются даже не органами местного самоуправления, а парламентами, хотя и очень маленьких государств, пришлось установить определенный срок оседлости, начиная от 3 месяцев и выше. Те же самые сроки, а в некоторых кантонах и более высокие, установлены для общинных советов, являющихся уже настоящими органами местного самоуправления. Таким образом, в Швейцарии существуют двоякие, а в некоторых кантонах и тройные избирательные списки, в которые заносятся избиратели: 1) в общешвейцарский национальный совет; 2) в кантональные советы; 3) в общинные советы[5]). Никакого противоречия демократизму швейцарцы в этом не усматривают и даже наиболее крайние партии (социал-демократическая) не требуют изменения этого принципа; точно также составление различных избирательных списков не представляет, как оказывается, никаких практических затруднений для общинных управлений, на обязанности которых оно лежит.
VI
Для того, чтобы быть последовательно демократичным, избирательное право должно быть не только всеобщим: оно должно быть также равным, тайным и прямым. Равенство права голоса требует, чтобы каждый избиратель пользовался таким же голосом как и всякий другой; один человек – один голос; так этот принцип формулируется в Англии, где граждане включаются в избирательные списки на основании обладания собственностью или найма квартиры и где поэтому лица, имеющие собственность в разных частях страны, получают право голоса сразу в нескольких округах, иногда в 10, 12 и более. Такие «плуралисты», как их когда-то назвал Чемберлен, сам принадлежащий к их числу, но в былые годы ведший горячую борьбу против этого уродливого явления, насчитываются в Англии многими тысячами и во многих округах дают перевес представителям интересов крупной буржуазии. То же самое явление, только в еще более грубой форме, существует, как мы видели, в Бельгии, где часть избирателей, удовлетворяющая требованиям известного ценза, пользуется двойным или даже тройным голосом. Система множественных вотумов явственным образом искажает принцип всеобщности голосования.
Другой поправкой к всеобщему избирательному праву, которую стараются отстоять его явные или скрытые противники, но которая в действительности есть её искажение, является система открытой подачи голосов. В былые годы защитником таковой являлся, между прочим, один несомненный и искренний демократ, именно Дж. Ст. Милль в своей книге «О представительном правлении». Милль исходил из убеждения, что человек, принимающий участие в политической жизни страны, должен иметь мужество открыто высказывать свои убеждения; раз он им не обладает, то лучше ему оставаться дома, чем идти к избирательной урне. Все реакционные элементы общества английского и континентального поддерживали Милля и защищают до сих пор это его требование гражданского мужества от избирателей; но в своем собственном лагере Милль остался почти совершенно одиноким, и та либеральная партия, к которой он принадлежал, находясь во главе правительства (первое министерство Гладстона), провела систему закрытой баллотировки (в 1872 г.), взамен ранее существовавшей системы открытой подачи голосов. Все конституции[6]), построенные на принципе всеобщего голосования (германская, французская, швейцарская, североамериканская), признают в настоящее время закрытую баллотировку, и только такие конституции, как прусская и отчасти австрийская с их нескрываемым стремлением покровительствовать интересам богатых и влиятельных классов, держатся системы открытой подачи голосов.
Есть еще одна поправка к всеобщему избирательному праву, отстаиваемая его противниками. Мы говорим о двухстепенной системе подачи голосов. Принцип прямого голосования требует, чтобы каждый избиратель голосовал непосредственно за того депутата, которого он желает. При системе двухстепенных выборов избиратели вотируют за выборщиков, причем один выборщик приходится на небольшое число избирателей. Депутата выбирают уже эти выборщики. Система двухстепенных выборов проведена для парламентских выборов в Пруссии, в Австрии, недавно еще (до мая 1905 г.) в Норвегии, а также в Соединенных Штатах при выборах президента республики; она же действовала в 1789 г. во Франции, во время выборов Генеральных Штатов. В защиту её приводят то, что избиратели недостаточно развиты, чтобы решать политические вопросы; но, говорят, они могут наметить более развитых людей в своей среде, а небольшое число выбранных таким образом выдающихся местных людей с большим политическим развитием, чем народная масса, может уже с большим благоразумием остановить свой выбор на той или иной политической программе, на том или ином её представителе. Такие соображения руководили и творцами американской конституции, когда они вырабатывали систему избрания президента; соображения эти оказывались совершенно ошибочными.
Система двухстепенных выборов редко остается таковою в действительности; обыкновенно она очень скоро теряет свой истинный характер. В тех же самых Соединенных Штатах уже на первых выборах президента и вице президента избиратели голосовали только за тех выборщиков, которые заранее дали обещание голосовать за определенных лиц; а после отказа Вашингтона от новой кандидатуры (1796), система двухстепенного голосования окончательно обратилась в фикцию, и выборщики окончательно перестали быть лицами, играющими какую бы то ни было самостоятельную роль. С тех пор и доныне они попадают в выборную коллегию исключительно потому, что дали заранее обязательство вотировать за то или иное лицо, – Клевеленда или Гаррисона, Брайана или Мак-Кинлея, Паркера или Рузвельта; вследствие этого они являются как бы подставными лицами вместо настоящих избирателей. Политические партии, выставляющие своих кандидатов на президентский пост, во всех своих обращениях к избирателям говорят: вотируйте за Рузвельта, потому что он сделает то-то и то-то, потому что за ним есть такие-то заслуги; вотируйте за Паркера, потому что он уничтожит такие-то злоупотребления, облегчит такие-то бедствия; для того же, чтобы был выбран Паркер или Рузвельт, вы должны подать голос за таких-то выборщиков, – за сим следует список выборщиков, – в каждом месте свой, – обязавшихся подать голос за желательного кандидата. Ни одна партия не обращается к избирателям с призывом такого рода: вотируйте за Джонса, Смита или Виллиамса, потому что они умные и сведущие люди, знакомые с задачами политики, и они уже сумеют выбрать для вас достойного президента.
Раз двухстепенная система обратилась в формальность, то она вредна уже, как всякая ненужная формальность, замедляющая и затрудняющая ход государственной машины. Но вред её более значителен. Не достигая своей цели, она иногда в то же время прямо искажает народное голосование, внося в него элемент случайности. Перед нами выборщик, избранный 99 голосами против 1, и другой, избранный 51 против 49. На чашки весов, решающих окончательную судьбу выборов, один бросает 99 голосов, другой 51, и 99 весят столько же, сколько 51. В результате случается иногда избрание президента большинством голосов выборщиков, но меньшинством народных голосов. Если бы тут сказывалась хоть какая-нибудь закономерность, если бы тут проявлялось хотя бы преобладание какого-нибудь класса, то эту форму избрания можно было бы защищать хоть с какой-нибудь точки зрения. Но тут мы видим действие простой, бессмысленной случайности. В Америке её оправдывает теперь столетие существования, – и только. В Пруссии двухстепенные выборы обратились почти в такую же фикцию, притом совершенно одинаково в политически развитых городских центрах и самых отсталых деревнях. Везде агитация ведется за кандидата на депутатское место и везде списки выборщиков составляются соответственно с тем, за кого они обещались вотировать. В Пруссии, правда, выборщикам представляется иногда задача, несколько более сложная, чем задача явиться в избирательное бюро и громко произнести имя своего кандидата. Когда голоса выборщиков разделились между несколькими кандидатами и вследствие этого предстоит перебаллотировка, то выборщикам нужно решить за избирателей, кого из не вполне симпатичных им кандидатов они считают более подходящим или, по крайней мере, «меньшим злом». Здесь уже начинается до некоторой степени самостоятельная роль выборщиков и вместе с тем здесь особенно явственным делается вся искусственность двухстепенной выборной системы. Избиратели были признаны способными (фактически) наметить своего кандидата в парламент; они поэтому нисколько в сущности не интересовались личностью посредника между ними и своим кандидатом, и выбирали без особенного разбора. И вот этому случайному человеку предстоит решать сложный вопрос за своих доверителей, не имея возможности получить от них инструкции. Предположим, что он выбран, как свободомыслящий: но его кандидат провалился, и ему надо решить вопрос, кто из двух неприятных кандидатов, социал-демократ или антисемит менее неприятен для его избирателей. Решит этот вопрос он, конечно, на основании своего убеждения, которое может не совпадать с убеждением его избирателей.
И вот тогда, когда двухстепенная система оказывается вполне или отчасти не фикцией, тогда депутат оказывается избранником не избирателей, а особенной коллегии, убеждения которой не тождественны с убеждениями избирателей. Они и не могут быть тождественны. Я могу вотировать за А, В или С, убежденный, что эти лица понимают политические вопросы и сумеют правильно исполнять депутатские обязанности; из этого, однако, никоим образом не следует, чтобы я был вполне солидарен со всеми мнениями этих лиц А, В или С, в особенности в том, что касается оценки личностей, и чтобы лица, намеченные этими А, В или С были бы и для меня излюбленными людьми.
– Но в этом-то и задача, – отвечают сторонники двухстепенных выборов[7]); – конечно, лицо, избранное коллегией выборщиков, будет не то же самое лицо, которое было бы избрано непосредственно избирателями, если только выборщики остановят свой выбор на нём после серьезного обдумывания и обсуждения, а не обратят второй стадии выборов в пустую формальность, как это, к сожалению, случилось в Соединенных Штатах и отчасти в Пруссии; но это-то и желательно. Мы не доверяем здравому политическому смыслу избирателей и потому переносим избрание в другую коллегию, состоящую из людей, более развитых: однако эта коллегия не чужда народу; нет, она находится с ними в живом общении. Каждая деревня имеет своих грамотеев, своих интеллигентов. Они-то и должны быть выборщиками и, конечно, их выбор будет сделан благоразумнее, чем выбор, произведенный серою мужицкою массою. Где гарантия, что она не поддастся на удочку красивых фраз и широких обещаний? Разве она знает биографии тех деятелей, которые добиваются её голосов? Разве она, никогда не жившая сознательной политической жизнью, сумеет разобраться в политич. задачах и оценить полит. программы? Не лучше ли избавить её от непосильной задачи и возложить её на более способных для её разрешения? И если не навсегда, то на первое время. Потом она обучится в школе политической жизни, – и тогда, конечно, не будет более надобности водить её на помочах.
Подобное рассуждение указывает на истинный мотив сторонников двухстепенных выборов: они исходят из недоверия к народным массам и из желания перенести политическое влияние с народных масс на определенные группы населения. Другими словами, двухстепенная система выборов есть замаскированное отрицание всеобщего голосования, или по крайней мере стремление исправить его несколько, согласно со своими убеждениями.
Помимо практической ненужности двухстепенной подачи голосов там, где она обращается в фикцию, помимо её вредности, поскольку она подчиняет выборы случайности, помимо, наконец, её противоречия принципу демократизма, поскольку она переносит центр политической тяжести с народа в особую коллегию, не вовсе лишенную классового характера, помимо всего этого она имеет два печальных последствия, к которым она может приводить.
Прежде всего избиратели, зная, что депутат явится не их избранником, чувствуют сравнительно мало охоты участвовать в выборах. Если в Соединенных Штатах двухстепенная система не препятствует страстности и оживленности борьбы, то это объясняется только исключительной важностью борьбы (президентские, не парламентские выборы). В Пруссии двухстепенность наряду с системою открытого голосования уменьшает степень участия избирателей в выборах. В Австрии это её влияние еще сильнее.
В тех землях и городах Австрии, где выборы (в курии всеобщего голосования) производятся прямым способом (Нижняя Австрия и города, Прага, Краков и др.), в парламентских выборах 1897 г. участвовало 72 % избирателей, в 1900 г. – 57 %; в землях, в которых выборы происходили двухстепенным способом (Верхняя Австрия, Богемия, Моравия и др.), в 1897 г. участвовало в выборе 35 % избирателей, в 1900 г. – 29 %, т. е. оба раза вдвое меньше. Может быть это объясняется сравнительною отсталостью земель, в которых производятся выборы по двухстепенной системе? Нет. В Нижней Австрии в курии сельского землевладения на выборах 1891 г., происходивших по двухстепенной системе голосовали лишь 28 % избирателей, а на выборах 1897 г., происходивших на основании нового закона, установившего для той же Нижней Австрии прямые выборы, уже 68 %.
Таким образом двухстепенная система явно ослабляет энергию избирателей и ведет за собою усиленный абсентеизм.
Но есть еще один не менее, если не более, важный результат этой системы. Двухстепенная система чрезвычайно облегчает и подкуп, и застращивание, и иные способы давления на избирателей. Крайне трудно подкупить 10-тысячную армию избирателей. Гораздо легче подкупить нескольких выборщиков, тем более, что относительно выборщиков всегда бывает заранее известно, как они намерены голосовать. В Австрии, в особенности в Галиции, на всех выборах практикуется еще один прием. Выборщики избраны; политические убеждения их известны; нетрудно определить, что, напр., в таком-то избирательном округе 300 выборщиков будут вотировать за оппозиционного кандидата, а 250 за кандидата желательного. И вот за несколько дней до окончательных выборов против 50 оппозиционных выборщиков возбуждается обвинение в каком-нибудь уголовном преступлении: в поджоге, вызвавшем недавно случившийся в этой местности пожар, в конокрадстве и т. д. Выборщики подвергаются аресту или объявляются состоящими под следствием и лишаются права участвовать в выборах. Вследствие этого на выборах торжествует желательный кандидат и дело кончено. Через два дня арестованные освобождаются, следствие прекращается и полиция или следователь даже извиняются перед ними. Вчерашние обвиняемые счастливы, что дело обошлось так легко; полиция, доставившая торжество правительственному кандидату, тоже счастлива; дело следовательно окончилось к общему удовольствию, – и в рейхсрате заседает лишний благонамеренный депутат. При помощи подобного приема, совершенно невозможного при системе прямых выборов, на выборах в рейхстаге в 1897 г. было достигнуто забаллотирование русинского кандидата Ивана Франко и торжество его консервативно-польского противника.
Сноски
1
Швейцария – союзное государство, которое состоит из 22 кантонов; каждый кантон представляет из себя отдельное государство, самостоятельно ведающее свои дела. Они вместе образуют Швейцарский Союз, в ведение которого входит армия, сношения с иностранными государствами, таможня, почта, телеграф и др. общие дела. Каждый из кантонов Швейцарии есть республика, т. е. государство, в котором всеми делами страны заведуют лица, избранные народом. И Швейцарский Союз в целом есть тоже республика. Такой же республиканский союз, состоящий из 15 отдельных республиканских государств или штатов, представляют Соединенные Штаты Северной Америки. Союзным же государством является и Германская Империя, но только она является союзной монархией, с наследственным императором во главе; состоит она из 25 государств, из которых 22 (Пруссия, Бавария, Саксония и др.) – монархии, а 3 (Гамбург, Бремен, Любек) – республики.

