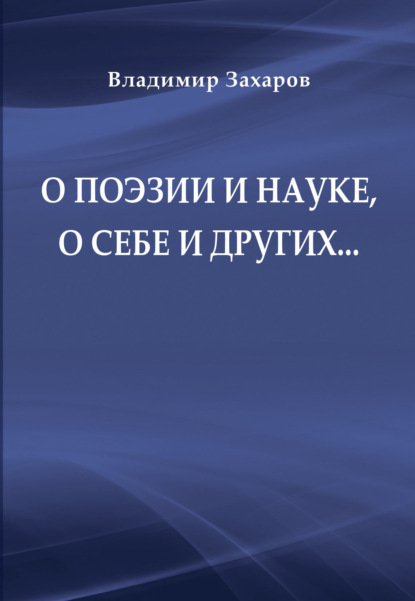
Полная версия:
О поэзии и науке, о себе и других…
В 1938 г. Михаил Львович поступил на физфак Московского университета, вместе с которым в 1942 г. уехал на время в Ташкент. В МГУ он стал учеником М.А. Леонтовича, ближайшие отношения с которым сохранил до самой смерти Михаила Александровича в 1981 г. На всю жизнь «экологической нишей» МЛ стала научная школа Леонтовича, тесно переплетенная с Горьковской школой А.А. Андронова. Роль этих школ, ведущих начало от Л.И. Мандельштама, в отечественной науке хорошо известна. МЛ дружил со многими членами обеих школ, но отношения с М.А. Леонтовичем были особыми. Один из составителей сборника М.А. Миллер написал о них целую статью «Леонтович – Левин. Творческое взаимодействие». Статья входит в третью часть сборника, посвященную научной деятельности М.Л. Левина. Составители книги посчитали уместным сделать ее достаточно краткой. Она включает еще статью Р.З. Муратова «В маленькой лаборатории» (намек на известный роман Найджела Бэлчина), содержащую краткое описание научных результатов МЛ и дополненную списком его публикаций. Из этого списка мы с интересом узнаем, что несмотря на теснейшее сотрудничество в течение четырех десятилетий, М.Л. Левин и М.А. Леонтович опубликовали совместно только две статьи (обе в 1944 г.). Может быть это как-то связано с тем обстоятельством, что в 1953 г. МЛ стал мужем Наташи, дочери Леонтовича. Наталья Михайловна является одним из составителей рецензируемой книги.
Между тем, «отношения» МЛ и Сталина развивались своим чередом. В конце войны интеллигентные юноши и девушки, жившие на Арбате или имевшие там друзей, оказались в опасности. По Арбату пролегал маршрут частых поездок Сталина на дачу и обратно в Кремль. Находчивые НКВДисты воспользовались этим обстоятельством и стали стряпать фиктивные дела о покушении на жизнь вождя. Сценарий был стандартен – группа молодежи собирается в квартире с окнами на Арбат, ведет антисоветские разговоры, а потом решает воспользоваться трофейным немецким авиационным пулеметом.
Такого рода дело было сфабриковано и против молодежной компании, в которую входил Миша Левин. Дело было совсем нешуточное. Некоторые члены «террористической организации» не выдержали давления следствия и признались в несовершенных преступлениях. Всем грозило самое худшее. В этих условиях МЛ, психологически подготовленный к случившемуся лучше других, проявил незаурядное хладнокровие и мужество. Он не только ни в чем не признался, но и, выбрав подходящий момент, развалил халтурные построения следователей, обратив внимание на одно существенное обстоятельство. Окна квартиры, в которой собирались друзья, выходили во двор, и покушение на Вождя народов было невозможно по техническим причинам. В результате обвинения в терроризме были сняты, осталась одна антисоветская пропаганда и МЛ попал в «шарашку», откуда был через год освобожден по амнистии. Впрочем, репутация неблагонадежного уродовала его жизнь еще целое десятилетие, не позволяя ему вернуться в Москву. Ситуация усугублялась тем, что в 1948 г. была арестована и на шесть лет заключена в тюрьму его мать. Тем не менее, в 1954 г. МЛ защитил докторскую диссертацию, а в 1956 г. получил, наконец, достойную работу в РИАНе.
В Москву Михаил Львович вернулся умудренным жизнью человеком твердых принципов, сочетавшим разумную осторожность и бесстрашие, едкий критический ум и огромную доброжелательность к близким. В течение последующих тридцати шести лет дом Михаила Львовича Левина был одним из центров интеллектуальной жизни Москвы, а он сам – нравственным и культурным ориентиром для членов интеллектуального сообщества, принадлежавших к нескольким поколениям. Два десятка членов этого сообщества оставили воспоминания об МЛ, собранные во второй части книги.
Среди них особенно выделяются воспоминания друзей детства Михаила Львовича – юриста М.И. Когана и известного киносценариста В.Л. Фрида, попавших в 1944 г. в лагеря по одному с ним делу, а также воспоминания еще одного друга детства – Е.Б. Пастернака, старшего сына поэта. Эти воспоминания, проникнутые самой искренней любовью к МЛ, охватывают почти полстолетия и читаются с не меньшим интересом, чем художественная проза лучшей пробы. Местами эта проза (когда речь идет о пресловутом «террористическом процессе») превращается почти в детективный роман. Эти воспоминания дают возможность почувствовать дух этих ушедших времен, ощутить стиль жизни высокого интеллигентного круга, вынужденного постоянно быть готовым к обороне, но не терявшего оптимизма и веры в нечто лучшее – не сейчас, так в будущем. В этом круге были приняты высокие нравственные стандарты, была развита взаимопомощь и взаимоподдержка, очень ценилась дружба. Весьма уважались ценности культуры, считалась абсолютно необходимой высокая образованность и эрудиция. Наука пользовалась здесь безусловным престижем, и даже намек на антинауку, вроде астрологии, был совершенно невозможен. Теперь, когда «начала разложения и разврата» (слова из воспоминаний Е.Б. Пастернака), можно сказать, торжествуют, когда общественный авторитет науки упал до нуля, а астрологические прогнозы публикуют в серьезных газетах, о той духовной обстановке можно вспоминать как о потерянном рае. И Михаил Левин был одной из самых светлых фигур в этом раю.
Это же грустное ощущение сохраняется и при переходе к чтению воспоминаний товарищей Михаила Львовича по занятию наукой – С.М. Рытова, М.В. Незлина, Г.В. Пермитина и других, вполне известных в научном сообществе людей. Из этих воспоминаний мы можем еще раз заключить, что несмотря на все ужасы времени, мы имели великую науку, расплескавшуюся сегодня тонким слоем по разным университетам мира. И данная книга – это реквием не только по М.Л. Левину, но и по «прекрасной эпохе» в истории нашей науки.
Четвертая часть книги является наболее интересной. Она содержит написанное Михаилом Львовичем лично – главным образом, в шуточных стихах и мемуарной прозе. М.Л. Левин был незаурядным литератором и мог бы стать знаменитым в этой области, если бы однажды сделал литературу главным для себя делом. У него были для этого все данные – блестящее владение стилем, наблюдательность, остроумие, ставшая легендарной литературная эрудиция. Но главным делом для МЛ стала наука, и собранное в книге литературное наследие Левина умещается на двухстах страницах. Этот объем мог бы быть много больше, если бы не трагические обстоятельства его жизни. Автор этих строк слышал непосредственно от Михаила Львовича очень грустную историю о том, как он в 1952 г., будучи административно-ссыльным в Тюмени, уничтожил целый чемодан своих рукописей, множество толстых тетрадей, исписанных каллиграфическим, квазипечатным почерком. В то время его мать находилась в заключении, а отец, профессор медицины, подвергался гонениям. В разгаре было «дело врачей».
Собранное в книге написано, главным образом, после этого печального события, многое – в последние годы жизни. Это прежде всего – воспоминания, но особого рода, в которых личность автора сознательно находится на втором плане. Это воспоминания о выдающихся людях, эссе, посвященные тем, соприкосновение жизненных путей с которыми МЛ считал подарком судьбы. Первым в этом списке стоит, конечно, Михаил Александрович Леонтович. Все эссе Левина о замечательных людях написаны любовно, но воспоминания о Леонтовиче выделяются даже на этом фоне. Я уверен, что их нужно прочесть каждому, кто сегодня озабочен судьбой науки в России, и вообще – судьбой нашей страны.
В своей точной, скупой, почти минималистской манере МЛ рисует портрет человека, принадлежащего к тому типу людей, которых так не хватает сегодня. Это человек, который предан науке, потому что убежден в ее изначальной необсуждаемой ценности. Это благородный, деятельный, полностью сохраняющий здравый смысл идеалист. На самом деле, на таких людях держится всякое нормально функционирующее общество. Такие люди не совершают громких подвигов, не делают сенсационных политических заявлений, вообще, предпочитают держаться вдали от всечеловеческого базара. Но они являются центрами кристаллизации, вокруг них возникают, невидимые поверхностному взгляду, неформальные социальные структуры, которые в будущем определяют жизнь целых поколений. Косвенно принадлежа сам к школе Леонтовича, я могу свидетельствовать об этом с полным основанием. Такие люди придают смысл существованию общества. Они есть та самая соль земли, о которой говорится в Евангелии, и вместе с тем, это люди во плоти и крови, незащищенные ни от внешнего трамвайного хамства, ни от внутренних неустройств. Слава Богу, их проблемы никогда не становятся добычей журналистов.
Следующий цикл воспоминаний МЛ – это эссе о А.Д. Сахарове, с которым Левин вместе учился на физфаке Московского университета. Несмотря на сегодняшнее обилие мемуарной литературы о Сахарове, воспоминания МЛ много дают для понимания его личности. Большая часть мемуаров о Сахарове страдает некоторой сухостью и схематизмом, может быть потому, что это воспоминания не столько друзей, сколько соратников – сначала по работе над атомным оружием, потом по диссидентству и по государственной деятельности. По свидетельству МЛ, у А.Д. Сахарова вообще было мало друзей (как и учеников по науке). Может быть, здесь сказывалось то отчуждающе исключительное, уникальное положение, которое с молодых лет Андрей Дмитриевич занимал в нашем обществе. Даже МЛ, несмотря на свою огромную открытость дружбе, называет себя только «старым университетским товарищем» Сахарова. Скорее всего, это излишняя скромность. Во всяком случае, ни один другой «старый университетский товарищ» не нашел в себе смелости четырежды навестить опального Сахарова во время его ссылки в Горький.
В своих воспоминаниях МЛ мало касается научной и общественной деятельности Сахарова. Но зато из них мы узнаем, что несмотря на некоторую замкнутость, Андрей Дмитриевич был обаятельным и не только благородным, но и отчасти наивным и трогательным человеком, обладавшим знаниями, о которых трудно было догадаться. Например, он был, можно сказать, профессиональным пушкинистом (воспоминания озаглавлены «Прогулки с Пушкиным»). Знал всего Пушкина наизусть, был осведомлен о малозначительных обстоятельствах его жизни, прекрасно представлял себе обстановку и быт пушкинского времени. Такие детали особенно важно знать сегодняшней молодежи. Самой характерной чертой российской культуры является ее «избыточность», стремление самых ярких ее представителей приобретать огромные объемы знаний, которые они не надеются и не стремятся использовать каким-либо прагматическим образом. Эта избыточность в высшей степени была у М.Л. Левина и – как мы узнаем из его воспоминаний – у А.Д. Сахарова. Сохранится ли традиция этой избыточности в будущих поколениях? От этого, на самом деле, зависит наше будущее.
В жизни Михаила Львовича немалую роль сыграл короткий, но очень насыщенный «ташкентский» период. В первые годы войны в Ташкенте размещался не только Московский университет. Сюда была эвакуирована большая часть столичной литературно-художественной и научной элиты. Здесь жили Михоэлс, Алексей Толстой и Всеволод Иванов, а также Анна Ахматова, Надежда Мандельштам и многие другие. Молодому Мише Левину посчастливилось быть интегрированным в жизнь этого круга, и можно предположить, что именно воспоминания о Ташкенте составляли основную массу уничтоженного в Тюмени литературного материала. О том, что там могло содержаться, можно догадываться, прочтя более поздние, краткие, но очень насыщенные воспоминания о Б.Л. Пастернаке и С.Б. Веселовском, в которых звучит ташкентская тема.
Прекрасные воспоминания о Пастернаке не стоит комментировать. Их просто должен прочесть каждый, кто любит этого поэта. Лаконичные же воспоминания о знаменитом историке С.Б. Веселовском вызывают размышления. Веселовский известен прежде всего как историк шестнадцатого века, досконально знавший эпоху Ивана Грозного и люто его ненавидевший. Эту ненависть, также как и интерес к той эпохе разделял и МЛ. Все разговоры МЛ с Веселовским – об Иване Грозном. Но в то время любой разговор о Грозном косвенно был разговором о Сталине. На экране шел «Иван Грозный» Эйзенштейна. А.Н. Толстой написал пьесу «Орел и Орлица». По приказу Сталина шла перелицовка в общественном сознании традиционного образа безрассудного тирана в образ мудрого, хотя и по необходимости крутого, государственного мужа, на которого Сталин хотел быть похожим. Поэтому разговоры с Веселовским были в сущности разговорами о тиранах, о происхождении тирании. Этот вопрос вызывал у МЛ жгучий интерес. В книге как-то не отражена еще одна сторона «избыточности» Левина. Он был блестящим знатоком истории революционного движения в России, в том числе и так называемой «истории ВКПб», которую он знал в лицах. Особенно его интересовало все, что касалось Сталина и этапов его восхождения к власти. Несомненно, что МЛ стремился осмыслить происшедший в России трагический разворот истории, ответить на мучающий нас вопрос: «Могло ли быть иначе?» Остается только жалеть, что МЛ ничего не написал по этому поводу.
Возвращаясь к «избыточности» Михаила Львовича, невозможно не упомянуть еще одну грань его бесконечной образованности, приводившей всех в изумление. МЛ был прекрасным знатоком английской литературы и истории, английской поэзии в особенности. Он даже сочинял шуточные стихи, лимерики, на английском языке. Уровень его знания Шекспира был вполне профессиональным. Доказательством тому служит небольшая заметка «Фортинбрас», содержащая оригинальный взгляд на интригу трагедии «Гамлет», которая была опубликована в Англии в литературоведческом журнале «Бард». При всей широте традиции российской образованности, вряд ли кто из членов естественно-научного сообщества может похвастаться подобным достижением.
Здесь время поговорить о поэтическом творчестве М.Л. Левина. С моей точки зрения, он был замечательным, очень талантливым поэтом, который по ему только одному понятным причинам никогда не писал «серьезных» стихов, ограничиваясь эпиграммами, бурлесками и «стихами на случай». В качестве мастера этих жанров он был полностью признан литературным сообществом. Некоторые из его эпиграмм стали хрестоматийными. Среди них эпиграмма на Сельвинского, присоединившего свой голос к травле Пастернака, которого до этого числил в своих «учителях». В одном из своих стихов Сельвинский сокрушался, что в жизни «не забил ни одного гвоздя».
Все позади – и слава и опала,Остались зависть и глухая злость…Когда толпа учителя распяла,Пришли и Вы – забить свой первый гвоздь.Рецензируемая книга содержит довольно большую, хотя далеко не полную, подборку стихов Михаила Левина. Составляя ее, редакторы оказались в трудном положении. Поэзия Левина меньше всего предназначалась для печати. Многие его «стихи на случай» привязаны к очень конкретным обстоятельствам и требуют весьма развернутых пояснений. Многие эпиграммы и сатирические стихи содержат вольности и колкие шутки в отношении ныне здравствующих лиц. Составители сборника включали такие стихи очень выборочно. В результате многое выпало, в том числе, например, очаровательный мюзикл «Бедная Лиза», представляющий в комическом ключе ведущих сотрудников Института теоретической физики имени Ландау. Тем не менее подборка, включающая такие шедевры, как «Из незавершенного романа» или «Янкель при дворе короля Артура», ясно доказывает, что необходимо издать отдельной книгой все, написанное М.Л. Левиным в стихотворном жанре, снабдив их подробными комментариями. При этом не стоит бояться возможных обид, люди все-таки имеют чувство юмора. Такой сборник доставил бы истинное удовольствие всем любителям поэзии.
Я не могу отказать себе в удовольствии привести два отрывка из стихов Михаила Львовича, очень мною любимых и позволяющих оценить его юмор и поэтическое мастерство. Вот – о М.В. Келдыше:
Мальчишкой став питомцем ЦАГИ,Он твердо знал, зачем в оврагеВихрь, и как крылоСебя в том вихре бы вело.И вот ввели в Семью Большую —Попал в созвездие трех К.Он президент… Он член ЦК…Он одесную… Он ошую…И как последний марафет —Гусиный шаг и артлафет.А вот – прелестный стих о Я.Г. Синае:
…дивный рыцарь,Которому нет равных в их породе,Загадочным и странным притяженьемОн манит дух мой через тьму веков.Ведь до него все рыцари сражалисьДруг с другом, или с дикими зверями,Или с колдуньей, иль с самим драконом,Но каждый раз противником их былИль ОН, или ОНА, или ОНО,В конце концов имеющее облик.А этот рыцарь в битве победитБесформенный и беззаконный Хаос!В заключении хочется процитировать слова М. Шапиро, нарисовавшем в своем коротком тексте наиболее точный «культурологический» портрет Михаила Львовича Левина: «…постоянно отдавая и поглощая массу творческой энергии, он в первую очередь был не производителем и не потребителем. Он – уникальная культурная среда, в которой реально осуществлялась связь разных областей бытия, разных миров и эпох».
Лето, 1997 год
Пространство как предмет поэзии и науки
Особое место ученымИз редкой породы зануд,Которые черное черным,А белое белым зовут.А. Цветков1. Пространство – крайне многозначное слово, если употреблять его с определением или дополнением. Откройте любую газету, и вы найдете там многочисленные «пространства». На первых страницах будет «экономическое пространство» или «таможенное пространство». Слава Богу, «жизненное пространство» сегодня не в моде. На последних страницах, где об искусстве, вы встретите «сценическое пространство» или «пространство рисунка». Можно найти и более утонченные примеры. Скажем, у Германа Гессе есть «духовные пространства Аквината». Или «пространство меж душой и спящим телом». Это строчка из стихотворения Бродского «Большая элегия Джону Донну».
И все же то многообразие смыслов, которое может вложить в слово «пространство» гуманитарно образованный человек, – просто ничто по сравнению с тем количеством «пространств», которыми оперирует математика. Здесь их многие десятки. И новые открываются постоянно. Я вспоминаю конец пятидесятых годов, ранние студенческие годы. Тогда вышла в свет монография Гельфанда и Шилова «Пространства основных и обобщенных функций». «Загляните в нее, – говорил мне один из моих учителей, скромный доцент математики Ф.В. Широков[1], – и вы найдете в ней целый зоопарк интереснейших пространств!»
Большинство математических пространств имеет узкоспециальные названия. И все же, многие математики мечтают, чтобы какое-нибудь из вновь появившихся на свет пространств было названо их именем[2]. Потому что главнейшие пространства, изучаемые в математике, названы именами великих. Таково, прежде всего, «пространство Евклида». Таковы «пространство Гильберта» и «пространство Банаха» (первое является частным случаем второго). Таковы же и «пространство Римана», «пространство Лобачевского», «пространство Эйнштейна». Эти последние нам еще понадобятся, потому что они имеют прямое отношение к основному предмету настоящей статьи – к пространству без определений и дополнений, к «просто пространству», к «Пространству» с большой буквы.
Давайте не будем углубляться в философскую схоластику, а примем точку зрения «наивного реализма». То есть, признаем безоговорочно, что это пространство существует, что мы в нем живем, и что оно, наряду со временем, является первейшей из данных нам данностей. Относительно него мы можем ставить чисто естественно-научные вопросы. Как это пространство устроено? Что мы о нем знаем? К какому классу пространств, используемых в математике, оно принадлежит?
Существуют и другие вопросы, относящиеся к сфере гуманитарной культуры – почему слово «пространство» занимает такое исключительное место в нашем языке, во всех языках, почему оно столь широко используется в абсолютно разных сферах человеческой деятельности, почти не имеющих между собой пересечений? Почему мы его так часто употребляем? Попробуем ответить сначала на второй вопрос. Ответ кажется довольно очевидным и состоит в следующем. Мы относимся к пространству весьма эмоционально. Иначе невозможна была бы ни скульптура, ни архитектура, ни живопись. Пространство интимно близко нам. Каждую минуту это ощущают только люди с психическими отклонениями, для которых пространство является источником беспокойства и страха. Существует «клаустрофобия» – боязнь замкнутого пространства, существует и «агорафобия» – боязнь открытого пространства. Здесь показывает свою вершину необъятный айсберг эмоционального отношения к пространству, скрытый в нашем подсознании. Именно этот эмоциональный айсберг и заставляет нас постоянно обращаться к слову «пространство» в нашей речи, именно его существование делает пространство предметом искусства.
Чтобы ответить на первый вопрос и продвинуться дальше, мы должны сделать одно утверждение, избежать которого не удастся. С любой точки зрения – и с рациональной, и с эмоциональной – основным атрибутом пространства является протяженность, длина. И мы сознательно или бессознательно сопоставляем ее с размерами нашего тела. Отсюда идут все старинные меры длины. Фут – это просто foot, нога (в данном случае – ступня), а миля – тысяча двойных шагов римского легионера. Конечно, метр – по замыслу его изобретателей – одна десятитысячная доля четверти земного меридиана. Здесь дышит совсем иной дух – дух эпохи Просвещения, дух энциклопедистов. Но, в конце концов, это ведь тоже около трех футов. Такой выбор мер длины определился удобством и практическими нуждами.
Но соотношение размеров пространства с нашими обыденными длинами имеет и концептуальное значение. Эмоционально мы совершенно по-разному воспринимаем пространство размером с чайную чашку и пространство размером с Тихий океан. С точки зрения физики тоже совершенно не очевидно, что пространство размером с атомное ядро имеет те же свойства, что пространство масштаба звездных расстояний. Между этими масштабами разница, как минимум, в тридцать порядков величины. И тем не менее, оказывается (это эмпирический факт), что свойства пространства столь разных масштабов вполне тождественны. Всюду это одно из простейших с точки математики пространств – трехмерное ортогональное вещественное пространство Евклида. В нем выполняется теорема Пифагора и справедлив пятый постулат – через данную точку можно провести только одну прямую, параллельную данной прямой. Иначе говоря, в нем справедлива та геометрия, которую мы учили в школе.
В сущности, школьная геометрия – это физика нашего пространства. Вместе со временем оно составляет несколько более сложный объект – пространство Минковского или четырехмерное псевдоевклидово пространство сигнатуры «один-три». Геометрией этого пространства является специальная теория относительности. Некоторые люди, даже имеющие достаточное образование, до сих пор ее опровергают, хотя эти теория подтверждена огромным количеством фактов, в том числе неопровержимым феноменом существования работающих ускорителей элементарных частиц.
Итак, мы ответили на вопросы «первого уровня». Теперь возникают вопросы «второго уровня». Почему все обстоит именно так, как оно обстоит? Почему наше пространство – это пространство Евклида, а не, скажем, пространство Лобачевского, то есть, Риманово пространство постоянной отрицательной кривизны? Или, наоборот, Риманово пространство постоянной положительной кривизны (трехмерная сфера)? Почему оно, вообще, трехмерно? Сколько фантастики написано о четвертом пространственном измерении! а может быть, оно действительно существует?
Все это трудные вопросы, из числа тех вопросов «о началах и концах», которые так не любил герой Фазиля Искандера мальчик Чик. Проще всего сказать, что это метафизические вопросы, и что наука на них дать ответа не может. «Так установил Господь!» – сказал бы уже упомянутый Фома Аквинский.
И все-таки наука, отнюдь не возражая этому тезису, никогда на этом уровне не остановится. Она всегда будет стараться понять «вторичную причину» (по выражению того же Фомы Аквинского), то есть механизм, при помощи которого оказалось, что мы живем именно в этом пространстве, а не в каком-нибудь другом. Всегда найдется два-три знающих предмет профессора, и вокруг каждого – стайка пытливых мальчиков, постарше Чика. И эти мальчики за несколько лет выучат все, что знает их учитель, а затем употребят весь свой талант и молодой пыл для того, чтобы придумать нечто новое, и если не решить, то, по крайней мере, отодвинуть эти метафизические вопросы, подняв их на новый уровень и поставив совсем по-другому. Сегодня этим мальчикам совсем неуютно в России. Им не платят денег и не особенно считают за людей. Но они знают, куда поехать. Можно в Принстон, к Виттену, Вильчеку или Саше Полякову. Можно в Бонн, к Юрию Ивановичу Манину, можно в Кембридж – к Пенроузу или даже к самому Хокингу[3]. Есть в мире и другие места. Но хватит об этом.
Следующие вопросы «второго уровня» относятся к гуманитарной сфере. В чем причины нашего эмоционального отношения к пространству? Можем ли мы дать какое-нибудь «топографическое описание» мира эмоций, который связан с переживанием человеческим индивидуумом феномена пространства? Второй из этих вопросов целиком относится к области искусствоведения. Ему, собственно, и посвящен весь предлагаемый читателю том. Об этом и данная статья, в которой главным образом обсуждается тема пространства в поэзии.



