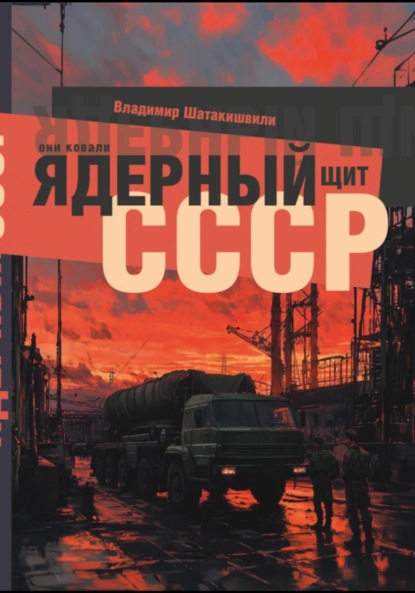
Полная версия:
Они ковали ядерный щит СССР
– Ну а с Королёвым удалось при таком количестве народа пообщаться?
– Конечно. Обнялись, обменялись дружественными рукопожатиями, а уже во время тоста он снова вспомнил эпизод первого нашего знакомства, благодарил за внимательное к нему отношение и даже в шутку сказал, что я был его телохранителем во время приездов на Урал.
– А что из спиртного было предложено?
– На столе было всё: армянский коньяк, грузинское вино, русская водка, шампанское. Я в этот раз пил вино, Сергей Павлович только коньяк, как всегда, мало, мой сосед Байбаков – водку. Дружеское отношение Королёва, его рассказ о «подвигах» на «Маяке» сразу расположили ко мне и Николая Константиновича. После этой встречи и до окончания отдыха, мы стали больше общаться и почти подружились, обменялись телефонами, хотя больше никогда не виделись.
– Знаете, Иван Никифорович, что самое удивительное в вашем рассказе? Из перечисленных персонажей той памятной встречи в живых остались только Байбаков и Медяник. 5 марта 2006 года в Колонном зале Дома Союзов торжественно отметили девяностопятилетие Николая Константиновича. Выступавшие отмечали выдающиеся заслуги нашего земляка перед страной. Было много почётных гостей из числа бывших секретарей ЦК, министров союзных и республиканских, представителей стран ближнего зарубежья. Среди присутствовавших и выступавших с поздравлениями были Н.И. Рыжков, Г.А. Зюганов, Ю.М. Лужков, Я.П. Рябов, Н.И. Масленников, Ю.П. Баталин, Е.С. Коршунов. Каждому гостю вручили сувениры и книгу «Байбаков от Сталина до Ельцина».
А 2 июня 2007 года исполнилось 95 лет Медянику. Родной город достойно поздравил его в этот день.
– С академиками вот ещё какая петрушка вышла, – спохватывается Иван Никифорович. – Большинство из них работали на постоянной основе в Дубне, Арзамасе-16, КБ-2, КБ-3. К нам на «Маяк» приезжали в основном на испытания собственных изобретений. Иногда получалось так, что у себя он что-то изобрёл или открыл, и нужно было внедрять в производство, а тут выходили нестыковки, влияющие на срок создания бомбы. Время поджимало, никаких сбоев не допускалось. И тогда по личному указанию Сталина всех ключевых учёных, участников проекта, перевезли к нам – для окончания монтажа и пуска в эксплуатацию основных производственных мощностей. Те три специальных двухэтажных коттеджа были заполнены именитыми жильцами. Соблюдался строжайший режим секретности. О том кто приезжает или уезжает, знали всего несколько человек: директор комбината, его заместитель по режиму, уполномоченный Совета Министров, я и, может, ещё один-два человека. Было чертовски приятно, когда на торжественном банкете в честь двадцатилетия первого испытания один из академиков поднялся и предложил тост:
– За «шефа», который нас встречал-провожал, укутывал в тёплые тулупы!
Подняли меня, и весь зал, человек двести-триста, зааплодировал.
Тут ещё вот что можно добавить. Большинство академиков – физиков, химиков, математиков – на момент работы в проекте по созданию атомной бомбы были людьми засекреченными. Это уже после успешного испытания, 29 августа 1949 года, партия и правительство по достоинству оценили их достижения, посыпались ордена, медали, звёзды Героев, Сталинские, Ленинские, Государственные и даже Нобелевские премии. Если мне не изменяет память, то только трижды Героев, среди тех, кто имел отношение к бомбе, стало одиннадцать человек.
– Иван Никифорович, возможно, я сейчас удивлю вас. Мы много говорили о великом Курчатове, а знаете ли вы, что в своё время он спас меня от крупных неприятностей?
– И в каком же году это было?
– В начале восьмидесятых.
– Ну ты, брат, и загнул! Игоря Васильевича не стало в 1960-м, тебе всего восемь годков тогда и было.
– И тем не менее, это так.
Приведу для читателей отрывок из моей первой книги «Шкатулка колоритных современников».
«Стол президиума»
В Москве я обычно снимал номер в гостинице «Орлёнок» – любимой, демократичной, всегда гостеприимной и доступной. Зимой восемьдесят третьего с Володей Аветисовым мы поселились в «Орлёнке» на три дня. Накануне отъезда домой отправились в центр Москвы, заказали столик в элитном и закрытом для людей неартистического круга ресторане ВТО. Там радовало всё: прекрасная кухня и отличное обслуживание, потрясающее внимание к человеку и возможность своими глазами лицезреть столичных знаменитостей – людей театра и кино, о встрече с которыми мечтают в молодом возрасте все. Повторяю: я не отношусь к артистическому кругу, меня, говоря языком театра, в этот жизненный спектакль ввёл Валерий Шейн, большой друг Бориса Розенфельда, распорядитель концертных программ Москвы. Ресторан начинал жить полной жизнью ближе к полуночи – с того часа, когда в театрах заканчивались спектакли, и артисты отправлялись ужинать, общаться друг с другом, расслабиться за рюмочкой коньяка или водки, отойти от волнений, после спектакля. Днём же мало кто заглядывал сюда. Мне очень хотелось не удивить Володю Аветисова, а показать ему, что частые мои поездки в столицу принесли свои плоды: я познакомился с интересными людьми, окунулся в мир искусства, обрёл связи, без которых посещение даже такого ресторана, как в ВТО, было невозможно.
Побродив по городу, в половине восьмого вечера отправились на Пушкинскую площадь, в тот самый ресторан. Встретил нас Борис Николаевич, официант, с которым договорились заранее, проводил к заказанному столику, и я с удивлением прочитал табличку: «Стол президиума». Такая табличка давала возможность не беспокоить нас, потому что уже к половине одиннадцатого зал был переполнен. А табличка была своеобразной охранной грамотой: уж так постарался Борис Николаевич. «Стол президиума» был шикарно сервирован. Думаю, что дизайнеры ресторанного бизнеса ели свой хлеб не зря: всё было оформлено со вкусом, изящно, богато. Множество закусок, спиртное, хотя Борис Николаевич знал, что я не имею пристрастия к выпивке. Но он не мог знать вкуса моего друга и, естественно, как того требовал протокол сервировки, поставил бутылку армянского коньяка. Сама обстановка располагала принять на грудь, и мы по две-три рюмочки пропустили.
Осмотревшись, заметили, что в зале свободных мест нет, кроме наших двух. И тут Борис Николаевич беспокоит нас: не будете ли столь любезны, посадить рядом двух дам. Против дам мы не возражали, но, честно говоря, не были расположены заводить новые знакомства. Он объяснил ситуацию:
– Наши постоянные клиентки, обе актрисы.
Буду откровенен, обе дамы были милы, красивы и, как потом выяснилось, действительно работали в театре – то ли в ТЮЗе, то ли в театре при Доме культуры автозавода имени Лихачёва. Не могу быть сегодня точным, прошло много лет. При появлении молодых женщин предложили закусок не заказывать: у нас их достаточно, и всё не тронуто – аппетитные, красиво оформленные зеленью, разными кулинарными прибамбасами в виде закрученных в спирали колец моркови, лука. Розетки овощей, холодная говядина, таявшая во рту, ветчина, оливки, маринованные грибочки – прямо выставка достижений народного хозяйства, да и только! А вот спиртное попросили добавить.
И понеслось! Всегда контролирующий себя Володя не пил, а я, со страстью произносить тосты, взял управление столом на себя. Нашим соседкам тосты нравились, и это прибавляло энтузиазма. События развивались по нарастающей и были достойны внимания Эльдара Рязанова – для очередного его киношедевра, когда мастер заостряет комедийное начало до такой тонкой грани, что за ней может произойти трагедия…
К полуночи я набрал свою норму и, как стахановец, превысил показатели. Когда уже собрались уходить, стал настаивать на том, чтобы наших спутниц отвезли домой. Володя пытался остановить меня, урезонить, напомнив, что рано утром у нас самолёт, что времени на сон не остаётся. Но остановить меня было невозможно. Володя не мог бросить друга на произвол судьбы, оставить одного в ночной Москве с захмелевшими дамами, зная мою способность швыряться деньгами по поводу и без.
На такси добирались долго, не представляя себе, как далеко забрались наши милые дамы. Я то дремал, то приходил в себя и по этой причине маршрут не запомнил. Володя, хотя и ясно видел дорогу, но Москву знал плохо. Единственное, что врезалось в память, это памятник Курчатову. Помню, как вышли из машины, как дамы пригласили нас к себе на чашечку кофе для бодрости. И мы пошли! Зачем? Правда, предварительно договорившись с таксистом, что он подождёт нас минут пятнадцать. Володя был очень недоволен ночным путешествием. На часах – два часа ночи, а мы вдалеке от центра, пьём кофе на окраине… Есть от чего прийти в негодование. Пролетели и те пятнадцать минут, и даже больше. Наконец, мы прощаемся, к своему счастью, находим такси на месте, садимся и благополучно возвращаемся в гостиницу.
Всё! Концерт окончен, можно расслабиться и даже чуть-чуть вздремнуть… Стрелки часов показывают три часа ночи. Таксист торопится в парк, у него заезд, и тут как гром среди ясного неба:
– Где пиджак? – волком взвыл я. – Володя, скажи, где я мог оставить пиджак?
На его лице тоже нарисован ужас. В кожаном пиджаке, который я снял в прихожей, было всё: билеты на самолёт, деньги, паспорта, другие документы…
Протрезвел я мгновенно, вспомнил, как приехали, как снял пиджак и остался в шерстяном пуловере, как покидал дамское гнёздышко на далёкой окраине, как набросил на себя дублёнку, забыв про пиджак. Вот она, та самая грань, за которой таится трагедия! Что делать? Мы не знали ни фамилий случайных подруг, ни их адресов, ни номеров телефонов, да и были ли они? Единственное что запомнилось, – памятник Курчатову! «Спасибо вам, Игорь Васильевич, спасибо за тот спасительный знак! Вы, конечно, большой учёный, физик, мы воздаём вам славу! Но сейчас именно вы, Игорь Васильевич, должны помочь, спасти меня от разорения!» В таком полусумасшедшем бреду выскакиваем на улицу. Счастье, что у гостиницы дежурят машины такси.
– Куда едем? – приободряется один.
– Если сможешь отыскать памятник Курчатову, едем с тобой!
У водителя – глаза на лоб. В четвёртом часу ночи врываются в салон двое сумасшедших, и ошалело интересуются достопримечательностями столицы. Как на это реагировать? По нашему виду он понял, что дело нешуточное, и в работу включился. Памятник отыскали. А дальше? Два-три квартала проехали – тщетно. Во всех окнах ни одного огонька. Дом всё же отыскали. А по непристойным надписям в лифте поняли, что мы на верном пути. Позвонили. Дверь квартиры открыли. Да, это они, наши спасительницы! И пиджак в прихожей жив-целёхонек! Проверили – ценности на месте: паспорта, деньги, билеты… Всё, спектакль окончен! Публика может отправляться по домам. Женщины говорят наперебой:
– Ваш забытый второпях пиджак сразу заметили, но поздно – вы уже покинули дом. По гостиничной визитке стало ясно, где искать, решили утром сообщить администратору.
Не знаю, позвонили бы они в гостиницу или нет, но, думаю, что именно так бы всё и произошло. Хорошо, что актрисы оказались порядочными женщинами: не тронули ни деньги, ни документы, иначе не выбраться нам из западни, которую сами себе и устроили. Заказал себе, детям и внукам: принимая спиртное, будь осмотрителен и бдителен. Это я отношу на свой счёт, прикидывая на себя данную заповедь, занося её в собственные нравственные скрижали.
– Да, согласен, интересное приключение. Хорошо ещё, что удачно для тебя закончилось.
С молекулярного уровня – на атомный!
– Или, к примеру, ещё случай: когда другое светило науки – Николай Антонович Доллежаль – по приглашению Игоря Васильевича пришёл к нему в Лабораторию N№2 (она стала потом Курчатовским атомным центром), академик сказал с места в карьер: «Ты спец в химическом машиностроении, вот и давай вместе поработаем! Нужен реактор для производства плутония». – Иван Никифорович лукаво улыбнулся. – Не буду врать: разговора этого я не слышал, и слышать не мог, но читал в интервью. Правда, много-много лет спустя. Очень похоже на Курчатова. Ну а Доллежаль, тоже невероятного ума человек, сразу понял, для чего это нужно, и заметил, что его научные интересы «не совпадают с атомной наукой…»
Курчатов сказал: «Вы раньше работали на молекулярном уровне – теперь поработайте на атомном»! Остроумным был Игорь Васильевич, это все знали. И что любил розыгрыши, тоже знали, а всё равно попадались «на удочку».
Я вот вспомнил про калоши. Так и здесь он дал вволю посмеяться людям. Все ставили калоши при входе в лабораторию. А калоши-то с одинаковой байковой подкладкой – малиновой – так и сияют, так и сияют! А чтобы не перепутать этот «малиновый звон», в калоши прикрепляли инициалы хозяина. Так наш Борода взял да у начальников, довольно высоких по рангу, поменял инициалы. Хохоту было на час, когда они пытались засунуть туфли не в свои… чуть не сказал «сани». Хотя так оно и есть на самом деле.
Или вот ещё. Все мы там, на «Маяке», знали, какая жуткая секретность была в «хозяйстве Курчатова» на Лубянке: листка бумаги просто так не вынесешь – всё подотчётно. Взял листок, исписал – сдай под расписку. Нарушать режим было нельзя. А Игорь Васильевич возьмёт, да созорничает: сожжёт в пепельнице бумагу, потом смеётся: «И в комнате долго пахло нарушенным режимом…»
Остановимся на время. Дадим возможность Ивану Никифоровичу пережить волнение от невольно оживших воспоминаний.
Отступление автора
По изученным мною документам, а это публикации в прессе, воспоминания очевидцев, книги В. Новосёлова и В. Толстикова «Тайны «Сороковки», П. Журавлёва «Мой атомный век», документальная книга В. Броховича «Химический комбинат «Маяк», коллективный юбилейный сборник «Творцы атомного щита», посвящённый 50-летию города Озёрска (такое имя получил бывший Челябинск-40 со знаменитым «Маяком») складывается картина того нелёгкого и героического времени. Картина, прямо скажем, не самого радужного тона…
После того как в августе 1945-го американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, и мир впервые узнал о последствиях этого страшного монстра, Сталин немедленно отреагировал на это тревожное событие: нужно оперативно дать понять американцам, что и мы не лыком шиты.
А это означало, что советские разработки ядерного проекта, начатые в 1943 году и прерванные неотложными военными заботами, следовало оперативно восстановить. И действительно, нужно было мобилизовать советских учёных, занятых этой проблемой, физиков, химиков, работников малого и среднего специального машиностроения – на выполнение поставленной задачи.
Нужен был толковый научный руководитель проекта.
В Кремле Политбюро рассматривало двух кандидатов – Игоря Васильевича КУРЧАТОВА и Абрама Исааковича АЛИХАНОВА, высокообразованного человека, ученика знаменитого физика Иоффе. Именно он, Алиханов, в сорок третьем году при выборах в Академию наук прошёл в академики, обойдя Курчатова. Теперь пришла очередь Курчатова – обойти на полкорпуса Алиханова.
Лаврентий Берия вкрадчиво и, как бы раздумывая, обратился к Сталину:
– Может быть, всё-таки – Курчатов?
– Курчатов так Курчатов, – согласился Сталин, явно довольный.
Игорю Васильевичу выделили кабинеты и в Кремле, и на Лубянке под неусыпным оком КГБ! Там он изучал чертежи, схемы, документы, доставленные в Москву из-за рубежа.
Что же это за документы такие? Откуда и кем добыты? Сколько ещё нерасшифрованных штирлицев ждут свидания с нашим любопытством и нашей неосведомлённостью? Какой кровью и изобретательностью, какой смекалкой, сколькими жизнями наших разведчиков были добыты эти секретные документы, мы, очевидно, никогда не узнаем. Правду могут узнать наши внуки и правнуки. Возможно…
Но «подвиг наших разведчиков» – предмет особого разговора о них, истинных героях незримого фронта, и, естественно, мечта кинематографистов и писателей.
Игорь Васильевич оценил значение этих документов: это были накатанные ориентиры для научных исследований по урановой проблеме, дающие возможность нашим учёным избежать многих ошибок и сократить время для создания собственной атомной бомбы.
Нужно ли говорить, что всё это держалось в строжайшем секрете?!
У Алиханова уже в ту пору была не просто союзная, а мировая известность. Но предпочтение, отданное высшим партийным руководством Игорю Васильевичу Курчатову, никак не повлияло на их дружеские отношения. Никаких разногласий, зависти и обид между академиками не возникало никогда – они оставались друзьями и единомышленниками.
В те годы секретная лаборатория N№ 3, которую возглавлял Алиханов, впоследствии была преобразована в Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ), занималась теми же урановыми проблемами, что и лаборатория N№ 2, ставшая Курчатовским атомным центром.
Разница в том, что первая атомная бомба заявила миру о ядерной состоятельности Советского Союза в 1949 году, а первое испытание водородной бомбы – ещё более ужасающего создания человеческого разума (или – безумия?) – произошло в 1955 году.
Именно тогда академики Алиханов, Курчатов, Александров и Виноградов обратились к партийному руководству страны с письмом, в котором предостерегали ЦК от использования этого супероружия, грозящего миру полным уничтожением:
«Нужно все разногласия между мировыми державами решать только политическими методами. Нужна новая международная политика. Новая война становится просто невозможной».
По-своему приняли и поняли значение этого документа наши горе-политики. Маленков поддержал пацифистскую озабоченность учёных. Хрущёв письмо придержал и в нужный момент использовал его как «политическую близорукость» Георгия Максимилиановича Маленкова и без жалости сверг товарища по партии.
Вернёмся мысленно на заседание того Политбюро, где утверждалась кандидатура научного руководителя атомного проекта. Я представляю тот «священный» ужас на лицах и в глазах членов сталинского Политбюро, когда вслух было произнесено имя и отчество Алиханова: Абрам Исаакович. Читателям нового демократического общества взять в толк истоки этого ужаса не под силу: что из того, что у Алиханова лицо «кавказской национальности»?
Что из того, что он имеет имя и отчество, наоборот, – явно не «кавказского происхождения»? Но в те, уже теперь далёкие годы, значение имело всё, вплоть до формы носа и ушей. Да и на собеседовании Алиханов вёл себя слишком уж независимо, был беспартийным, что вообще считалось недопустимым для советского учёного такого ранга.
В институте, которым руководил Алиханов, отсутствовала субординация: общаться с коллегами можно было в любое время. Такой «разгул демократии» в советском учреждении был чуть ли не вызовом существующим порядкам и самому государственному строю.
И ещё значительный, почти криминальный штрих: в институте Алиханова работал один из самых крамольных советских диссидентов, доктор физико-математических наук Юрий Орлов. Не помогали бесконечные «чистки»: Алиханов умел держать удар.
Ему «простили» всё: и имя-отчество, и кавказскую внешность, и независимость, и беспартийность, и Юрия Орлова (до поры, до времени, конечно). Главное: Алиханов – гениальный учёный. И разработку более отдалённых перспектив по созданию водородной бомбы доверили именно ему. Точнее, его институту – ИТЭФу, носящему его имя. Но это произойдёт много позже.
А в ту послевоенную пору ему хватало и признания, и засекреченной славы. Ему хватало его работы – поглощающей и ответственной. Его ценили и уважали коллеги, друзья, среди которых и «физики» и «лирики» с мировыми именами.
Говорят, что, когда в среде интеллигенции разгорелся спор, кто важнее: сторонники рационального устройства мира (физики) или сентиментального его восприятия (лирики), первым развенчал в прессе глупость такого деления академик Алиханов.
Сам он – человек с потрясающе красивым и значительным лицом, вдумчивыми глазами и всеми яркими признаками «художественной внешности» – был похож скорее на артиста. Это сводило с ума женщин, которым посчастливилось побывать в его обществе и поговорить с ним, что бывало им порой не под силу.
Мощь его интеллекта, знаний, безупречный и тонкий вкус истинного ценителя искусства привлекали к нему людей, равных по запасу духовного потенциала.
– В нашей компании две «Славы», – шутил Алиханов, – Слава Отечества и моя жена – Слава Рошаль… Ну, а если заскочит на огонёк Рострапович, Славы будет три!
– А мы куда относимся?! – шутливо «вскипали» Арам Хачатурян и Мартирос Сарьян, охлаждаемые, правда, благодушным Дмитрием Борисовичем Кабалевским.
Там, в алихановском доме, в Черёмушках, конечно же, звучала музыка. Может быть, под портретом Алиханова, написанном талантливой рукой Сарьяна, Слава Рошаль – лауреат Международного конкурса скрипачей – и Арам Хачатурян, человек горячего нрава и автор зажигательной музыки, давали концерт. Музыка была возвышенной, утончённой, классической: от Моцарта, Вивальди, Чайковского, Прокофьева – до Шостаковича, сидящего тут же и замирающего от страха в ожидании звуковой нотной опечатки в собственных опусах.
В любом зале, где исполнялась его музыка (это подтверждают многие документалисты, писавшие о Шостаковиче, его знакомые, друзья, жена – Ирина Антоновна), он – гений музыкального Олимпа – как школьник, боялся чужих ошибок в собственных сочинениях.
Опечаток, как правило, не было. Но было недоумение от другого… Шостакович говорил Алиханову: «Абрам Исаакович, у вас прекрасный дом. Но как вы можете жить так далеко от консерватории?» Фраза, ставшая потом крылатой, была растиражирована в музыкальном обществе, на знаменитых дачах ленинградского и московского элитного бомонда: в Репино и Комарово, Переделкино, Жуковке и Барвихе. По-детски наивному в быту Дмитрию Дмитриевичу казалось, что и деревня Черёмушки под Москвой находится в запредельном «тридевятом царстве» – чуть ли не на краю света.
Именно под заголовком «Настоящий физик должен жить поближе к консерватории» газета «Известия» 17 апреля 2004 года поместила статью Сергея Лескова, приуроченную к столетию академика Абрама Алиханова.
Золотые Звёзды Героев Социалистического Труда, звания лауреатов Ленинских, Сталинских, Государственных премий, ордена разных знаковых достоинств дождём посыпались на учёных-атомщиков после успешного испытания под Семипалатинском.
Орденом Трудового Красного Знамени был награждён и Иван Никифорович Медяник.
– ВСЕ ЛЮДИ, указанные мною в списке, знамениты по-своему, – возвращается к разговору Иван Никифорович. – О каждом можно писать книги. Да, они, собственно, уже и написаны. Только у одних – а их большинство – известность со знаком «плюс», у других – со знаком «минус». Но ведь мы тогда ни о чём негативном не знали. Мы были детьми своего времени: коммунистами, комсомольцами, все вскормлены одной идеологией, преданны высокой идее построения коммунизма. Оказалось – были заложниками ложной идеи.
– Но попробовал бы кто-нибудь тогда даже заикнуться об этом! Реальностью была Великая Октябрьская революция, реальностью были заветы Ленина, реальностью были съезды партии с километровыми газетными резолюциями и докладами – и всё как будто было для блага простого народа.
И мы верили. И трудились, не оглядываясь на рубль. А оглядываться было нужно: так выходит по теперешнему пониманию.
Я с добром вспоминаю Бориса Глебовича Музрукова. Был он директором «Маяка», который именовался Химическим комбинатом имени Менделеева. По профессии машиностроитель. А раньше возглавлял «Уралмаш»! Когда меня принимали на «Маяк», лично беседовал со мной, попросил составить график по восстановлению автохозяйства.
А хозяйства-то, по существу, и не было – машины стояли, где попало, ремонтными мастерскими именовались только одни навесы над ямами, да и машин, как мы их называли по статусу крупного предприятия «подвижным составом», почти не было
– Рассказал ему о своих планах. Он уважительно выслушал как товарищ товарища, а был уже в звании генерал-майора. Человек серьёзный, справедливый. Свои ошибки признавать умел. Честно говорил об этом. Голоса не повышал. Но и тихим голосом можно так разнести в пух и прах, что мало не покажется.
Как вот и со мной было. Поскольку приближалась зима, а она на Урале не сахар с лимоном, срочно нужны были отапливаемые помещения для автомашин. Я имел опыт «сочинений» подобного рода, и развернулся: привели в порядок рабочие места и начали строить настоящую ремонтную зону, гараж-стоянку. Нужны были и свои бензозаправки: горючее в бочках привозили. Разобрался и с этим делом. Потом поездил по округе, предложил своим транспортникам создать поточную линию ремонта: что-то ремонтируется на одних стендах, что-то – на других.
Всё шло по утверждённому плану. Придумал я надстроить над гаражом второй этаж – помещение для конторы. Удобно? Удобно. Случай этот подсказал рациональное решение.
Когда Музруков увидел уже готовый продукт – наше строение, то сурово наказал: есть нарушение финансовой дисциплины, хотя мы строили за счёт прибылей. Объявил мне выговор не повышая голоса, как настоящий нагоняй. Но только до праздника. К 7 Ноября выговор был снят. И за то же самое «нарушение», только иначе сформулированное: «За хорошую подготовку гаража к зимним условиям», мне была объявлена благодарность. И премию дали.

