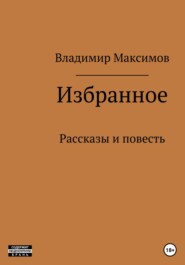
Полная версия:
Избранное
– Из улуса – никуда! – напутствовал он нас перед отъездом, обращаясь в основном к Николаю Ивановичу, как самому опытному и старшему по возрасту. – Я на водовозке, с Серёгой, сгоняю махом туда и обратно. Через день, крайний срок – через два, вернусь. Привезу новые долотья с алмазами и запчасти для дизеля. Может, и Миша уже будет свободен. Вместе тогда прикатим. Хотя и при нём мы, я чувствую, весь октябрь с этой долбаной скважиной здесь проторчим…
Я был рад вынужденному безделью, поскольку мог вволю читать, трижды
в день только прогуливаясь в малюсенькую деревенскую столовую с четырьмя столами на шестнадцать посадочных мест, где нас кормили, по распоряжению директора совхоза, очень хорошо и, в основном, вкуснейшими, сочными бурятскими позами. Иногда, лёжа на заправленной серым суконным одеялом постели, я прерывал чтение и смотрел в окно: на жёлтый простор степи, на мелко сеющий дождь, шуршащий за стенами дома, стоящего на краю улуса. Слушал мерное гудение печи от сгорающих в ней сухих поленьев, заготовленных бывшими хозяевами этого добротного жилья, в поисках лучшей доли покинувших сии пустынные и бедные края. Оставив в доме почти всё, как было при них: кровати, шифоньер, стол, стулья, табуретки и даже старинный комод с пустыми выдвижными ящиками. Приятно было и то, что Николай Иванович, с двумя новыми членами бригады, не пристают больше ко мне с предложением «сыграть в дурачка пара на пару, а не переводить попусту время, портя глаза за чтением книг, от которых практической пользы никакой», а тихонько разговаривают о чём-то между собой за дощатой, крашенной голубой краской перегородкой, в кухне, попивая из алюминиевых кружек портвейн и закусывая чёрным хлебом с килькой в томатном соусе.
Я попеременно читал две новые книжки: «Подорожник» Николая Рубцова и «Во сне ты горько плакал» Юрия Казакова. И был в восторге от них. От грустной искренности стихов Рубцова и от изысканно прозрачной, проникновенной прозы Казакова. После чтения я какое-то время пребывал в состоянии некой элегической, светлой печали. В глубине души мечтая об искренней, чистой любви и о том, что, может быть, и мне когда-нибудь удастся написать о пережитом так же хорошо.
– Игорь, к тебе, – показался в дверном проёме, почти полностью заслонив его, Николай Иванович, загадочно чему-то улыбающийся.
– Кто? – не без усилия возвращаясь к действительности от приятных мечтаний, спросил я, положив книгу на подоконник над кроватью, вставая с постели.
– Девушка, – ещё шире разулыбался Николай Иванович, уловив моё недоумение и пропуская в комнату местную почтальоншу – очень молоденькую девушку.
– Ветров? – для порядка осведомилась она, желая придать себе, при малом росте и тщедушности телосложения, больше значимости.
– Да.
– Вам телеграмма. Распишитесь, вот здесь – в получении.
– Разве у вас на почте есть телеграф, милая фея? – изумился я, заметив, что своим комплиментом окончательно смутил бедную девушку, которой на вид было лет шестнадцать, не более.
– Нет, – серьёзно пояснила она. – Нам их из райцентра привозят, с молоковозом, который от нас каждый день молочную продукцию забирает. Вот, возьмите, – протянула она свёрнутый вдвое серый листок бумаги.
Телеграмма была следующего содержания: «Ветрову И.В. срочно явиться управление. Задумов».
Задумов был начальником нашего СМУ «Водстрой».
«И чего я ему понадобился, да ещё срочно?» – размышлял я, добираясь на попутных машинах до города и прибыв в управление только к концу рабочего дня.
В кабинете начальника застал и нашего бригадира.
– Молодец! Оперативно отреагировал на телеграмму, – похвалил начальник. – Проходи, садись, – царственным жестом указал он на два ряда стульев, стоящих вдоль длинного стола, торцом примыкающего к его обширному рабочему столу. – Мы тут с Михаилом Сергеевичем как раз обсуждаем, кем тебя в бригаде заменить… Ты парень грамотный, с высшим образованием. Весь буровой процесс, по словам бригадира, освоил. Одним словом, расти тебе надо, Сергей.
– Игорь, – поправил я.
– Так вот, – кажется, совсем не обратив внимания на мою поправку, продолжил Задумов: – Решили мы отправить тебя подучиться по нашей специальности. Поедешь в город Батайск. Это рядом с Ростовом-на-Дону, только на левом берегу реки. Пройдёшь там необходимый полугодовой курс, сдашь, как положено, квалификационные экзамены, получишь, если всё будет хорошо, – каким-то своим мыслям улыбнулся он, – удостоверение мастера. Расти тебе надо, – повторился он и на мгновение задумался, прервав торжественный ход своей речи, – в смысле карьерного строительства, – закончил он свой блистательный монолог. И, совсем уже радостно, поражаясь, по-видимому, собственному благодушию, добавил: – А там, глядишь, из обычных мастеров станешь бригадиром или мастером участка. А со временем, – веско подытожил он, хмелея от собственной дерзости и великодушия, – может быть, и меня на посту сменишь. – И, явно не веря своим словам, весело, но скромно хохотнул. – Короче, Юрий (Я не стал его вторично поправлять. Большой начальник, человек занятой – столько всяких дел. Где ему помнить, как зовут какого-то простого работягу, пусть даже из лучшей бригады управления), к пятнадцатому октября ты должен быть в Батайске. Иди в бухгалтерию – там тебе выпишут необходимые документы. В кассе получишь расчёт, аванс и – вперёд к своему индивидуальному светлому будущему. Мастер участка расскажет, что к чему, как и куда. Ну вот, один вопрос порешали, – удовлетворённо потёр он руки и, повернувшись к Мельнику, заговорил уже с ним, не дав нам с бригадиром перекинуться и парой фраз.
В своём кабинетике под лестницей, ведущей на второй этаж управления, где обычно толклись бригадиры Усть-Ордынского участка, Судаков оказался один.
– Значит, покидаешь нас, – приветствовал он меня, приподнимаясь из-за стола и указывая на стул, стоящий напротив. – Читал я давеча приказ, читал. Ну что ж, всё правильно, расти тебе надо, Игорёк. Чё на одном месте-то топтаться.
«И чего они все заладили: "Расти тебе надо", будто я лилипут какой-то», – отчего-то раздражённо подумал я, усаживаясь на стул.
В числе прочего мастер участка поведал, что со всего управления на учёбу направляют только меня одного. Что там, где мне предстоит учиться, централизованно готовят буровых мастеров со всей страны. И что по окончании необходимого курса я, скорее всего, буду переведён на Тулунский участок, так сказать, для кадрового его укрепления.
– Ибо там, – невесело заметил Судаков, – «полный разброд и шатание». Бригадиров хороших – раз-два и обчёлся, мастеров нормальных, не запойных, тоже мало. В бригадах вообще бич на биче сидит и бомжом погоняет. Контингент для бригад набираем откуда придётся. Любого берём, можно сказать, с распростёртыми объятьями, особенно зимой. И всё равно почти во всех бригадах участка – недокомплект. Работа, сам ведь знаешь, небось, прочувствовал уже, каторжная. А если ещё и нужное количество плановых метров не выдавать, то и зарплата – не ахти какая… Вернёшься из Батайска, мастером участка у тебя Галемба Василий Исаевич будет. Он тамошний, тулунский. В управлении поэтому редко бывает, далеко… К тому же воровайка, по-моему, редкостный. Всё в дом прёт, что плохо лежит. Впрочем, что не плохо – тоже тащит. И цемент, и трубы обсадные… Так что, если не посадят до твоего возвращения, будет твоим непосредственным начальником. Ну, прощевай что ли, – протянул он мне свою сухую мозолистую руку.
– Лучше, до свидания, – проговорил я в ответ на его крепкое рукопожатие.
– Как скажешь – пусть так и будет, – он встал и проводил меня до двери кабинета.
* * *
И вот, вновь осенью, правда, не сырой и серой, как моя последняя осень
в Питере два года назад, а сухой, солнечной, прозрачной, во всём своём великолепном разноцветье, одним словом, такой, какой она ещё нередко бывает в наших неюжных широтах в сентябре, я должен был – уже в который раз после окончания полугодовых курсов в Батайске – отправляться за четыреста километров в Тулун. Название городка я переименовал для себя, чтобы не так тоскливо было при мысли о нём, на французский манер. И даже мысленно произносил вместо Тулун – Тулон. Ощущая какое-то необъяснимое, с грустинкою, очарование мечты. Увы, несбыточной. И совершенно несовместимой с реалиями моей тогдашней жизни.
Отправляться мне надо было в свою «пьяную бригаду», где, по традиционным наставлениям начальника управления на общей планёрке по понедельникам, я должен был, впрочем, как и все остальные, «организовывать бесперебойный процесс бурения и выдачи "нагора" плановых метров». Не посаженный же до сих пор в тюрьму Галемба, здоровенный мужик, с вялыми «брылями» щёк и выпирающим вперёд животом, некой своей заострённостью больше напоминающий стенобитное орудие, придерживался того же мнения, утверждая, что работу в бригадах должны налаживать мастера и бригадиры. Ему же и без того хватает дел по обеспечению бригад всем необходимым.
Для своевременного «выбивания» и «добывания» этого самого всего необходимого для бурового процесса мастер участка весьма успешно пользовался своим «стенобитным орудием», вальяжно открывая им двери кабинетов некрупных начальников районного масштаба. Крупных же начальников Василий Исаевич побаивался и в обращении с ними был трепетен. Стоит также сказать, что безудержный напор мастера участка обычно возникал тогда, когда предполагалась, в том числе и личная выгода. Ибо немалая часть того, что выбивалось Галембой, оседало потом на его личном, добротном и обширном подворье, обнесённом высоким глухим забором («от завистливых глаз») из струганных досок. Что казалось подавляющему большинству жителей сего провинциального городка невиданной роскошью и расточительством. «Такие доски и – на забор!» И если кому-то ненароком доводилось подойти к усадьбе близко, из-за забора начинал раздаваться злобный, хриплый, надрывный лай цепных и, судя по всему, злобных псов.
Когда я обращался к Василию Исаевичу, изредка появляющемуся на стационаре, организованном им на окраине города, с каким-нибудь вопросом, он обычно отвечал:
– Твои проблемы – ты и решай…
Стационар наш состоял из голубого вагончика на восемь спальных мест – по четыре, в два яруса, с двух его сторон, с крохотной кухонькой посередине, разделяющей «спальные отделения». Умывальник и удобства, естественно, на улице. Довольно обширный, заросший бурьяном пустырь, на котором располагался вагончик, как и усадьба Галембы, был обнесён сплошным забором, только из горбыля. Судя по всему, у Василия Исаевича была страсть к высоким «непроходимым» заборам. В одном месте этого сооружения, правда, можно было, отодвинув доску, держащуюся на единственном верхнем гвозде, выйти к заболоченному лугу у небольшой, неспешно журчащей, плавной речушки, за которой открывался прекрасный раздольный вид с далёкими предгорьями, теряющимися в неясной дымке.
Я всегда уезжал в бригаду с неохотой. Однако на сей раз в моей поездке в Тулун был всё же один плюс. Туда, через день после моего отъезда, должна была, на свадьбу к своей однокурснице, приехать и Маргуша (Рита, Маргарита, Марго – в зависимости от моего и её настроения и её поведения). И мы договорились встретиться у «дворца бракосочетаний», точнее, у здания городской администрации, где будет проходить регистрация брака, поскольку дворцов в Тулуне не бывало и в помине. Городок был, в основном, деревянный, одноэтажный и весьма унылый, словно пропылённый насквозь ветрами минувших веков. И приезжая туда, у меня возникало единственное желание – как можно скорее его покинуть.
На стационаре я обнаружил, увы, уже привычную картину. То есть не застал бригадира и ещё одного члена бригады, прикомандированного к нам примерно месяц назад. Трое других архаровцев находились в бесчувственном состоянии, отдыхая с перепоя.
Надо сказать, что бригадир у нас был толковым, щеголеватым тридцатилетним парнем, из местных. Однако обнаружить его дома я тоже не смог.
Жена, не очень опрятно одетая девушка лет двадцати, с детским выражение лица и маленьким, всё время орущим у неё на руках ребёнком, на мой вопрос: «Где Сергей?» – только горестно вздохнула, пожав плечами. А когда из другой комнаты к матери босиком по довольно грязному полу прошлёпала чумазая девчушка, цепко ухватившаяся за подол её халата и с любопытством уставившаяся на меня, женщина, звонко шлёпнув дочь по руке, пальцем которой та сосредоточенно ковыряла в носу, злобно, не скрывая раздражения, бросила сначала мне в лицо, а затем, когда я уже покидал сей «гостеприимный» дом, в спину:
– Сергей ваш, наверняка, у какой-нибудь сучки своей заночевал!.. У него же их пруд пруди, пол-Тулуна, не считая зазноб по деревням… Как же, первый парень на деревне! Пока, конечно, не напьётся, как свинья…
Быстро произносимые ещё какие-то слова, словно пулемётная очередь, догоняли меня, пока я шёл от порога дома к калитке. И столько ненависти было в них, что казалось, это не слова, а сердитый рой ос догоняет меня.
На последних словах, довольно точно характеризующих иные, к счастью, не частые, состояния бригадира, я осторожно закрыл перекошенную хлипкую калитку, держащуюся на единственном шарнире. И неказистый дом, и изгородь вокруг него явно не соответствовали достатку Сергея, ибо работал он, когда не пил, зверски. Но и пил он тоже не по-человечески, запоями, продолжавшимися иногда неделю, а то и более. И становился сразу худым, чёрным, с мешками под глазами и невыразимой тоской во взоре. Будто весь мир становился ему постыл оттого, что чего-то недодал. Но больше всего в этом мире, это было видно и невооружённым глазом, он опостылел самому себе, от бесцельного, как ему казалось, своего существования. Жизни – ради зарабатывания денег. Частенько я наблюдал этот раздрай – между существом и существованием человека – и не только у сильно пьющих людей.
Обычно после очередного запоя, немного оклемавшись, бригадир начинал «пахать», как трактор, загоняя и себя, и бригаду, словно все мы на какоето время становились марафонцами, из последних сил преодолевающими нелёгкую дистанцию.
Наряды о выполненных работах он поручал отвозить в управление мне. Сам же, на какое-то время, возвращался в семью и принимался за домашние дела: чинил крышу дома, натягивал на теплицу новую полиэтиленовую плёнку или исправлял постоянно выламываемый в одном и том же месте –чтобы сократить путь к винному магазину, палисадник. Правда, хватало такой мирной жизни ненадолго. До получки или аванса. Деньги, как всегда, привозил сам Галемба, производя расчёт бригад на стационаре. После его ухода обычно и начиналось «братание» и «основное веселье», ради которого так жестоко вкалывали эти люди. Сопровождалось всё это «разбирушками» давнишних обид или пьяными клятвами в верности бригаде и бригадиру, разбитыми носами, соплями, слезами, блевотиной и жуткой грязищей, в которой проистекали подобные пьянки.
Возвращаясь от бригадира, я решил к Галембе пока не заходить. Глядишь, Сергей и сам объявится на стационаре. Тем более что завтра я встречаюсь с Маргаритой, и, скорее всего, она пригласит меня с собой на свадьбу. «Имею право – отдохнуть!» – решил я. К тому же без бригадира, по технике безопасности (после Батайска я это знал точно), забуриваться всё равно нельзя. Да и с кем забуриваться-то? Когда ещё орлы мои придут в себя, обретут более-менее человеческий облик, начнут помаленьку соображать?..
Немного походив по городу, посидев на берегу реки Ии, за автовокзалом, я вернулся на стационар уже во второй половине дня и застал там ту же картину. Все трое членов бригады продолжали беспробудно дрыхнуть прямо в одежде на своих полках. Двое довольно молодых, в одном отделении, а грузный, с размытой внешностью и неопределённым возрастом мужик – в другом. Причём храпел он нещадно и разнообразно: с какимто клокотаньем, посвистом и всхлипыванием, поминутно облизывая сухим языком сухие же губы, прерывая на какой-то миг могучие рулады.
Рядом с рундуком, на котором он почивал, на полу у изголовья, виднелось большое, расплывшееся, как коровий «блин», пятно уже немного подсохшей блевотины. Да и в суконные штаны, судя по всему, он тоже подпустил. Запах мочи, как нашатырный спирт, продирал аж до печёнок.
Я плотно закрыл дверь в отделение храпуна, мысленно удивляясь тому, как это можно в такую теплынь ходить в суконных штанах? Поразмыслив: «Что делать?», решил для начала перемыть посуду с присохшими к ней остатками пищи. «Обогреватели, видно, с вечера гоняли нещадно – всё засохло, не отскребёшь. Надо накипятить воды. Заодно и чайку заварить да попить потом на крылечке».
Начав мыть посуду, я обнаруживал в эмалированной миске фрагменты традиционной закуски: макароны и килька в томатном соусе. А, судя по огромному количеству пустых бутылок, валяющихся повсюду, «квасила» бригада дня три подряд, не меньше. Набор горячительных напитков был также традиционным: портвейн «Три семёрки» и водка – любая, лишь бы в ней было сорок градусов. Соотношение тоже, похоже, не нарушало общепринятых обычаев «рыцарских пиров» – два к одному. То есть две бутылки портвейна на бутылку водки.
Оставшейся после мытья посуды горячей водой вымыл пол в кухне, где кроме электрообогревателя стояла ещё газовая плита на две конфорки и – небольшой столик с четырьмя табуретками. В оцинкованном ведре, в котором грел воду, оставалось ещё с полведра тёплой воды. Подумав, вымыл пол в том отделении, где мне предстояло спать, выбросив пустые бутылки в большой металлический сварной четырёхгранный мусорный контейнер, стоящий за вагончиком и плотно закрывающийся тяжёлой крышкой. А, поразмыслив ещё немного, благо, что в вагончике имелась корабельная, для мытья палубы, неизвестно как сюда попавшая швабра, преодолевая отвращение, вымыл пол и в том отделении, где мне спать не предполагалось. Открыв настежь все три двери: входную, расположенную посередине вагончика, к которой подходило высокое крыльцо и две «спальные», выходящие в малюсенький тамбур перед кухней, отделяемой от него только дверным проёмом, – и, как следует, проветрив помещение, почувствовал, что голоден. С утра ничего не ел, а время близилось к вечеру. Так что идиллическое чаепитие на крылечке, с любованием закатом, придётся заменить полноценным ужином.
Я почистил и нажарил целую сковороду картошки, обнаруженной в ведре на полу кухни. Открыл банку сайры, купленную днём. Разрезал кружочками луковицу, также найденную в ведре с картошкой. Заварил покрепче чай и, сидя на чистом, с прогретыми за день досками, крыльце, с удовольствием поел, с грустью глядя на вечернюю зарю, малиновым цветом сгорающую там, вдалеке, за речкой, у неведомых мне таинственных предгорий, припомнив есенинское: «О, верю, верю – счастье есть! Ещё и солнце не погасло. Заря, молитвенником красным, пророчит нам благую весть»… «Да, вся разница здесь только в том, что Есенин видел зарю, то есть начало чего-то. А я вижу закат…» – посетила меня не очень-то весёлая мысль.
Рано утром разбудил назойливый шорох.
В полумраке вагончика при тусклом свете, сочащемся из небольшого квадратного окна в торце балка, я со своей верхней полки разглядел стоящего на коленях парня, копающегося в рундуке. Он тщательно перебирал всевозможный хлам, хранящийся там, безуспешно разыскивая что-то. Более того, я сразу догадался, что именно он ищет, из угла в угол, передвигая и перерывая содержимое объёмного рундука: рабочую одежду, кирзовые и резиновые сапоги, верхонки, кое-какие инструменты…
Мою догадку он тут же и подтвердил. Переместившись по полу, всё так же на четвереньках, ко второму рундуку, он стал расталкивать спящего на нём напарника.
– Кеха, слышь, просыпайся! Ты не помнишь, куда мы бутылку портвейна на похмел заныкали? В твой или мой рундук? Давай, слезай! – уже нетерпеливо толкал он напарника.
Через какое-то время они уже оба шарили во втором рундуке.
Ничего не найдя и там, подались во вторую половину балка, ненадолго тормознув в кухне, где, я понял это по звяканью кружки о край ведра, они пили воду, принесённую мной вчера из колодца и поставленную на табурет под таким же квадратным, как в спальных отделениях, окном.
«Пошли тормошить третьего, – понял я. – Поспать, похоже, больше не удастся». Взглянул на часы, едва разглядев маленькую часовую стрелку, показывающую седьмой час. «Ещё хотя бы часок подремать, – потягиваясь в своём спальнике с новым, привезённым из города чистым вкладышем, подумал я. – Тем более что они меня, похоже, не заметили».
В вагончике было свежо, и я, укрывшись с головой, почувствовал, что стремительно погружаюсь в сладкий сон. К тому же на второй половине после непродолжительной возни наступило затишье. «Значит, всё-таки что-то нашли», – понял я и заснул окончательно.
Вторично разбудил меня истошный бабий визг, доносящийся из другой половины вагончика.
Я машинально взглянул на часы. Было пятнадцать минут девятого. «Выходит, часа полтора, как минимум, я всё-таки поспал…» Ещё немного полежав, я вновь услышал противный визг. Встал, спрятал чистый вкладыш от спальника в свою спортивную сумку, надел футболку, штаны, кроссовки, отчего-то с радостью ощущая свежесть нового чистого сентябрьского утра. Тихонечко вышел в тамбур и, так же тихо подойдя к открытой двери второй половины балка, увидел следующую картину.
На своём рундуке, в разорванной спереди надвое некогда белой майке, со свисающим над ремнём суконных штанов вялым пузцом, сидел храпун, зажимая рукой нос, из которого по немытым пальцам стекала струйка крови. Он негромко поскуливал тонким голоском, никак не соответствующим его комплекции. По тембру я понял, что визжал именно он. Над визгуном могучей глыбой навис здоровяк Иннокентий. Рядом с ним стоял второй, кажется, Кирилл, который и разбудил меня сегодня в первый раз своим шорохом. Комплекцией он был помельче, но так же грозен, как его напарник. Два этих «Зевса-громовержца» явно пытались что-то получить от храпуна, имени которого я не знал, поскольку он влился в бригаду в моё отсутствие.
– Ну, что за разбирушки?! – произнёс я громко, стараясь говорить строго, но спокойно.
Парни резко обернулись.
– О, мастер! – удивлённо воскликнул Иннокентий.
Кулак его был измазан кровью. И почему-то, глядя на него, я определил, что он, наверное, более чем на голову выше меня.
«Такого если бить, то первым. Резко, под дых. До челюсти можно и не дотянуться», – прикинул я на всякий случай. Может быть, ещё и потому, что больно уж грозным он казался.
– Немая сцена из комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор», я думаю, будет длиться не вечно, – снова повысил я голос. – Рассказывайте, что здесь происходит.
– Да вот этот хрен, – пылая праведным гневом (точно, Кирилл, вспомнил я), – заговорил поджарый, кивнув на сидящего мужика, – крысятничать вздумал. Одну бутылку портвейна из наших двух, – мы все с вечера решили по бутылке на брата оставить на похмел. А он, – замахнулся Кирилл на мужика, сразу вжавшего голову в плечи, – и свою, и одну нашу ночью выжрал. Хорошо ещё, что Кеня, – кивнул он в сторону здоровяка, – вспомнил, что мы два пузыря оставляли.
«Раз вспомнил, значит, ещё не все мозги пропил», – подумал я, а вслух сказал:
– А где четвёртый?
– Да кто его знает, – заговорил уже Иннокентий. – С нами всё, чин по чину, сидел третьего дня, а потом куда-то сгинул. Может, и домой сбёг.
– А бригадир где?
– Не ведаем, – снова ответил монументальный Кеха. – Галемба дня два, кажись, назад, был, сказал, чтобы мы к двенадцатому в норму пришли и чтобы как огурцы с грядки были. Вот мы и хотели сёдня похмелиться и завязать с этим делом. А этот, – он свирепо посмотрел на сидящего страдальца, – бутылку спёр. Сегодня у нас двенадцатое?
– Тринадцатое, – ответил я. – Вчерашним днём живёшь, Иннокентий.
– Слышь, мастер. Не в службу, а в дружбу, дай на пузырь – трубы горят нестерпимо.
– Так вы же аванс неделю назад получили? – начал я уже привычную игру. – Где деньги-то? Столько пропить – это ж какое здоровье надо иметь!
– Здоровьем-то мы не обижены, – вдруг хохотнул сидящий на рундуке толстячок, заискивающе глядя на Иннокентия. – Глотки у нас лужёные, животы калёные, что наши водоносные трубы, – окончательно развеселился он, поднимаясь с рундука, и все трое весело заржали, будто он только что рассказал забавный анекдот.
После недолгих разговоров денег на три бутылки портвейна всё же пришлось дать, с уговором, что кроме этого «стратегического запаса» никаких дополнительных добавок не будет и с завтрашнего дня, чтобы все как один приступили к работе.
– Я постараюсь найти бригадира и схожу к мастеру участка – уточню, где бурим…
– Да ладно, всё и так ясно! Чё лишний раз объяснять-то, – нетерпеливо встрял Иннокентий, не дав мне договорить. Полученные деньги явно «жгли» ему руку. – Завтра, как штык, все будем в строю! – заверил он. – Ты только бригадира найди. Он, скорее всего, у Дашки – давашки, – хохотнул Кеша, подмигнув Кириллу. – У той, что рядом с магазином живёт. От нас он к ней намылился позавчера… Кирюха, – обратился он к приятелю, – махом за бутылями! Одна нога здесь – другая там! – В голосе Иннокентия звучал мажор до блеска начищенных оркестровых труб. – Ой, погоди… – освободившейся от купюр рукой он пошарил в глубоких карманах мятых брюк и выскреб оттуда мелочь и хлебные крошки. Высыпав всё в ладонь Кирилла, строго взглянул на толстячка и тихо, но внятно проговорил: «А ты, Стёпа, чего жмёшься?» Тот молча, отогнув матрас, достал несколько засаленных рублей, также передав их Кириллу. – На закусь, – деловито пояснил Иннокентий. – Килечки там, папирос каких купишь, хлеба, пивка для рывка…

